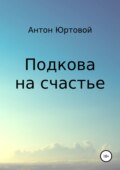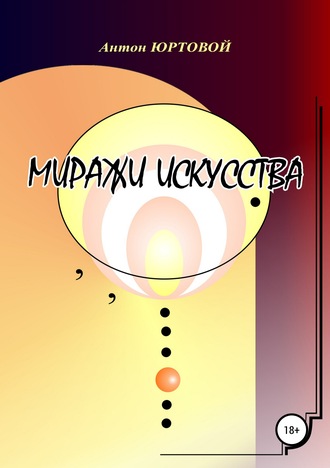
Антон Юртовой
Миражи искусства
Наследие
НА ВЕСАХ ПОЧИТАНИЯ И ЗАБВЕНИЯ
[Какова сегодня судьба творческих наработок Бахтина]
Отзывы о людях, ставших известными, получаются всего ценнее, когда они исходят от современников, очевидцев, тех, кому судьбой довелось бывать с оригинальными личностями рядом, знать их непосредственно в жизни, в быту. Но и то – если их рассказы по-настоящему непредвзяты, честны.
Из воспоминаний о Михаиле Бахтине, преподававшем в Саранске, нахожу лучшим то, как о нём отзывалась его соседка по подъезду в доме на улице Володарского Антонина Шепелева. Пожилая женщина не оглядывалась на подрисованную молву о человеке, который на протяжении многих лет был у неё и у других соседей по дому, что называется, на виду. Говорила простыми словами и о простых вещах. В результате мы узнали о страдальце филологе едва ли не больше, чем изо всех других воспоминаний вместе взятых, написанных как в России, так и за рубежом.
Он, оказывается, не любил Мордовию и город, в котором здесь жил и работал. Огорчался из-за того, что не мог рассчитывать на понимание и чуткое интеллигентное отношение к себе не только со стороны учреждений власти, но и тех, кто окружал его на работе.
Из страха не «измараться бы» об него никто из них не сочувствовал ему в его беде, свалившейся в виде необоснованных официальных репрессий и чёрного пятна последующего непризнания невиновности, непрощения за судимость, что исключало для него возможность перебраться на постоянное жительство в Москву или в другой более-менее крупный город и вынуждало мириться с нескончаемым прозябанием в тоскливой провинциальной глуши. А в дополнение к этому простые обыватели норовили обобрать его под угрозой пакостных доносов. Не было сочувствия даже когда он стал калекой, ходил на костылях. Наверное, оттого он много курил, замыкался в себе и выглядел отрешённым, странным. А как нужно было ему понимание! Имея остатки былых связей в столичных мирах, он признавался, что ему самому не всегда нравятся многие собственные изыски в лингвистике и литературологии, что в них он нередко идёт по стопам других подвижников. Эти сомнения в себе, а также полное на протяжении долгих лет отторжение его трудов со стороны издателей и научных учреждений делали его фигурой поистине трагической.
Если отрешиться от пиетета и фальши в отношении имени и личности Бахтина, то, полагаю, было бы за лучшее признать, что трагическое в нём не устранено и спустя десятилетия после его кончины. В написанных им от руки сочинениях горьким напоминанием о загубленной судьбе смотрятся так до сих пор и не разобранные редакторами и составителями отдельные торопливые строки и слова, набатом звучат непродолженные записи размышлений. Таких мест особенно много в трудах, которые относят к разряду философских. Как не печалиться этим! Человек подлинной творческой устремлённости и чистоплотности, гуманитарий по духу, по складу ума, способный безбоязненно ставить новые важные вехи при альтернативном осмыслении жизни, он так надеялся, что написанное им сможет быть с готовностью принято его современностью, будет полезно ей. Но современность ничего не взяла. Не хотела, боялась брать. И ему хотя и хватило сил выстоять перед обстоятельствами, но не хватило жизни.
Новые поколения комментаторов как только могут искажают информацию о достоинствах всего, что Бахтин дал отечественной культуре. Был ли он философом? Говорят, что был, даже при всяком случае подчёркивают это. Но подчёркивают отнюдь не профессиональные и по-настоящему компетентные мыслители, а краснобаи, устроители разного рода юбилеев, коллоквиумов, так называемых научных чтений, конференций и проч. На них съезжаются люди, в своём большинстве никогда, кажется, не читавшие Бахтина. Мне в этом пришлось убедиться во время научно-практической конференции памяти Рудины Александровой, проходившей в Мордовском университете.
Об Александровой там говорили как о талантливом учёном, известном разработками в этике. Якобы изыски в этом предмете были достойным развитием гуманитарного вклада, оставленного Бахтиным. Никто с этим не спорил, но и разъяснений, в чём состоял означенный вклад обоих учёных, не прозвучало никаких. Неподготовленность к обсуждению вопроса раскрыл самый высокий гость мероприятия – Абдусалам Гусейнов, академик РАН, в ту пору заместитель директора, а позже директор института философии РАН. Когда кто-то из выступавших посетовал, что, к сожалению, даже люди науки не читают Бахтина в достаточном объёме, академик тут же с этим согласился и заметил, что он сам прочитал только одно его сочинение. Оно было им названо. Я заглянул в книгу. Это был начаток произведения, оставшийся непродолженным. Считанное количество строк…
То, что у Бахтина усматривают философского, вовсе не есть по-научному строгое изложение. Это скорее вдумчивое рассматривание собственного внутреннего мира с попытками объяснений страшно интересного, но ещё непознанного в человеке. Именно в этой сфере духовного он размещает свои рассуждения о проблемах речевых жанров, о постижениях философии слова и языка, о новых задачах познания. Тексты любопытны тем, что воспринимаются как довольно свежие. И здесь ещё одна сторона трагизма в соотношении с именем исследователя. Многие обозначенные им положения и догадки успели получить обстоятельную последующую проработку и являются достоянием научной и общественной мировой мысли, но бахтинское разглядеть в таких трудах практически невозможно. Его наследие игнорировалось, тщательно укрытое массовым губительным замалчиванием в те времена, когда ещё в нём была острая потребность. И новым генерациям исследователей не оставалось ничего другого, кроме как воссоздавать существовавшую сферу знания, как правило, с нуля, перешагивая через историческое поле.
Примерно в такой же мере не использованы и пока ещё компетентно не вполне осмыслены многие труды Бахтина непосредственно филологические, то, что было ему профессионально ближе всего. Только в конце его жизни он был удостоен признания за отменное обширное комментирование творчества гигантов отечественной и зарубежной художественной литературы. Признания практически только за рубежом. Происходило это в период наиболее интенсивной критики СССР, как тоталитарного государства, со стороны Запада. И указанному разделу наработок мэтра филологии вполне уместно был тогда присвоен некий диссидентский знак. Можно, пожалуй, утверждать, что с этим отличительным знаком Бахтин воспринимается и сегодня, иначе говоря – исторически, в том числе в России.
В свете такого сомнительного уровня восприятия его имиджа удаётся без труда во вред делу выставлять на первый план политизированную подоплёку, искусственно припаивая к ней человеческую личность. Что, кажется, и происходит на самом деле. Перекошенный эффект играет при этом свою неблаговидную роль. Постоянно подогреваются неточные, произвольные оценки оставленного Бахтиным наследия.
Его мнимые знатоки могут обратить на себя внимание, к примеру, тем, что расскажут вам о полифоничном подходе или методе Достоевского при работе над своими романами. Это, мол, Бахтин раскрыл великую загадку известнейшего романиста. Насколько верно такое толкование? Филолог традиционной российской школы, не крививший ни пером, ни совестью, Бахтин только вчерне и довольно обтекаемо формулировал то, что могло бы по-своему служить объяснением глубинности эстетики у классика литературы. Но в высшей степени сомнительно, чтобы писатель ХIХ века, автор плотных по духовной насыщенности повестей и романов о социальных язвах своего времени, создавал их, примеривая к какому-то, изобретённому самим же методу или к шаблону. Где в истории написания образцов художественной словесности можно было бы отыскать пример подобных, избираемых самим творцом и для себя же условных рамок? Разве что в советской эпохе, с её методом соцреализма? Достоевский, надо полагать, попросту изумился бы чьей-то неуклюжей попытке рассматривать его духовную лабораторию как персональную скорлупу, как прибежище. По-настоящему же речь тут может идти, пожалуй, только об устойчивом непонимании комментаторами и исследователями методологии самого Бахтина, определённой размытости в нём воззрений на мир, что, к сожалению, могло иногда приводить его если и не к явным схемам и тусклым выводам, то к чему-то близкому этому.
Что такое вот недопонимание имеет место, подтверждается запуском в оборот ещё и ряда других надуманных заслуг личности с загубленной судьбой. Заслуг, умещаемых в несложные метафоры, но так и не раскрывающих её содержания и её неповторимой необъятности и моторности. И это, собственно, всё. Недостающее заменяется несущественным, тем, что не в состоянии дать сколько-нибудь толкового и яркого представления о значении бахтинского творчества. Это и малочисленные да к тому же и весьма ограниченные в материалах музейные экспозиции в его честь, призванные возбуждать только плоский патриотический пафос у краеведов, и некая средненького достоинства пьеса о жизненных борениях мастера, сценическая востребованность которой не ушла дальше первой её постановки, и, конечно, разбросанные по календарю очень редкие отметины в виде пустых, отстранённых речей и статей, почти всегда официальных.
Считая, что таким вот образом задача проработки наследия успешно решается, раздувая пузыри великодержавной гордости и самодовольства, изображая неискреннюю умильную признательность, к Бахтину уже примеривают и соответствующие громкие титулы, называют его русским учёным с мировым именем, говорят, что настало время этого истинно великого философа и просветителя, и т. д.
Устыдимся этой выспренности и бахвальства. Они размещаются лапотниками от залакированной культуры и псевдонаучной культурологии на фоне тотального забвения о работах и о глубине бескорыстной души талантливого профессионала.
Какова степень его забвения в России, можно судить хотя бы по республике Мордовии, постоянно подчёркивающей, что это «территория» гения, «нисколько не уступающая» орловской – его родине. А зайдите в читальные залы, сходите на книжные развалы. Где он, этот автор? За вопросом, есть ли полное собрание его сочинений, нужно обращаться прямиком в академию наук и в её институты, поскольку менее солидные центры знаний ответить на него вроде как не в состоянии. Крупные библиотечные фонды на периферии имеют в наличии пока только отдельные бахтинские произведения, издававшиеся годы и десятилетия назад. Тут, правда, можно ещё обнаружить опубликованные скромные монографические и реферативные сочинения по теме российского и регионального бахтиноведения. Но во всей этой беллетристике сильно заметно желание авторов не отрываться в оценках от того самого, общепринятого отличительного символа, введённого «за диссидентство». Догматика здесь контрастно преобладает над подвижной научной мыслью, вследствие чего изложенное уже давно и практически полностью устарело, ни у кого не вызывая серьёзного интереса. Частью оно сейчас передвинуто в интернет.
Востребованность этой продукции ничтожно мала. В читательском обиходе книги и реферативный материал практически не участвуют. Совершенно равнодушны к нему писательские круги, педагогическая общественность. Негде услышать, каким образом следовало бы приладить доставшееся наследство к нынешней современности или к ближайшему от нас будущему и возможно ли это сделать вообще, в принципе. Так что к полному забвению исследователя и его идей и регионы, и страна в целом уже подошли, что называется, вплотную.
Малоискушённые в творчестве Бахтина журналисты временами шокируют публику задиристыми уличными эксклюзивами на тему: «Кто такой, по вашему, Бахтин?» Результаты плачевны. Люди не понимают даже, о чём их спрашивают. Опять же изредка распускаются домыслы о неких намерениях властей по части названия улиц именем Бахтина, закрепления памяти о нём в скульптурных композициях. Здесь тоже одна пустота. Как и простым гражданам, властям, видимо, не совсем понятно, о каком человеке идёт речь. Сквозь такую гнетущую духовную тишину периодически прорываются в эфир и на печатные страницы только бодренькие пассажи по случаю неких юбилеев, годовщин и прочих мало что значащих «культурных» мероприятий. Имя корифея отечественной российской филологии там, бывает, приводится, но это выглядит подобием почти случайных слабых отсветов, исторгаемых давно умирающей и уже основательно утухшей звездой на далёких пространствах космоса.
Некие подвижки к озвучиванию символа проявляются за рубежом, а следом, по-холопски, и в наших отечественных бастионах науки и просвещения. Заявляется, в частности, будто возросло количество ссылок на творческие наработки и на само имя Бахтина. Расценивают это опять же выспренно – как моду, вызванную востребованностью. Но никто что-то не говорит о содержании ссылок – они ведь могут быть и не в пользу модного автора.
Если для истории, то есть для множества поколений, Бахтин, с его трудами, действительно остаётся таким, как его успели втащить на незримые пьедесталы и там забронзовить усердствующие пристрастные официальные демагоги, то ясно, что воздать ему должное лишь такими накатанными средствами никак невозможно.
Этюды о культуре
ПЕСНЯ ВНЕ ПРОСТОРА
Вновь воротиться пора песне на лад путевой.
Рутилий Намациан
I
Сколько бы нас ни убеждали в том, что в настоящее время происходит будто бы необычайный расцвет песенного искусства, мы упорно не очень доверяем этому. Одобрительно воспринимается расцвет; мы его хотим; но, к сожалению, всё получается не так уж ярко, не таким радостным и желанным.
Более вычурного обращения с песней, чем сейчас, не бывало и не могло быть во всей мировой истории. Технические средства позволяют передавать её нам без певца или певицы. Вызревшее здесь мощное отстранение получило новый стимул с организацией жизни общества на принципах неумеренного потребительства. Спросом на песню, который в условиях провозглашённой личной свободы закономерно поднят из-за её способности быстро аккумулировать и разносить индивидуальное чувственное, во многом изменён облик исполнителя. Приобретаемые им богатство и слава превращены в атрибутику иерархичности, общественного положения. Исполняющие, а вместе с ними и творцы песенного репертуара, сколотились в ячейки и корпорации, предпочитая, чтобы в этой суженной нише протекала и вся их бытовая жизнь. Таким образом они отгородились от народа. Они держат песню на поводке. Народ, которому раньше здесь принадлежало всё, остался ни с чем.
Нет-нет да откуда-нибудь придёт сообщение о каком-то одиноком барде или небольшой группе, распевающих на площадях, в парках или в подземных переходах. Их роднит одно: они исполняют за деньги. Нам, нынешним, ещё никто не рассказал хоть об каком случае, когда такие любители пели бы иначе. Это стало будто бы невозможным. Иногда удивляют профессиональные певцы, устраивая бесплатные концерты. Но чему тут удивляться, если исполнителям, по их возможностям, это, как правило, ничего не стоит, а представления проходят в недоступных залах. Хорошо известна и корыстная тяга певцов за границу, где больше платят.
Самое из этого неприятное в том, что в обществе откультивировалось почтение и даже любовь к такой певческой братии. Восхищённые взоры обращены сплошь и рядом на исполнителя, представляющего иерархию, порой вопреки тому, что он поёт или спел. Эта ущербная традиция как-то, может, и говорит о ценности каждой творческой личности, но она же способна увести поклонение в абсурд. Мы его уже давно видим, особенно там, где пение получает оценку у фанатствующей молодежи. Как-то Макаревич, эстрадник, заметил, что «Beatles», как великолепная жанровая оригинальность, это, собственно, то, что ливерпульские ребята взяли как обычное и лишь на чуток его приподняли. Не более того. Кажется, в таком восприятии в немалой части присутствует истина. Яркое, свежее, свободное – неоспоримо; однако нужно ли стараться приподнимать его ещё выше уже искусственно, через процесс одобрения? А именно этим занята многочисленная армия любителей. Песни знаменитой группы используются как безусловный факт современности, как флаг, не так уж редко флаг шумливой толпы, мало заботящейся о деликатном обращения с плодами творчества музыкантов. Отсюда энергия перемещается ещё дальше. Сейчас вроде как поспокойнее и на свой лад можно трактовать то или иное произведение песенной эстрады и бардовского творчества на разного рода диспутах и в тусовках. А ещё недалеко ушло время, когда имевшего своё встречное и необщее мнение об этих предметах могли выставить белой вороной; в подростковой среде подозрение к несогласному с позицией большинства могло выражаться и более строгой метой, а то и физическим воздействием, что наблюдалось не однажды.
Шумливые шабаши на пространствах исполнения и разрастания песни, стремление молодёжи задавать моду непременно под свои вкусы и пристрастия приводят к печальным переменам в назначении песенного искусства.
Что такое, собственно, есть песня?
Шовинистический угар, долго бушевавший в умах нашей империи, не давал возможности присмотреться к этому предмету основательно и детально. Общество, бывало, от души потешалось своим неприятием такого, например, очень простого выражения культуры, как пение в дороге не по-нашему. Наш-то, если уж поёт, то непременно мчится на тройке, у него или отчаянная любовь, или гробовая тоска, или он, одетый в дорогу по-зимнему, а ещё и в тулупе, ни с того ни с сего замерзает в степи рядом с ничего не подозревающим сопутником. Нам нравилось этакое кочевряженье и барина, и ямщика, и мы же постарались его романтизировать, к месту и не к месту разглагольствуя о непревзойдённых высотах своей изморённой чувственности, о загадочной русской душе и прочих подобных пустяках. Когда же речь шла о поющем чужом, где-то, скажем, в казахстанской степи, то мы привыкали рассуждать об этом по меньшей мере бестактно и бестолково. Ну, что, дескать, может там спеть этот самый чужой? И что его слушать? А между тем он всё-таки пел, пел много веков, продолжает петь поныне – едучи на верблюде, лошади или даже в машине. Нас, его не желающих понимать, он не послушался, поёт и всё, ввиду чего он для нас ещё более странен. Мы дошли до того, что осмеяли не только его пение, голосовое монотонное однообразие, но и столь же монотонное, по нашим представлениям, совершенно скучное речевое изложение песни. И, разумеется, мы только пали ниже в этой своей имперской спеси. Из соображений выброшено то, что о жизни, о едущем и о тех, к кому едет степняк, и голосом, и словом излагается, импровизируется, может быть, даже лучше нашего. Лучше в том смысле, что – без кочевряженья, без водочного угара, без пошлого симулирования самих себя пошлой, напускной мистикой.
Строя своё централизованное государство, Россия шла в направлении, по которому народное песенное искусство должно было вырастать в искусство профессиональное. Это, конечно, иная, более высокая ступень. Плохо только то, что после появления уже профессионального ряда почти резко было сброшено в пустоту оберегавшееся народом. Русские песни, особенно те, что появлялись на пространствах европейского юга страны, в огромном большинстве сходные по мысли и по интонированию с напевами степняков, теперь забыты и, может быть, забыты навсегда, навеки. Если все их напечатать вместе, набралась бы великолепная антология о множестве мощных томов.
Нам только кажется, что в этом огромном источнике мы уже хорошо разобрались. Историки совершенно не обращали пока внимания на тот факт, что в нашем прошлом уже имел место стиль исполнения, сходный с профессиональным. Это – эпические, былинные и боянные распевы. Им, по насыщению поистине могучим, как и всему народному, простора не хватало. Высокая лирическая настроенность, преобладавшая над житейской драмой, перехлёстывала за края, часто разливаясь и в обычной устной речи, и уже очень заметно – в знакомых нам текстах прозы. Лучший из них – «Слово о полку Игореве», где документальное повествование о событиях неотделимо от поэтического изящества. Откуда сей феномен? Комментаторы немало успели наговорить о таких вещах как осознание автором беды перед лицом врага, о стремлении к единству, к единой государственности. Но они совершенно не хотели замечать в этом и в других лучших древних текстах их особенности, исходившей от свободы, той ипостаси, в которой пребывали далёкие предки. Понятие боевых княжеских дружин, действительно, хорошо воспринимается в связи с какими-то их яркими подвигами и даже с поражениями. Но, как единицы, они формировались не развёрсткой, а по доброй воле. При суровой необходимости, но всё-таки – без принуждения, свободно. Была такая свобода ещё, как правило, дикой, порою близкой к анархии, к бесшабашной буслаевской вольнице. Но это вовсе не значит, что в расстановке исторических акцентов её можно сбрасывать со счёта.
Песенная культура Киевской Руси гибла вместе с тогдашним сообществом. Однако после того, как было покончено с Золотой Ордой, свобода, сходная с прежней, вновь заблистала на тех же пространствах и территориях. Крестьянина помещик на работы звал, а не тянул за шею. Если кто не соглашался, мог в наём не идти или же пойти куда-то в другое место. И перемещение также было свободным. Позже по образцу Польши произошло закрепощение бедняков крестьян. И с этого-то времени русская народная песня начинала истекать мелодикой трагизма и бедовой душевной подавленности. Они хорошо распознаются по сей день. Ничто не мило человеку. Всё не так. Скверно всем. Хуже всего – молодым. Невесту норовят выдать замуж не за того. У парня такая же проблема, а позже ещё и военная каторга длиною чуть ли не во всю жизнь. Песня об этом проста и, как правило, без длиннот, понятна и доступна для исполнения каждому, легко ложится на сердце, утихомиривает ярость от нескончаемой безысходности, от тоски, от огорчений, от неподвижности.
Когда народная песня повергалась профессиональностью, то были ещё иногда очень удачные попытки удержать её в жизни, уже, разумеется, в изящных профессиональных рамках. Вы только вслушайтесь в искрящиеся переливы импровизаций и вариаций, созданных для семиструнной гитары Сихрой. Его современники поторопились отвернуться от другого, чудовищно одарённого гитариста, самоучки Высотского, развивавшего вариации до невероятного разнообразия и поразившего ими самого Лермонтова. Они брали за основу мелодийный резерв обычных, по преимуществу даже просто бытовых песен, и, разрабатывая вариации, восходили с ними к высотам, недосягаемым во многом до настоящей поры. Таковы, без преувеличения, разработки песен «Из-за леса-лесочка», «Взвейся выше, понесися», «Получил от девушки письмецо сейчас», «Люблю грушу садовую», «Уж как пал туман», «Возле речки, возле моста», «Ах ты, матушка, голова болит» и десятки других. Эти мелодии восходят к той поре, когда тема, окунаясь в купель народного духа, вбирала в себя всю возможную гамму человеческой искренности и этнической тонировки.
В их содержании не могло быть высокомерия, случайного удальства, нападок и переложений вины на кого-нибудь, даже чрезмерных жалоб. Также не было в них выспренней патриотичности, уверений кого-то в любви к родине, неумеренного повтора названий своей государственной общности и всего такого подобного, что в излишествах присутствует в песнях нынешней современности, сочинённых и исполняемых на заказ. Устойчивое, ровное, почти что тихое выражение эмоций и душевных состояний. И этого было вполне достаточно, чтобы вызывать ответные глубинные выплески эмоционального и близкого в любом, кто слушал, а также и в самих исполнителях. Песни суровой крепостной эпохи, почти сплошь безымянные, и сейчас рождают благоговейный трепет искреннего сочувствия, в котором нуждались люди порабощённые, но сохранявшие свободной свою духовность; верится, тем их отличием они будут покорять нас и в дальнейшем.
Странное дело: когда вариации сочинялись уже «от» песен профессиональных, авторских, то нередко они получались, конечно, яркими и хорошо сработанными. Но в них уже отсутствует то, что было присуще напевам иных времён. Если говорить о профессиональном обогащении только современных русских мелодий, то оно происходит уже в ином измерении, где, кажется, не осталось ничего национального. Оно размыто и скрыто. Великолепное произведение, каким я считаю, например, вариации на тему песни «Подмосковные вечера», воспринимается как-то почти фигурно, будто изваяние. Чувственность при его слушании движется скорее от осознания завидной мудрости поколения, сумевшего принять достойно взрощенную мелодику без корней. Нельзя, конечно, не восхититься и этим направлением в искусстве. Не найдётся, наверное, человека, будь он даже трижды модерновым, кому не нравилась бы простенькая и запутанная в своих же словах песня «На заре ты её не буди». Виртуозу Иванову-Крамскому в его вариациях удалось придать ей такое устойчивое многомерное очарование, какого, на мой взгляд, лишены даже многие симфонические пассажи. Но примеров таких безусловных удач не столь уж и много.
Временные разделы в развитии песни – это в наши дни предмет, остающийся за семью печатями. Непонимание и безразличие проявляют здесь и композиторы, и теоретики песенного искусства, и исполнители. Тому есть объективные причины. Всю гигантскую, необъятную сферу песенного творчества за пределами непосредственного создания авторской песни и её ларькового исполнения укрыл собою тяжёлый утупляющий академизм. Он претендует ни много ни мало как на роль ведущего в определении всей текущей судьбы песенного искусства, не давая себе труда помнить о том роде творчества, где оно не может быть иным, кроме как свободным.
Те разновидности государственных, научных, общественных и даже неформальных объединений, куда сегодня входят люди, занятые культурой песни, они ведь как бы по праву распоряжаются теперь и наработками прошлого, и анализом свежего песенного багажа. В их удушливых объятиях песенное творчество чем далее, тем больше приобретает черты ненародные, черты искусства для искусства, да к тому же не в меру настоенного на административных пристрастиях. Чуть ли не в высший пилотаж возведено при этом сочинение гимнов, патриотических, местечковых, корпоративных, подростковых и прочих распевов, чему следовало бы по-настоящему устыдиться в первую очередь сочинителям.
По всей видимости, пропаганда песни заведена сейчас в такой отдалённый тупик, где уже можно, не церемонясь, валить в одну кучу всё, что только поётся в пределах жанра, – от примитивных поделок для детворы до усложнений мертвящего академического толка. Неясны цели, неубедительны приёмы, нет, бывает, элементарных понятий о назначении и об истоках бытования песни.
Одной из причин этого слепого процесса надо, видимо, считать то, что песенное творчество в его традиционном, народном, национальном виде довольно уже давно преобразовано в другую, непохожую ступень. Это становилось заметным ещё на этапе возрастания профессиональных начал. Но суть вопроса находится, конечно, глубже. Может ли сохраниться традиционное, проявлявшееся в гуще полноценного этноса, тогда как сам этнический элемент изменился, можно сказать, принципиально? Как бы кто ни хотел продолжить развитие мелодийного стиля той же, скажем, нашей крепостной эпохи, этот стиль так и останется уже на том месте, где он больше не смог развиваться. Новые поколения образовали уклад, совершенно отличный от прежнего, тем самым создана и другая моторность общественной культуры. Если хотите, нет больше прежнего русского народа, как бы много сегодня мы ни приносили ему признательностей и возвышенных умилений. От прошлых высот пока сохраняются лишь отрывочные остатки, подобно тому как продолжают ещё жить речевые особенности и интонации в языковых диалектах отдельных провинций или их частей. Городская сфера, беспощадная к старине, полностью растворяет в себе эти выдержки. На либеральном и патриотическом флангах искусства их уже легко переводят в низменные перетолки авангардизма, а то и в насмешку. Порой не знает, что с ними делать, искусствоведческая наука, от которой ворохами сыплются увещевания приумножать всё, что она сама предложила занести в арсеналы народного и национального. Ради чего к этому надо стремиться, пока не смог объяснить никто.
Население, освоившее огромные территории, создавшее себя как нацию и установившее оцентрованную государственность, больше не есть нация в её прежнем, традиционном понимании. Это теперь народ-конгломерат, в недрах которого, что ни день, то набирает больше скорости освобождение от признаков прошлого. Можно выражать негодование тем, как песенное искусство, полнее, вероятно, всего выразившее лучшее в национальной русской культуре и духовности, гибнет под напором извращённых востребований современных стилей. Но нельзя также не отдавать отчёта в том, что немало тому способствовало и профессиональное начало, торопившееся вырваться подальше вперёд. Великолепные и, прямо скажем, очень редкие задачи для сопрано, примером которых нельзя, кажется, не считать, алябьевского «Соловья», остались образцами такого творчества, где национальное сокровенное оказалось воплощённым в наибольшей возможной для него и высоте, и красоте. Народ не стал возражать на такое искусство и полюбил его, несмотря на то, что исполнение шедевра посильно не то что не каждому, но даже не каждому профессионалу, блестяще обученному пению сопрано. В данном случае сопрано колоратурному. Время, пожалуй, оглянуться и признать, что, начиная с Глинки, создавшего первую русскую оперу («Жизнь за царя»), композиторы в большинстве не смогли развить вокал в том совершенстве, какое было продиктовано при переходе в новое время. Песни Глинки, скажем, на стихи Пушкина ввиду их малопонятной усложнённости и непродуманной голосовой тонированности ещё никто не пропел ни в дороге, ни в избе, ни на подиуме в летнем саду. То же можно заметить об его ариях и других подобных произведениях. Вне роскошных залов с идеальной акустикой, без их исполнения профессионалами они собой ничего не представляют, они – мертвы. Их нарядное и внушительное преподнесение оказывается эстетическим обманом, не согревающим сердец. Нет тут места и хоровому житейскому исполнению. Это, собственно, то, в чём уже в самом начале не мог не проявить себя самоуверенный академизм. После Глинки много арий, романсов и прочей вокальной продукции сочинили такие великие мастера как Чайковский, Рахманинов, Рубинштейн, но что спеть из их репертуара на простой сцене или в домашней обстановке, не заходя в прославленные концертные помещения, – об этом просто нечего сказать. Исправить ситуацию брались уже в недалёкие от нас времена Дунаевский, Хренников и ещё ряд сочинителей, но то просто был такой наш срок, в котором без их поддержки наша духовность могла бы истлеть до основания, до самых крайних пределов.