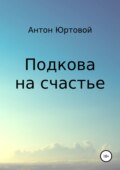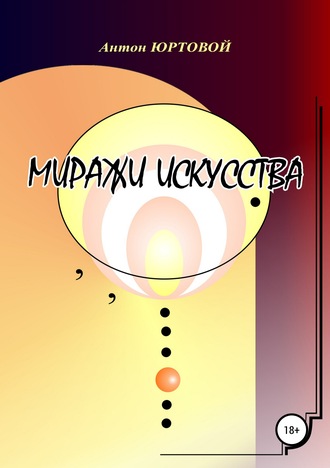
Антон Юртовой
Миражи искусства
До моего сюда перевода в комнатке совмещал проживание с обязанностями по службе мой предшественник, сверхсрочник, мичман, покинувший часть при выходе на пенсию. Книги были его, а теперь ничьи. В основном художественная литература, воспоминания, памфлеты, история, философия. Из-за чего всё это осталось неувезённым, не знаю.
У мичмана виделись хорошие возможности приобретения новинок, а также оригинальный и отменный вкус. Это показывали и выбиравшиеся им издания, и его несчётные карандашные пометки, и целые пространные записи на полях страниц и на закладках – своеобразный дневник восприятий.
На самом дне ящика хоронилось «Житие» протопопа Аввакума. О нём я раньше только слышал. Керес же, оказывается, читал ещё до службы.
Вслед за мной он повторно бешено изучал любопытное, пламенное сочинение.
Если иметь в виду удалённость от гражданских учреждений культуры более-менее достойного уровня и очень редкие выходы в увольнения, то книги, как пища для интеллекта, были в то время нам, военным-срочникам, всего доступнее. Но и того не хватало.
Бригадная библиотека, практически растерявшая абонентский круг, пополнялась экземплярами не чаще одного раза в год. В неё переставали ходить. Мне и тут везло. Вскоре после моего назначения как раз пришла очередная партия. Я узнал об этом одним из первых, и мне-то в руки первому попал сборничек дотоле запрещённого Есенина.
Тут же потащил его к Кересу. Книгу мы жадно выхватывали из рук друг у друга, читая вслух попадавшие на глаза любые строфы и строчки. Сгорали от нетерпения узнать, кому из нас что представляется как наилучшее. Удивительно: остановились на одном, где Есенин объясняет сам себя, в своей предназначенности. Поэт формулирует то, что было для него главным уже с первых своих стихов и оставалось при нём до конца. Полная свобода и независимость, но не вообще, а в личном – при выражении индивидуального, темперамента. Талант оригинален и ярок только в этом случае.
Быть поэтом – это значит то же,
Если правды жизни не нарушить,
Рубцевать себя по нежной коже,
Кровью чувств ласкать чужие души.
Быть поэтом – значит петь раздолье,
Чтобы было для тебя известней.
Соловей поёт – ему не больно,
У него одна и та же песня.
Канарейка с голоса чужого —
Жалкая, смешная побрякушка.
Миру нужно песенное слово
Петь по-свойски, даже как лягушка.
Стихотворения покоряли полнейшей искренностью автора. Было ощущение, что вот сейчас он обсуждает с нами только что им написанное и здорово смущён небрежностями, которые не устранены не ввиду отсутствия грамотности, необходимой для сочинения стихов, а исключительно из желания не упустить возможности растолковать себя, чтобы быть лучше понятым. Указания на себя, такого, каким он был в жизни, встречаются в творчестве Есенина во множестве, они его, что называется, пронизывают, и нам с другом они были настолько ясны в своей простоте, что мы уже с удовольствием принимали близко к сердцу его целиком, не разделяя на отдельные произведения и легко извиняя самые очевидные небрежности, каких немало обнаруживалось…
Отслужил Керес раньше меня, поступил в художественное училище. Буквально в километре оттуда был и мой вуз. Приезжая сдавать зачёты, я навещал друга. И на новом месте он был постоянно занят. От учёбы старался брать максимально. Постоянно подрабатывал на жизнь, выбивая заказы на оформительство где-нибудь на предприятиях, в конторах, в ближайшей церкви. Там работал по ночам и в выходные дни. Имел дело в основном, конечно, с халтурой. Но соучащиеся любили его, а потому и меня, гостя при нём, принимали как своего.
В комнате, где ютилось человек, кажется, двенадцать, приглашали на скромный перекус, наперебой посвящали в бездны своей будущей профессии и даже в личные пристрастия, увлечения. Брали с собой в натурную клетушку. Постоянно где ни придётся усаживали позировать.
Я был не в меру тощим из-за гастрита, со впалыми щеками и ввалившимися глазницами; броско торчали скулы. То, на чём рисовальщики предпочитают набивать руку и глаз. Возражать было нечему. Сообща обкатывали знания истории искусства, новинки. Жаркими были мнения о фильме «Андрей Рублёв»3. Находили, что события в нём подавались умышленно тяжело, вязко, но, как произведением, восхищались. В кружке никого не нашлось, кто видел бы росписи Рублёва и Грека4 вживую и в таком большом количестве, так что кинокадры этого плана воспринимались не иначе как серьёзнейшее открытие.
Но разными были оценки в соотношениях с историей.
Чуть ли не большинство утверждало: позже искусство росписи и украшения храмов никогда уже не поднималось на столь могучие и притягательные вершины.
Керес эту точку зрения разделял и даже давал подробные пояснения. То показывало себя старорусское, дониконовское, как-то просто и не стараясь быть убедительным, утверждал он. Мне такой подход был в нём хорошо понятен.
Однажды он заговорил о своей преддипломной практике. Не удавалось нащупать тему работы. Поискать собирался в одной из полузахиревших деревень, вблизи какой-то стройки, рядом с рекой, с лесом.
– Там буду как дома; попью парного молочка, страх как соскучился, – немного задумчиво рассуждал он. Я, как мог, пытался поддержать, подсоветовать; кое-что казалось ему любопытным.
Теперь, имея в памяти чарующий образ мирного животворящего покоя в поселковом пришахтном пейзаже, было в высшей степени приятно поделиться им. Тем более, что Керес начинал торопиться. Его рюкзак лежал на кровати уже почти полностью упакованным.
– Вот тема для тебя, – сказал я ему почти с порога. И передал свои привезённые свежие восторги. Он приободрился, повеселел. Было видно, предложение ему пришлось, его смысл интригует. Был рад и я: не зря суетился.
Решили: не откладывая съездим туда вместе, благо это не очень далеко, хватало одного дня. Свою сессию мне почти не приходилось догонять.
И вот наступил тот день.
На попутках добрались часа за три.
На веранде того же дома сидела та же старая женщина, гладившая кота. Такими же были солнце, узкое марево по горизонту, крыши и стены домов, неоглядность равнинного заболоченного окоёма, пологие переливы обжитых балок и возвышений, лёгкий истапливаемый дым по-над тесовыми скатами.
Будто и не слышны никакие шумы. Будто пахнет свежеиспечёнными отломками хлеба и до блеска промытыми, заново отструганными полами. Искристое, но неброское торжество сущего, бытия.
Ещё на подъезде мы возбуждённо обсуждали видимое. Кересу нравилось. Он перенимал эстафету. И, поддаваясь порыву удовольствия, всё пристальнее во что-то всматривался. «Соизмеряет масштабы, детали, цвета, а насчёт целого, сомнений нет, он его уже принял, и, кажется, – окончательно», – думалось мне.
Поднялись на чердак. Отсюда картина открывалась ещё величественнее. Но Кереса она чем-то насторожила.
– С этой диспозиции я не сумею отобразить главное, – сказал он.
– Что – главное? – обомлел я.
– Ну, как это объяснить? Можно домыслить, но оно не получится таким, как на самом деле. В настоящем главное оно же и лучшее…
– Ты думаешь?.. Нет, не торопись. Погляди-ка вот так… – я лихорадочно призывал к себе в подмогу уже, казалось, навсегда плотно устоенные собственные мысли о природе эстетического, об элементах кажущегося и таинственного в нём, об озарениях, о миражах. То, что без моего нажима Керес охотно принял и уже столько лет взвешенно делит со мной. Неужели?.. Мысли запрыгали, завертелись, задёргались. А Керес будто застыл в сомнениях.
– Это будет не по мне, – сказал он.
– Хорошо, давай сойдём вниз, подвигаемся. Тебе нужна исходная позиция?
– Да. Но мы её можем не найти. Это редкость.
– Редкость. Но я-то её, полагаю, нашёл, и если бы…
– То от неё бы и танцевал, так? – прервал он мою фразу, которую я не совсем знал как закончить.
Мы отошли от дома, выделывали разные зигзаги по запылённым обочинам дороги, по самой дороге, по ближним пустовьям. Напряжённо взглядывал я на объект собственной надежды и чувствовал: Кересу уже становится неинтересно. Он машинально щёлкал фотоаппаратом, как-то безразлично высчитывал остающиеся неотснятыми кадры плёнки. По моей прикидке, им уже наступил конец. Видимо, и Керес больше ни на что не рассчитывал. Что-то во мне обрывалось и куда-то падало вместе со мной.
Взамен отложенной в уме прекрасной цельной панорамы стали появляться вовсе ей не присущие путающие фракции: буроватости, искосы в размерах, какой-то сажный привкус…
На пологом уклоне, поднимаясь к месту, где мы застряли в поиске и где цель окончательно истаивала в содержании, медленно и тяжело урчал грузовик-шасси с маршевыми стальными трубами внушительного диаметра, одним краем уложенные на прицепе. В обгон спешила стайка подростков велогонщиков.
Как раз был момент, когда и поезд, и его сопутчики вместе попадали в панорамный облог. Они проплыли мимо и уже удалялись, протаскивая за собой черноватый выхлопной шлейф.
Ещё миг, и всё вместе закрыли собою и своим неуместным появлением какие-то встречные машины.
– Всё, – сказали мы оба разом. Кажется, и понимали произошедшее мы одинаково огорчённо. А именно: что дальнейшие поиски ни к чему, делать тут уже нечего.
Возвращались опять попутными. Керес отправился к себе в общежитие, я в гостиницу.
– Ладно, не расстраивайся, в искусстве потери бывают и посущественней, – сказал он при расставании.
Мне утешение лишь прибавило досадной краски. Человек, ворочал я свою уязвлённую суть, не хочет выглядеть обиженным, пробует скрыть огорчение. Но я-то, а не кто иной втянул его в эту неладную ситуацию, в настоящий густой обман. Следующим утром Керес по телефону сообщил мне, что никуда не едет. В голосе чувствовались довольство, горение. Это было вопреки тому, чего я мог ожидать.
– Извини, – сказал. – Очень спешу. Обо всём после, – и положил трубку.
Спустя дня три, заглянув к нему в общежитскую комнату, я застал его работающим у мольберта.
– Глянь как чудесно, – он загадочно и торопливо улыбнулся прищуренными глазами. Протянул мне свежевысохший, но не разглаженный, скрученный по длине фотоснимок.
Это был тот самый, кульминационный миг нашей поисковой операции, когда мимо нас проплывал и уже отдалялся трубовоз, а с ним в одном движении, будто прилепленные к нему, неслись велогонщики.
– Когда ты… успел? – было моим первым вопросом.
– Ты присмотрись повнимательнее, – перебивая, встормошил меня Керес. – Частью объекты загораживают панораму, но и обогащают её. Не находишь? А там вот – то самое. Ты его, кажется, хотел показать…
Действительно, содержимое всего облога выражалось и через фон, и через ближние отчётливые контуры. И мне представлялось правдой, что и здесь, на фотобумаге, колёса, как и тогда, крутятся, и трубовоз, велогонщики продолжают своё движение, заявляя о своём присутствии в единственной и нетронутой доле времени. И будто это неостановленное движение специально возникло для утончённых восприятий.
– Это не всё, – довольный проговорил Керес. И познакомил меня с карандашным и акварельным эскизами. На мольберте помещён был и подрамник с уже натянутым на него холстом. На его лицевой стороне пробные мазки масляными красками – воплощение эскизов.
Я вгляделся: панорама интерпретировалась. Были сокращены излишества на фоновой части. Велосипедисты тянулись не следом, а уже обгоняли машину. В середине, как раз напротив штабеля стальных труб – девушка, чего не было на фотографии. У неё мягкие, сдержанные линии профиля, из-под кепочки-ветровки выпархивают и утягиваются назад серебристо-рыжеватые волосы, к вещовке, за плечи, перетекают простенькие, но изящные ремешки. Набирались и другие изменения, дополнения.
– Может, ещё нужен цветок? – поинтересовался я.
– Или – кот на плече. У неё, конечно, – парировал хозяин положения, указывая на подрисованную мадонну. И мы дружно расхохотались, не в силах и не желая остановиться. Громкий смех, будто усиленное эхо, бухнул по всей комнате. То была солидарность наших друзей, находившихся рядом и наблюдавших нашу с Кересом встречу.
– Одобрено к диплому, – Керес подытожил произведённый на меня эффект. И я понял, что теперь мы окончательно поменялись ролями: моя назойливость по выявлению ещё во многом скрытых для меня особенностей и глубины художественного восприятия как бы переходила к нему. Хотя это радовало, я чем-то одновременно был встревожен.
Пожелав другу успехов и распрощавшись, я продолжал думать об этом странном состоянии самого себя.
Такое вот переложение с фотографии, рассуждал я, даже усиленное воображением, явно слабее того, что представлялось натурально, при моём первом знакомстве с панорамой. Техническое копирование – это шаг не вперёд, а назад. С другой стороны, я сам усмотрел в эскизах и едва ли не полностью виденное мною воочию из чердачного окна. Этим подтверждалось также и то, что Керес воспринял мой идеал непритворно, таким, как он существовал у меня в мозгу и в чувственности. И однако же… Воплощённое его старательной рукой, – сможет ли оно соответствовать высшему, закрайнему смыслу? Уровню, который, что было совершенно очевидно и, как я понимал, – не мне одному, – непостижим.
Круг замыкался. Я перебирал варианты, в которых мог бы отшлифовать возражения. Кому? Наверное, нельзя было исключать и Кереса. Но не стали бы они элементарной придиркой, показателем духовной и моральной испорченности? На ум приходили творения художников, не удалявшиеся ни за какие пределы и в то же время – с огромным воздействием, даже на самих творцов. Откуда происходит их наполнение, порой трагическое, чудовищное, как у Бэзила5?
Почему запредельное виделось в обычном?
Разгадка так и не пришла. Работа Кереса была защищена им с оценкой отлично. Появились даже похвальные рецензии на неё в малочисленных местных газетах.
Я видел её в тот день, когда автор картины, получив документ о завершении учёбы в училище, прощался тут с педагогами и друзьями по студии. Тогда же прощались и мы с ним: насыщенных встреч, которыми раньше одаривала нас жизнь и к которым мы так привыкли, больше не стало.
Он скоро поступил в «Репинку»6, на очное отделение, чего добивался и о чём мечтал, закончил там полный курс и, преодолев железный занавес, выехал за границу, откуда уже не возвратился и где жил весь остаток своей жизни, меняя страны и города. Мы общались уже только на расстоянии и очень редко, сначала в письмах, а позже исключительно по телефону или посылая открытки, телеграммы.
Новые возможности давали интернет и спутниковая связь. Но с их появлением жизнь уже отмеривала для Кереса крайний рубеж.
Как самую дорогую реликвию храню я один из акварельных эскизов «Мира», подаренный мне другом ещё при начале его работы над зачётной картиной.
Без лишней скромности я мог считать себя имеющим касательство к делу, ускорившему рост и созревание таланта художника. Мне верилось, что в моих, пусть и не до конца ясных воззрениях, как в истоке, суждено было омыться его судьбе. И тем я должен бы навсегда быть благодарен также судьбе своей, собственной. Только вышло тут всё вовсе не так возвышенно, как должно бы казаться со стороны. Конечно, я имею в виду прежде всего Кереса, а не себя.
Об этом расскажу подробнее. Но до того хотел бы коротко обозначить преобладавшее в содержании моих изысканий в художественном и конкретно – в изобразительном.
Я любил их, эти изыскания, и в этой любви остаюсь до сих пор. Здесь околонаучное, исследовательское умеренно разбавлено беллетристикой. На уровне моей современности всего, совокупного или, по крайней мере, какой-то немалой его части со счёта не сбросить; но по большому счёту, который я веду сам, размах в этом не должен исходить из корысти. И всякие устремления перевести свой устоенный жанровый опыт в нечто практичное, вещественное, дающее материальный доход, постоянно мной пригибались.
Тут не обойтись было без соответствующего, развитого интеллекта. Но его не следовало выставлять на вид, не следовало допускать его соприкосновений с мелочным, примитивным.
Обычно я позволял себе лишь подсказки или советы кому-нибудь, кто неохотно выкладывался из-за лени, тупости или спеси. Например, как составителю или редактору мне требовалось просить ближайшего штатного художника проиллюстрировать некую вкусную прозу, стихотворение или книгу. А тот будто из великого одолжения бросает мне на стол первое, что подвернётся под его карандаш или фломастер, иногда вовсе неподходящее, грубоватое, пустое. Ещё и гоголя из себя строит. Меня это возмущало.
Я сам брался подбирать художников, сам обдумывал иллюстрации и предлагал воплотить такие проекты. Иные морщились, но в конце концов дело шло, и в ряде случаев совсем неплохо. Засчитывалось удачное не мне, но я был без претензий. Кое-кто из подобных опытов даже извлекал дивиденды.
Со временем я не мог не придти к мысли, что мои наклонности помогать художникам вот таким образом были во мне как бы особенностью, одной из таких черт характера, какие возникают неизвестно откуда и во множествах присущи также и другим людям. Тут следовало взглянуть на себя как можно строже, поскольку уяснение подобных вещей легко накладывалось и на ту отдалённую пору, когда мы с Кересом были ещё в исканиях целей и смысла творчества. Всё ли здесь происходило благополучно?
Я теперь знаю, что этот почти риторический вопрос вызревал во мне по основаниям весьма серьёзным. Хотя, если бы я ставил себя в положение человека более прагматичного, прямого, что ли, то я мог бы и отмахнуться и, как сказано, не создавать из мухи слона.
Ведь по-настоящему выбор по части служения духовному и мной, и Кересом, каждым отдельно, был к той поре уже сделан, и даже при том, что ни он, ни я не успели ещё произвести ничего фактурного, как личности мы уже могли считать себя состоявшимися. Значит, и моё тогдашнее предложение Кересу ни в коем случае не могло сопровождаться ничем иным, кроме пользы. Никак не вреда. Тем более, я ведь с этим предложением к нему, как, между прочим, и ко многим уже после, вовсе не навязывался.
Стоило, может быть, учитывать ещё и гамму нашей взаимности.
Да, был тогда Керес хорошим и даже лучшим из моих друзей, ему, возможно, не хотелось отказом портить чувства его привязанности ко мне или мои к нему. Но ведь это из какой оперы!
В том, что имело отношение к искусству, Керес, насколько я его знал, отличался редкой и завидной щепетильностью. Скажу больше: в оценках произведений, стилей, исторической правды мы с ним не только сходились, но, бывало, и схватывались, оспаривая каждый своё.
В конце концов, наверное, всё, к чему обязывают начинающего художника учительские концепции, а позднее – уже как мастера – опусы исследователей, критиков и прочей неравнодушной, а нередко и продажной братии, – это всё по сути тоже ведь – предложения. Сколько там неточного, амбициозного, вздутого! Такого, чего нельзя принимать хотя бы кому.
Керес также волен был поступить как для него лучше, не впадая ни в какую зависимость.
Не произошло, к сожалению, как раз этого, последнего. По моей ли или кого другого вине? Этого я не знаю. Частью, могло быть, и по моей.
Особенно горько мне от того, что ввиду обстоятельств, о которых я уже коротко упомянул, я оказался в полнейшем неведении относительно творчества Кереса. Творчества, которое приходилось на основной этап его жизни – как самостоятельного профессионального живописца. А это не год и не два, целые десятилетия. Начиная с той минуты, когда я от души поздравил его с удачной дипломной работой и мы расстались навсегда.
Если не считать хотя и многочисленных достижений Кереса до окончания училища, которые были всего лишь багажом подмастерья, то, собственно, только этой картиной мерил я уровень его художественной талантливости.
Всё, что он создавал позже, как бы уже следовало оценивать по ней, обходясь без наглядного, без образцов.
И мне суждено было протащить на себе груз этой оплошной и более чем странной доверительности. Казавшийся верным, сюжет опрокинулся уже при самом конце.
Только теперь ясны мне причины его развития, обернувшегося тяжёлой драмой, как для Кереса, так и для меня – её прямых участников.
Разделявшие нас расстояния и годы не могли не отразиться на качестве нашего общения. Оно чем далее, тем больше сводилось к необязательному, к условности, к примитивной игре.
Находясь на прямой связи, мы спрашивали друг у друга как дела, как здоровье, что новенького и проч., и, как это принято всеми, тратили время на соответствующие общие, мало что значившие ответы. Чувства, разумеется, говорили о большем, о том, насколько прочно помнилось нам давнее, прошедшее, как дороги нам воспоминания и что мы, вот сейчас, всё ещё остаёмся в былой привязанности, очень дорожим друг другом. Всё нормально, отвечал мне обычно Керес, когда я интересовался его успехами в живописи, в искусстве. Не то чтобы уклонялся, просто говорил, что уже торопится, извинялся. Разогнаться на нечто более важное не удавалось.
Честно скажу, было приятно довольствоваться и этим. И то же повторялось в следующий раз. В открытках и телеграммах игра сводилась к тому же или была ещё менее содержательной. Она не стала бы иной и в письмах, если бы мы продолжали их писать. В них, разумеется, мог бы открыться иной простор, и сперва нам даже удавалось обмениваться тем, что тяготело и приставлялось к искусству по высшей планке. Однако и там неизбежно повторялись банальности. Это делало письма скучными и ненужными, и мы перестали заниматься их сочинением и пересылкой, привыкая к более динамичным средствам нашего общения.
Не говоря уже о том, куда могло устремляться творчество Кереса в его стилевых признаках, моя осведомлённость не проникала и в сам результат его работы. Где выставлялись его полотна? Кто восхищался ими? Кто их покупал?
Всегда напряжённо следивший за периодикой, я не замечал даже того, что в разного рода комментариях не находилось хотя бы упоминаний о произведениях и личности Кереса.
«Если он теплотно общается со мной и для меня достаточно открыт, добродушен, воспринимается мною уверенным в себе, простым, нехвастливым и не снобом, то, может быть, это всего лишь исключение; с другими у него и счёты возможны другие, – думалось мне. – Там, – продолжал я обкатывать собственные предположения и оправдания ему, – он замкнут, необщителен, недоступен, что в среде художников и особенно с возрастом вовсе не редкость и паче того – за рубежом».
Для меня было легко усмотреть в этом простую, обыденную манеру, о которой все знают, что, кто бы её ни усвоил, она в глазах людей и допустима, и неосуждаема. Если тут у кого и возникают какие претензии, всё равно их не дано удовлетворить. Потом, рассуждал я, сам-то я хотя как будто и не одобряю чужую скрытность и отстранённость, разве я также не использую их к собственной выгоде? От Кереса в этом я, пожалуй, и не отличаюсь. Приучил себя держаться на расстоянии от текущего, от пересудов, терпеть не могу папарацци, не спешу устраивать представления тому, что появляется из-под пера, не жажду признания.
Не только я Кереса, но и он меня спрашивал не раз как мои дела, именно дела в сфере моего творчества, и что отвечал я? Да то же самое, что слышал и от него.
Полагаю, тут действует даже какой-то общий закон, уводящий любого в конкретное, персональное занятие. Расширив знания и приобретая определённые навыки, каждый на любой ступени общественной лестницы вовлекается в роли не только мастера или творца, но обязательно и ремесленника. И чем сложнее методики решения задач, тем занятие всё больше обрекается на профессиональную замкнутость. Интеллектуальные сферы одинаково с иными требуют подобной жертвы.
В таком случае высказывать в адрес моего друга что-то вроде упрёка или неясного неодобрения просто не было никакого смысла…
В этом месте я хотел бы ещё раз коснуться предметов, которые легли в основу наших с Кересом отношений.
Сами эти отношения казались мне достойными и добротными. Не было сомнений: так считал и Керес.
Однажды, не помню, в какой связи, мы говорили с ним о склонности людей меняться, часто не в лучшую сторону. Даже в ситуациях и обстоятельствах, когда вроде бы и нет к тому особых причин.
Как оценивать человека, если он, как индивидуум, личность не устоял, не сохранил себя, дал себя подчинить кому-нибудь, изменился, уходя от молодости?
По мнению Кереса, то, чем кто-либо стал и если это на пользу окружающим и всем в обществе да ещё если общество не испорчено и не угнетаемо, это всё есть идеальное, и ему неплохо бы следовать. Но оно, «что-то», говорил он дальше, ничего не стоит, если это догма, окостенелый принцип. Чему надо расти, обязательно изменится.
Я подумал тогда: вот передо мной человек; я давно и хорошо его знаю, и не было ни разу такого, что бы в нём разочаровало меня. Разве это – плохо? И только ли в догме дело – в догме самой по себе? И я задал этот последний вопрос уже вслух. Не обойтись без вариантов, сказал Керес. И добавил: они возможны и как самые крайние, жестокие, нелепые… Здесь, как я мог судить, он имел в виду, разумеется, не одного себя или только меня.
У темы не было окончания. Какой-то вариант непременно всегда нужен. Но вариантов – большое множество.
Выбор не сводится к формуле «за» – «против». С нею очень легко выявляют предателя или нарушителя устава, она своего рода указка от кого-то. Эка невидаль – выбрать всего одно из двух. Как должны распределяться роли, если формулу отбросить? И кто уполномочен заниматься распределением? Скажем, как в нашем случае: в сфере, пока только избиравшейся, но – твёрдо и навсегда, – в сфере свободного эстетического творчества.
Выросшие оба в деспотии, обряженной фальшивым официальным толкованием свободы, мы довольно просто, ещё с детства, могли уходить от хлама вульгарных и скучных условностей и представляли уже поколение, которое в самом себе и само, слушая исключительно собственные позывы, приближалось к уяснению сути свободы на свой, никем ещё не пройденный лад.
Для нас она была привлекательной и желанной не в виде яркого необычного сувенира, который следует где-нибудь раздобыть и кому-то отдать; мы нуждались в ней сами и торопились жить с нею. Люди передового склада появляются не в новой формации, а в её преддверии. Им самим надо выучиться понимать время, где они очутились.
И как же всё непросто, если взамен тяжёлых догматов необходимы не одни коллегиальные, но и личные, самостоятельные решения, по возможности более точные, порой неотложные, и каждый раз приходится их принимать, перебирая огромное число вариантов! Сколько угроз ошибиться, поступить не так! Часто ни современники, ни даже новые формации не понимают и, что ещё хуже, не хотят понимать таких людей. А, стало быть, и того, к чему такие люди тянутся, что они, будучи свободными, хотели бы сделать за свою жизнь и притом, конечно, не ошибиться в выборе. В выборе, который стоило бы приветствовать и уважать также и в других.
Кто мог бы тут помочь – дать совет, предложить подходящую модель? Советы и модели давали и предлагали всегда многие, однако ещё никому не удавалось обосновать, какая мера свободы при этом нужна. И, собственно, в каком наряде.
К примеру, у Достоевского7 есть рассуждение о «совершенной свободе», которой якобы можно достичь, будучи верующим – «через послушание всей жизни». Писатель имел здесь в виду добровольное служение старцу, представителю старчества, направления в православии, где старцами делались монахи-затворники, обрекавшие себя на одиночное проживание в скитах. Считалось, что в таком подвижничестве монах мог уразуметь высшие смыслы жизни и научать им приходящих к нему людей. Кто в качестве обычного и, как правило, начинающего монаха через послушание, то есть, если называть вещи своими именами, через бесконечно угодливое непрерывное присутствие около старца в виде элементарного слуги усваивал от него эту мудрёную и необъятную науку и находил в ней умиротворение и радость, тому и «светила» та самая «совершенная свобода». А чтобы поглубже растолковать, что она такое как бы в её конкретике, писатель говорит, что это свобода «от самого себя» и что она позволяет «избегнуть участи тех, которые всю жизнь прожили, а себя в себе не нашли».
Такой вот странный изворот: «от себя» – «себя в себе». И вроде как предлагается пойти в монахи, запереться в ските и этим выделиться, приобщаясь к чему-то похожему на тайное жречество, на малочисленное привилегированное сословие. Которое, войдя в моду, могло бы стать и многочисленным.
Нет уж!
Принуждение к поступкам, если те рекомендованы хотя бы кем, лишает людей, жаждущих свободы, их душевного комфорта, доставляет боль, сбивает с житейского ритма. Их же собственные действия не во всём адекватны, вследствие чего воспринимаются многими с подозрением, с придирками. Нужно или сильно прогнуться или сломаться…
Говорю здесь не о таких действиях, которые противоправны. С ними ясно. Бандит или мошенник покушаются на чужие права. Впереди их ждёт суд. Но в областях творческой мысли, искусства, интеллекта гражданским судом формально никто никого не судит. Можно бы радоваться. Только и здесь без искажений не обходится.
Человек эстетики не может быть скреплён с догмой. В духовном аспекте это правило исполнимо. В остальном – нет.
Как профессионал, автор произведения вынужден идти к публике. А к ней примыкает и от её лица вещает также власть. Которая веками непременно гнёт что-то своё, очень часто несовместимое с культурой и с эстетикой. Со своим творчеством автор здесь подпадает под жернова, которые могут его смять. И даже трудно представить, в какие тёмные искушения способна ввести его такая необоримая униженность.
Мне вспоминается, как ещё на военной службе мы с Кересом тяготились формалистикой, а иногда и безобразиями, которые постоянно ей сопутствовали.
Однажды ему влетело за снимок торчавших на берегу на подпорках американских «хиггинсов» – торпедных катеров, поставленных по ленд-лизу.
По условиям двухстороннего соглашения, эти устаревшие суда с дощатыми корпусами следовало сразу по окончании войны ликвидировать без утилизации, то есть не оставляя от них для повторного использования ничего ровным счётом, к примеру, следовало сжечь или, ещё лучше, утопить. Ни того ни другого сделано не было. Узнай об этом американцы, крупный скандал нашей стране гарантировался бы.
Только из опасений огласки бригадное командование не отдало Кереса военному суду, назначив ему наказание гауптвахтой и разжаловав со старшины второй статьи до матроса.
Нельзя было оставаться равнодушными перед массой фактов использования срочников на строительстве и ремонте офицерского жилья, на хозяйственных, погрузочных и других работах, опять же в личных интересах офицерского сословия.