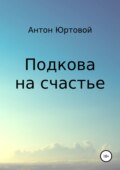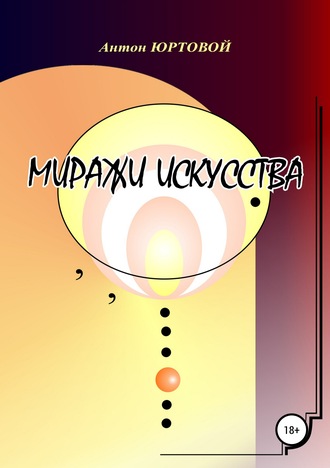
Антон Юртовой
Миражи искусства
Памяти Александра Солженицына
СВИДЕТЕЛЬ ПОБЕДИВШЕГО БЕЗУМИЯ
Страна похоронила очередного удостоенного чести называться великим. Не мал его вклад в интеллектуальную общественную копилку, достойны всяческого уважения многие совершённые им поступки. Но повторилось прежнее: нас, хоронивших, в очередной раз не покидало навязчивое запоздалое чувство раскаяния и жгучего стыда. За то, что при жизни великого, в его стране отношение к нему было не вполне определённым, зачастую неважным, а, значит, и – несправедливым.
В церемониях скорбного прощания, как ни в чём другом заметной бывает холстина массового двуличия, накрывающая умершее тело. Традиция требует разбавления чувственности, приглаживания углов, приписывания заслуг в целом, без поправок на мелочи и на ошибки усопшего. Житейский же опыт противится этому: сколько уже то одному, то другому воздавалось не по заслугам, из лести, из непонимания – кто перед нами. И чем такой опыт больше, тем больше оснований относиться к превознесениям строже, пристрастнее. Всё, что говорилось и уже написано по случаю утраты Солженицына, указывает на какое-то неровное, неискреннее, отстранённое его почитание. Будто и не с ним увязывались многие слова и речи. Будто отдельные отзывы делались не от самих говоривших и писавших, и здесь каждому из них, как перед сложной преградой, вроде бы нужны были огромные дополнительные усилия над собой.
Многое в таком отношении к нему было продиктовано его личностью, его судьбой. Начав писать художественную прозу не прибегая к лакировкам и угодничеству перед гноившим его режимом, он, кроме восхищений понимавших его стиль и задачу, вызывал злобное неприятие, в первую очередь – кагэбистов и советской писательской братии. Травля достигла апогея с опубликованием первых историко-аналитических работ, а затем – знаменитого «ГУЛага». Мир доселе не был знаком с разоблачениями подобного размаха и глубины. И было бы даже странным их ровное, бесстрастное восприятие прислужниками большевистского строя не только в своей убогой стране, но и за рубежом. Книги, призванные затравить «выскочку» (в авторстве Томаша Ржезача и других), ходили по рукам в подразделениях КГБ, в правительственных и партийных кабинетах, в апломбствующей среде интеллигенции, громко заявлявшей о своём служении родине и культуре, а на деле служившей только себе и трусливой, но беспощадной власти. Этакое почти как подпольное изучение творчества литератора с пояснениями писак-недоброжелателей имело место не в одном только периоде нашего застоя, а и много позже, в годы перестройки и даже в 90-е годы, при Ельцине. Да, пожалуй, не прекращается оно и до сих пор, поскольку слишком «насолил» Солженицын хозяевам жизни и мастерам её подкрашивания уже на началах продекларированной неограниченной свободы.
Что только ни изобретали очернители. Ввиду закрытости архивов преподносились выдуманные доводы о стукачестве бывшего зэка. Доходило даже до обвинений в плагиате и прочих нелепостей. В травлю включались персоны, так сказать, первой величины, такие как Шолохов, Косыгин, Санаев, Дюкло. Это, разумеется, не могло не задевать чувств и достоинства травимого. Защищаясь, он порой становился неуживчив, не ладил даже с отдельными из тех, кто, как и он, перенёс все злоключения в тюрьмах и лагерях. Например, был весьма прохладным его взгляд на Шаламова. Защита порой приводила к непризнанию людей талантливых, к отрицанию их заслуг, что мы наблюдали в отношении, скажем, Шолохова с его «Тихим Доном».
Задавленные официальной пропагандой, люди, читатели долго не могли отойти от её постулатов и воспринять историю и её истолкование под другим углом зрения. Из-за этого и не старались читать Солженицына много. Ленивых оказалось большинство. Напрягаться, чтобы сравнивать одно с другим? А чтобы скрасить своё невежество, рассуждали о том, что автор «ГУЛага» вовсе уже и не был писателем, что как писатель он выступал лишь при начале своей творческой биографии, в пору издания «Одного дня» и «Матрёнина двора».
Упрёк этот, как ни опровергать его, являлся-таки фактом. «ГУЛаг» не есть художественное произведение, как и ряд других работ, занявших преобладающую долю в творчестве литератора. Таким образом, появлялось ещё одно серьёзное противодействие его признанию и почитанию. Оно стойко удерживалось в обществе, особенно при написании Солженицыным просветительско-назидательных вещей, какими были «Жить не по лжи» и «Как нам обустроить Россию». Говоря, в частности, о последнем, он сам досадливо признавал, что эта публикация осталась совершенно невоспринятой ни читающей публикой, ни властями. Тут, как известно, и в самом деле имелись причины «глухого» непонимания. Утопией оказались пожелания видеть в одной семье с современной Россией современный Казахстан и ещё две соседние славянские страны, склонные к безусловной независимости. Определённо можно сейчас говорить о скепсисе и по части идей в трактате «Жить не по лжи», не содержавшем ничего, кроме советов к пассивному воздержанию от подлостей. Такой подход располагался рядом с религиозностью, которой Солженицын часто и, может быть, неумеренно пытался следовать, главным образом в его устных высказываниях.
Устремления к назидательности были, похоже, необходимостью, коренившейся в желании быть как можно лучше понятым. Но в писательском творчестве ими вряд ли может быть восполнено недостающее, недоделанное в художественной эстетике. Красноречиво это подтверждают примеры из истории.
Вспомним хотя бы Толстого, любившего назидательные жанры и применявшего их во многом не к месту и не к своей славе. Так обстояло у него даже с романом «Война и мир». Будто сомневаясь в том, станет ли он сполна одобрен и понят читателями в описании перипетий героев романа и окружавших их важных событий, Толстой пишет к нему пространный эпилог в виде размышлений по поводу всего, что, по его мнению, нужно знать читателям, осилившим четырёхтомную эпопею. Трактат вышел и не научным, и не художественным, а просто никчемным – по установкам изрекать истину в последней инстанции. Совершенно беспомощными выглядели ссылки на взгляды известных философов и императоров, на субстанцию свободы и прочие премудрости. Когда роман увидел свет, критики, как и читатели, даже не считали нужным обратить внимание на эпилог, настолько малозначительной была его связь с основным текстом произведения.
Солженицын, кажется, ни разу не прибегал к философствованию в аналогичном виде, то есть не дополнял им непосредственную ткань своей художественной словесности.
Но многие произведения его гневной публицистики и политизированной фактологии в той или иной мере воспринимаются авторскими комментариями и пояснениями к «Одному дню». Возможно, в этом и состоит своеобразное массовое неприятие его творчества в целом. Было бы печальным, если бы такая общая оценка тормозила квалифицированное дальнейшее осмысление как непосредственно художественных произведений, так и сторонних изысканий литератора. Требование ввести его творчество в общеобразовательную орбиту также следовало бы рассматривать не более как волюнтаристскую придумку (премьера Путина). Ясно, что чиновники, взявшие под козырёк, тут постарались бы. Но что они могли бы рекомендовать для изучения в аудиториях, ещё по-настоящему не определив, что и из чего выбрать к пользе молодёжи, по сути с творчеством Солженицына совсем незнакомой и даже пока далёкой от намерений с ним плотно познакомиться?
Если процесс не будет исходить от качества этих намерений, мы получим очередной урок идеологизации образовательной сферы через посредство неуяснённого предмета.
После такой «игры» не исключено, что и звание великого неизбежно рассеется, потеряет свою сущность. А, значит, убудет и нашей культуры, и без того довольно часто – из-за её вялой осмысленности самой себя – теряющей и свои перспективы, и свои истоки.
Приходится считаться с тем, что творчество этого мэтра словесности вызревало и приходило в люди в первую очередь по причинам политическим. Оно вбирало в себя солидную гамму разоблачений тоталитарного строя и для очень многих сторонников демократии выглядело позицией пророка, честного и правдивого свидетеля общественного и государственного безумия в его стране. Такого безумия, которое триумфально побеждало всё на своём пути и коснулось едва ли не каждого в обществе, неважно, были то прямые пособники преступного режима или наблюдавшие за процессом безучастные демагоги и обыватели. Их вина, безмерная в объёмах, имеет ту особенность, что прошлое безумие как бы наследуется новыми поколениями. Не случайно ведь так и не наступает время спроса с зачинщиков революций и репрессий. В исследовании проблемы, с чего, собственно, тут начинать, аналитикам представляется нечто более существенное, более значимое, с чем предстоит обществу жить не только сейчас, но, возможно, и много позже. Это то, что ритуалом похорон несуразного прошлого и сотворивших его виновников история закрыта быть не может. Слишком многое указывает на рецидивы безумия, хотя уже и в других проявлениях.
В связи с этим следует, наверное, обратить внимание на весьма краткий характер общественной и государственной скорби по утрате. Если учитывать произнесённые речи и написанные прощальные панегирики, то они в основном приходились на дни похорон, и их набиралось так мало. При этом целые регионы проявили чуть ли не вызывающую отстранённость от события. Там не было ни траурных митингов, ни сходок интеллигенции, ни соответствующих мероприятий от властей. Молчали многие газеты, без устали кричащие о своей информационной всеядности и всеохватности. Такое наблюдалось, к примеру, в Мордовии, где периодические издания не удосужились выразить сочувствие, откликнуться на горе компетентными публикациями. Молчали писательская и журналистские организации республики. Все основания публично заявить о памяти были здесь у главной библиотеки – «Пушкинки», куда в читальный зал, будучи военным, приходил когда-то Солженицын и которой он по случаю её 100-летия, уже будучи известным, подарил набор своих книг. Но даже этому книжному центру не нашлось о чём сказать в унисон прощальной церемонии.
Столь мощная и столичная, и провинциальная отстранённость – не начало ли здесь интеллектуального обрыва с намётками полного незаслуженного забвения большого человека, потрясшего мир мужеством и горьким, печальным откровением? В этом, к сожалению, нет нового: такой незавидной участи у нас в отечестве уже и в обстановке свободы слова оказались обречены целые когорты неподкупных истинных подвижников культуры и общественной мысли.
Прощай, Муслим!
ФРАГМЕНТ НА ПАМЯТЬ
Общество в очередной раз переволновалось из-за невосполнимой утраты. Яркого, энергичного, безмерно талантливого Магомаева очень хорошо знало старшее, современное ему поколение. По сути только оно и вспомнило о нём при его кончине. Иначе, кажется, не могло и быть, поскольку прошло более четверти века с той поры, когда певец оставил своё поприще. Хотя ведь существуют примеры сохранения долгой памяти и не о столь известных персонах.
Задумавшись, он в свои сорок лет пришёл к выводу, что будет не вполне уместен на фоне возникшей новой эстрады. Приоритетной становилась там не отдельная оригинальная творческая личность, а шумовитая и агрессивная массовка. Никто ему не мешал продолжать и оставаться таким, каким он себя утвердил, но таков был у маэстро выбор. И выглядело это весьма достойно, не в пример тому, как, уже основательно истратившись и возрастом, и умением, продолжают цепляться за эстрадные подмостки многие теперешние исполнители.
Интеллектуалы, бывшие с Магомаевым накоротке или знавшие его по сцене и по эфиру, выплеснули в окружающее десятки отзывов по случаю его смерти. В калейдоскопе мнений возобладало, к сожалению, несущественное. Как он был красив, как нравился женщинам, как много иногда пил, каким был волокитой по молодости. На все лады, в том числе и с использованием его личных высказываний раскомментированы обстоятельства его женитьбы на Синявской. Никто почему-то не захотел заметить, из-за чего же всё-таки он предпочёл эстраду и отказался от работы в оперном искусстве. А это, как представляется, момент любопытный. Пусть даже сам певец об этом и не говорил и будто не придавал этому особого значения.
Издавна пение на оперной сцене удерживалось на классике. Композиторы прошлого много способствовали тому, чтобы приладить этот сложнейший вид сценического искусства к выражению поддержки или к осуждению процессов надобщественного порядка. Связанных с той или иной государственностью или с племенной формацией. В редкие либретто не включались роли знатных особ, выдающихся управителей, отважных воинов или героев. Это выглядело не чем иным, как заказом сверху. Ему должны были следовать сочинители музыки и голосовых партий. Всё, что происходило на сцене, требовало от зрителей и слушателей досконального уяснения сюжета, специфичных знаний, почти профессионального внимания. Удерживать его на всём протяжении действа было возможно лишь за счёт коллизий индивидуального, личностного ряда, где находилось место всему чувственному. Но при усилении экспрессии, лирики, эстетизма на задний план должно отходить возвышенное имперское или племенное. Соответственно падала выразительность любой коллизии, взятой как целое. Теряли почву трагизм, драматическая и другие составляющие содержания. Жанровая схематичность обрекала оперу на замкнутость, лишала её демократизма. По отношению к ней зрело недоверие, и оно её не сгубило окончательно только потому, что там могли находиться яркие увертюрные пассажи и отдельные сольные или групповые выпевки, цементирующие кондовый каркас. Эти эмоциональные разделы со временем также должны были покидать её лоно, перемещаясь в новые, не столь грубо скованные догматами и более динамичные сферы культуры – в музыкальную комедию, в оперетту и проч.
Российская традиция мало чем отличалась от зарубежной. Уже в первой нашей опере её автору Глинке пришлось решать проблему совмещения увлекательного и интересного частного, индивидуального со скучным великодержавным и историческим. Надо признать: тут ему удалось не всё. Не в последнюю очередь это зависело от либретто, которое было навязано. Композитор практически не мог иметь иного. В дальнейшем то же самое касалось многих сочинителей музыки. Почти неизменной всегда оставалась в опере её внешняя атрибутика, и она никак не могла устраивать публику. Вялые передвижения по сцене артистов, их скомканные жесты и позы, не «идущий» к мелодиям костюмаж воспринимаются как неестественные, ненужные, утомляющие. В нашей современности оперное искусство продолжает оставаться только в пределах его чопорного исполнения. На этапе, когда его развитие, как жанра, закончилось и потеряло всякую перспективу, дали себя знать амбиции, с ним никак не совместимые. Одним из тех, кто смело ушёл в «разрыв» с каноном, можно считать Муслима Магомаева.
Его дарование и мастерство легко укладывались в новых востребованиях. То, что певец появился в советском обществе да ещё и в период глухого государственного застоя, только добавляло ему шарма. Эти же обстоятельства отразились и в его репертуаре. Здесь не разглядеть и не угадать социального протеста. Обаятельный, гибкий, изящный баритон впрямую из оперы ничего не отрицает, он лишь соревнуется, афиширует, показывая, как может ярко засветиться традиция в новой для неё ипостаси, хорошо прилаженной к современности. Исполнительская палитра у Магомаева достаточно объёмна и широка для того, чтобы оценивать её как достижение, где истоком являлась опера. В то же время трудно представить его в роли, где ему пришлось бы исполнять отведённую ему партию на всем протяжении спектакля. Фрагмент, какую-то искрящуюся долю – это да. В остальном он не участник. На всю постановку его желания не хватило бы. В этом-то и заключается его независимость от традиции.
Что же касается эстрады, в принципе он не свой и там. И в прежние времена, и уже сейчас исполнение на уровне оперного легко занимало и занимает строгую концертную нишу, порой очень отдалённую от эстрады. Вспомним, как в этой нише блистал сам Шаляпин. В ней поклонники пения высшей пробы встречали Паваротти, здесь выступают Кабалье, Хворостовский и другие исполнители, которые на более мелкие подмостки отсюда не стремятся. А вот такой певец, как Басков, способный отменно показать себя хотя бы в дуэте с той же Кабалье, наоборот, с удовольствием появляется на этой срединной площадке, постоянно возвращаясь к эстраде и, кажется, вовсе не жалуя оперу. Как видим, вариантов освоения разных частей общей магистрали профессионального песенного искусства набирается немало. Новое время внесло тут свои особенности. Ряд певцов, имея оперные данные, отступают от высших рубежей, сознательно перемещаясь на нижние позиции. К ним, например, сам относит себя Боярский, артист кино, лучший исполнитель роли «главного» мушкетёра.
Когда совсем ещё молодым Муслим легко переключался с «Королевы бензоколонки» на партию Фигаро, находясь вне оперного театра, то восторг, который вызывало у публики это представление, мог указывать только на то, в какой огромной отстранённости находились в тогдашней советской стране отдельные сферы культуры пения. Только спустя многие годы обществу суждено было понять, в какие дебри омертвелой, глухой креативности уводило это жёсткое разъединение.
Как это часто случается, сам исполнитель мог не знать собственного предназначения. При внимательном обзоре его репертуара такой оборот хорошо заметен. Часто им исполняемые «Ах, эта свадьба», «Светит незнакомая звезда» и другие мелодии, хотя и нравились многим, но, по прошествии времени, краски в них померкли, потускнели, бравадность и лиричность как бы перечёркивают здесь одна другую, оставляя после себя ровную остылую пустоту, подчёркивающую общую унылость объятой прошлым общественной жизни.
Уход любимца, названного Орфеем, сегодня воспринимается с особой болью, поскольку на этот раз его имя было поставлено на вид рядом с именем Высоцкого. Уму непостижимо, как можно было целые десятки лет не найти в двух этих величинах хотя бы повода к их соизмерению. Разумеется, попытки заняться этим на скорую руку не вскрыли ничего примечательного. Дело ограничилось досужим сопоставлением двух судеб. Мол, и Высоцкий, и Магомаев, будучи ограничены в концертной деятельности, даже не пробовали вырваться и убежать в зарубежье; у обоих интересы за пределами своей страны возникали как бы через их жён; оба – запредельного исполнительского уровня и потому стоили друг друга. Прозвучало даже такое, что они и как личности одинаковы и даже чуть ли не сподвижники, работавшие в связке, не существовавшие один без другого. Ну, это, будем говорить, особое мнение. Главное, в чём они оказались схожими как представители свежей, демократической волны в культурном процессе, пожалуй, состоит в том, что их исторгло и не медля вознесло ввысь болевшее, утомлённое, обезмысленное общество, не умевшее назначить истинную цену ничему – ни хорошему, ни плохому. Их заслуженное признавание в данном случае не могло быть иным, кроме как в первую очередь со стороны масс, а не правительства. Последнее только всему мешало. И то, чему оно мешало более всего, оказалось центровым для обоих. Исследователям их мощи, которою они воздействовали на умы и сердца людей, ещё только предстоит сказать тут своё веское слово.
Время, отдалившее от нас концертную деятельность Магомаева, отодвинуло от нас и его самого. Мы в России вроде как считаем его своим, а на самом деле, в связи с развалом советской империи, дело тут обстоит иначе. Любой культурный феномен неотделим от той почвы, на которой он появляется. Должны быть соответствующими и права на его наследование. Речь идёт, конечно, о правах во всей их совокупности. То, что Муслим похоронен в Азербайджане, у себя на родине, будет обозначать, что он теперь полностью тамошний – и как представитель этой страны, и как творческая личность, и как выразитель талантливости своей нации, как её герой.
Вне этого останутся только память о нём, восхищение его искромётным даром, всё, чем он умел покорять публику там, где перед ней появлялся. Россия – всего лишь одна из таких былых площадок…
Перед лицом истории
СЕКРЕТАРИ, БЛИН…
В сезоны, когда наступает пора надевать верхние утеплённые одежды и головные уборы, этих людей распознать проще простого. Им свойственна привычка бережливого дорыночного поколения – не выбрасывать носильные недешёвые вещи, каким бы диссонансом по отношению к текущей моде это ни выглядело. В такой бережливости вроде бы и нельзя видеть ничего плохого, поскольку она выражает черту ото всего общества и тем достойна похвалы; но исходящая от представителей скомпрометировавшей себя прошлой властной фаланги она в полной мере представляется и неуместной, и нелепой, а в чём-то даже и – безобразной.
Донашивать старое они были вынуждены, так как этого старого у них ещё в их времена скапливалось больше, чем того требовали персональные потребности. Не считалось у них зазорным поднакопить дорогущих соболиных и шиншилловых шуб, пыжиковых и бобровых шапок, каракулевых папах, «русских» сапожек и прочего подобного ассортимента, не говоря уж о редкостных импортных плащах, мужских костюмах и женских платьях, мебели, книгах, коврах, изделиях из хрусталя. Не по одному экземпляру и не на какой-то разумный срок носки или вообще пользования эти вещи приобретались, а про запас и помногу, зачастую ровно столько, сколько их поступало на оптовые торговые базы, где негласно действовали настоящие развитые резервации шмоткового дефицита, не предназначенного для народа. При этом каждый, кому такое было доступно, подшкурно высчитывал возможные жизненные повороты на случай, когда приобретения уже давались бы нелегко, не так, как на моменты фарта, ввиду чего остановиться в жажде накопительства было своеобразной непреодолимой проблемой.
Тому ещё способствовало и то, что в их эпоху так было всё поставлено с модой, что новое в ней почти не могло пробить себе дорогу и практически не проектировалось. То, что уже было задано как стилевой знак, удерживалось прочно и долго, мало изменяясь на протяжении десятилетий, повторяя или копируя динамику тогдашнего партийно-государственного застоя в целом. Относительно подвижным процесс был, пожалуй, только в тех сферах, где властная фаланга входила в прямое соприкосновение с заграницей. Тут не любили ударять в грязь лицом.
В наши дни, встречая где-нибудь в малолюдном переулке пожилого, измождённого временем человека, одетого, скажем, в основательно уже немодную, провисшую на плечах, выцветшую дублёнку, со столь же примятой временем ондатровомеховой шапкой на голове, только и сможешь выразить к нему своё отношение в виде сочувствия: нелегко бедолаге в статусе отстранённого от власти. Он идёт будто прячась; на людной улице ему неуютно. Что с того, что он когда-то был многосилен и влиятелен? Ныне это отброс, который уже никуда не приладится. Нет ни горделивой осанки, ни уверенности в себе, ни круговой спеси, и здоровья, конечно, тоже нет, ведь годы идут и идут. Возникает чувство жалости и тоски, как при встрече с настоящей современной бедностью и беспросветом. Это, как я полагаю, вовсе не потерянность и пришибленность из-за нахлынувших обстоятельств. Просто внутри, в душе не было и не могло быть ничего от смелости, от осознания своей персональной твёрдости хотя бы в чём. Раз там селился шмоточный интерес, то и всё остальное, вылезавшее наружу, должно иметь соответствующий окрас. Та самая неосновательность и нищета смысла. Хоть как-то скрыть их могла разве что умышленная показуха, которой в застоявшемся обществе была буквально пронизана и напитана вся окружавшая действительность и духовность.
Обладая властью, занимая в ней все возможные и часто даже выдуманные ниши, эти странные люди становились поистине беспощадными в оценках состояний простого человека, из-за их жадности полностью лишённого качественных имущественных или сервисных благ. И как бы ещё в насмешку над униженными сословие власть имущих что ни дальше во временном тупике, то всё больше поощряло старание работных людей производить товары, не совместимые ни с обиходным назначением, ни с условиями моды. Так называемый вал, как символ производственного отчёта, был и в самом деле валом, сметавшим на своём пути, казалось, всё, доступное пониманию потребителя. Нынешние социологи и политологи то и дело укоряют погибший режим: всё, мол, было тогда в дефиците. Неправда! Заходя, к примеру, в магазины одежды, каждый испытывал отупляющее чувство от неизменного изобилия, размещаемого на прилавках, подставах и стойках. Товары лежали целыми затхлыми кучами. А где они выставлялись на вешалках, трудно было просунуть ладонь, чтобы отделить для рассмотрения какой-то из образцов. Другое дело, что всё это изобилие никому не нравилось, было изготовлено безобразно или даже испорчено. У меня, например, руки длиннее усреднённого «норматива», и я в течение десятков лет не мог для себя найти в магазинах и лавках ни одного подходящего пиджака, ни одного пальто, ни одной рубашки. Все они шились накоротко, из-за чего напрочь от меня отторгались. Деваться было некуда, в конце концов, стиснув зубы, покупал то, что предлагалось. А сколько недобрых эмоций набиралось в чувствительных женских натурах!
Во что пытался их одевать-обувать окаянный строй? Сколько пролито слёз девочками-подростками и девушками, не знавшими, где приобрести хотя бы то простое, которое годилось бы напоказ перед избранниками сердца, на самую обычную вечеринку! Такого не находилось. Часто не находилось вовсе. Для женских ножек обувные предприятия выпускали массовые поделки исключительно малых размеров, до тридцать восьмого, в лучшем случае – до тридцать девятого. То, что размером выше, найти оказывалось невозможно ни за что на свете, бейся женская душа хоть об стену. Существовал, правда, сектор обувных мастерских, принимавших индивидуальные заказы от населения. Но то был заведомый примитив. Отсутствовали нужные поделочные материалы, модели предлагались неудобные, невзрачные на вид, непрочные. Из-за этого разместить заказы могли только редкие желающие. Для большого числа клиенток так и суждено было оставаться босиком. Ни за порог выйти, ни на работу устроиться. Что касалось элиты, то на неё работали отдельные мастерские, ателье, лечебные учреждения, столовые и проч. Состав их посетителей определялся тем, какое место занимал тот или иной человек в номенклатурном ранжире.
Такое вот наблюдалось общественное «равенство». Даже в том случае, когда кому-то удавалось получить добро от всевластных на приобретение дефицита, кончалось всё, как правило, печально и оскорбительно. Обещанное или «выделенное», не церемонясь, присваивали завмаги, товароведы, продавцы и другие исполнители, чтобы иметь свою выгоду. Отличались они стабильной неподконтрольностью даже своему непосредственному начальству, нравом были сущие хамы и стяжатели. Дефицит превращал их в потаённое, презираемое, гнусное сословие. Перед ним люди были бессильны, приходили в полное отчаяние. А между тем вал наработок и поступления некачественных, не подходящих к употреблению вещей в торговые сети всё продолжался. Магазины и склады трещали от барахла. Его беспощадно и методично списывали и, следуя инструкциям, по актам уничтожали, разбивая или сжигая, или же давали ему ход в утиль, в переработку, на сырьё для того же бессмысленного поточного производства товаров так называемого «народного потребления». Процессу утилизации сопутствовало повальное воровство.
Высокомерие исходит не оттого, что есть бедные и богатые по признаку наличия имущества и доступа к благам. Оно расцветает при отсутствии культуры духа, когда утрачивается желание понимать, что происходит вокруг, чем ты обязан другим. Когда полностью размывается сочувствие к оскорблённому. Своеобразная отделённость от массы может восприниматься отделённым реальной, ничем не сдерживаемой свободой. Осудить её снизу оказывается невозможно. В таком значении она обрекается расти до масштабов немыслимых. Высокомерие, становясь публичным, дробится на отдельные, порой очень яркие приметы сословного вырождения.
Войдя первый раз в кабинет Березина, первого секретаря Мордовского обкома, я, естественно, не мог не отметить для себя некоторых элементов ритуала, в которых ему было свойственно вести беседу с посетителями. Стандартное для партийцев-бонз бодрецкое вставание из-за письменного стола, выход навстречу, приветствие как голосом, так и пожатием руки, почти мягкая, тихая речь, не прерываемая из-за приглушённого, почти беззвучного стрёкота телефонов. Тон деловой, ровный, толковый. То, что может решаться неотлагательно, так сразу и решается. Веришь, что и обговорённое на будущее также останется во внимании, не забудется и непременно решится. Но зачем он раскачивает себя в кресле? И будто бы готов превратиться в чудовище, если то же самое позволю себе я. Скрипят детали креслового скелета, скрипит кожа сиденья. Ощущение превосходства надо мной давит на меня, на мои чувства, лишает устоенного в кабинете комфорта. Мне, разумеется, раскачиваться ни к чему. Хотя программа визита вышла целиком к моему интересу, в памяти остаётся оскорбительная зарубка: при случае этот человек может смять меня одним лёгким жестом. Годы спустя как раз к тому всё и подошло, уже, правда, с довольно слабым зарядом: партийная абсолютная власть того, последующего времени катастрофически рушилась, падала и проявляться могла не столь губительно, как раньше. Травля в отношении меня, тогдашнего репортёра «от» Москвы, с подачи первого состоялась по той же технологии, как и предусматривалось обычаем, однако я мог уже и посопротивляться, и в каком-то смысле даже дать сдачи, что, в конце концов, и решало исход той истории, как я считаю, в мою пользу. Впрочем, по этой части я уже немало рассказал в предыдущих заметках. Здесь – о другом.
Раскачивание в креслах у первых лиц входило в дурную моду.
Когда в Темникове я впервые зашёл к Кулакову, он, выславший мне навстречу машину и ждавший меня, с кресла не встал и, качаясь в нём, спросил, есть ли у меня документ. Я знал, что это могло быть связано с близостью к секретному Сарову, и показал удостоверение, на что визави, как бы в оправдание за лишнюю формальность обронил: это, мол, просто из любопытства, никогда такого не видел и не держал в руках. Беседа уже началась, он так и сидел в кресле, качаясь. В одну из небольших пауз я попросил показать мне его документ. Кулаков зашёлся бледностью, привстал, суетливо порылся в карманах пиджака. Чувствовалось, как он старательно и быстро упрятывал страх. Подавая корочки, улыбнулся лёгкой гримасовой улыбкой. Я тоже никогда не держал в руках удостоверения первого секретаря райкома, сказал я ему. Мало-помалу он приходил в себя. Кресло поскрипывало только в отдельные моменты. Из-за чего он убоялся? То ведь была шутка, не более…