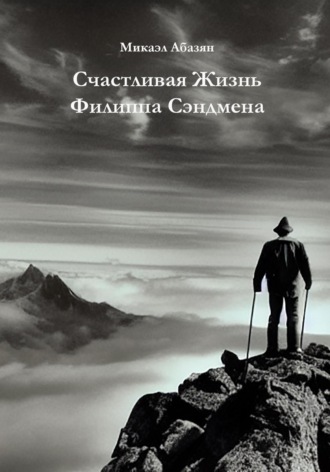
Микаэл Геворгович Абазян
Счастливая Жизнь Филиппа Сэндмена
– Чего от нас хотят? – так же шепотом спросил Омид. – Чьи мы заложники?
– Боюсь оказаться правым, но все говорит о том, что нас передали тем извергам, о которых ходили слухи, – с дрожью в голосе отвечал молодой. – В последние пару дней о них ничего не было слышно, я даже начал забывать о них.
– Тогда почему нам не завязали глаза, когда везли и когда заводили в этот дом? Если мы видели место…
– Потому что это им никак не мешает, – заговорил наконец их угрюмый спутник. Каждое слово его падало тяжелым кирпичом, высоко поднимая пыль осознания сказанного, которая после долго оседала в сознании слушавших его. – Они прекрасно знают, что мы отсюда не выйдем и не боятся дать нам увидеть эти места. Каждый из нас обречен на то, что нам уготовлено, и это лишь вопрос времени, когда это все начнет приводиться в исполнение. Если вы слышали о том, что делают эти, как ты сказал, изверги, ты бы сам все прекрасно понял.
– Простите, а вы тоже иностранец?
– Нет, я – просто старик, а это – просто человек, а это – просто его ребенок. Вот этот вот – да, он тоже иностранец. Иностранцы привлекают внимание средств массовой информации, а через них заговорят и о нас, а мы – старики, дети – в свою очередь лишь украсим картину жестокости. Все схвачено, у каждого из нас своя роль в этом терроре.
– Я не понимаю, какого черта они делают в аэропорту? Почему они останавливают самолеты? – возмутился Омид, выражая вместе с тем свою обиду на жестокую иронию судьбы.
– Хм, на самолетах они скорее найдут иностранцев, – с ухмылкой ответил показавшийся еще более старым всезнающий пожилой узник.
– Мы так и не поняли, кто именно нас снял с борта, – вмешался тот, что помоложе. Он прижимал к холодному железу трубы свой ноющий ушиб, словно не внимая тому, что предрекал им старик. – То ли наши военные, то ли еще кто, но нас передали этим штурмовикам. Это точно.
– Что значит «наши» или «не наши»? Как могут наши передать нас… сдать нас… Как могли «не наши» беспрепятственно…
– Да он-то и говорит о том, что это именно наши могли снять тебя и передать кому надо. Ты что, все еще не понял?
Омид действительно не мог понять того, что говорили ему эти люди.
– Никогда не пытайся постигнуть правила игры политиков, ибо они играют по совершенно другим законам. В них нет места совести, морали и благородству. Хотя тебе уже и не суждено что-либо постигнуть в своей жизни… Они идут!
Старик словно постарел еще лет на пять, плотно сжал губы и широко раскрыл покрасневшие глаза, вслушиваясь в глухой стук приближающихся тяжелых шагов, доносившийся из-за двери, расположенной в противоположной входу стене. Щелкнул замок. В комнату вошли трое: один остался стоять у входа, двое же сразу подошли к старику, сняли с него наручники, грубо подняли на ноги и повели вон из комнаты. Продвигаясь к выходу, он улыбнулся и сочувственно оглядел остававшихся в комнате. Будь ситуация несколько другой, по его физиономии можно было бы предположить, что ему выпал какой-то выигрыш, за которым он и пошел, говоря: «Пока, неудачники!».
У самой же двери его взгляд погас окончательно.
– Эти террористы совсем не такие, как в фильмах. Они ставят срок, назначают сумму, а если их условия не соблюдаются они нещадно расправляются с жертвой, снимая все на камеру. Этими кадрами они потом уже наводят ужас на всех, кто смотрит новости. А новости смотрят все. Кто-то доверяет официальным каналам, кто-то ищет альтернативных новостей в соцсетях – неважно. Такие новости обязательно дойдут до своей аудитории и поселят в них страх. Не знаю, как было на твоем борту, но на нашем пассажиры сидели молча, словно куропатки в траве. На их лицах был написан тот самый страх… У вас тоже так было? Кстати, нам уже будет не грех и познакомиться. Меня зовут Руди.
– А меня – Омид. Не знаю, как там у нас было: меня вывели в самом начале. Я во втором ряду сидел… Хотя да, ты прав: никто не возмущался, не шумел. Все восприняли все, как что-то должное, как какую-ту проверку.
– Так все и должно было быть, – обреченно ответил Руди, посмотрев на часы, нервно тикавшие на стене.
Видимо, настала очередь молодого узника просвещать Омида и объяснять ему что к чему, который все хотел расспросить его о том, как и при каких обстоятельствах он попал сюда. Однако его внимание все больше и больше стала привлекать девочка, которая о чем-то очень сильно просила своего отца, который в свою очередь пытался ее успокоить. Говорили они очень тихо – Омид даже удивлялся тому, как они вообще слышали друг друга.
В какой-то момент у него вдруг созрел вопрос.
– Как ты думаешь, почему не забрали меня или тебя в первую очередь? Если мы иностранцы, то…
Он сделал паузу, надеясь, что парень ответит сразу. И он оказался прав.
– …то за нас можно будет больше просить, – выдал тот лаконичный ответ. – Логика вот какая: первым идет старик; за него просят немалую сумму; скорее всего власти не идут на сговор с террористами и не соглашаются; старика очень скоро приканчивают на глазах у всех, особо не церемонясь и давая ощутить степень их решимости; следом ведут иностранца и просят еще более жирный выкуп; власти начинают думать, потому что ситуация выходит на международный уровень; в случае успеха они постараются как можно быстрее передать его и получить деньги, правда вслед за этим им придется поменять место удержания заложников; если же контакт не налаживается, то они приканчивают и его, перекладывая ответственность за его гибель на плечи властей, и предлагают нового иностранца – как бы дают им второй шанс. Ну, а на десерт у них будет ребенок – с родителем или без.
Он перевел дыхание и обратился к отцу притихшей девочки.
– Ты уж прости меня за мой слог. Я говорю все как есть. Чего душой крутить? – Он снова посмотрел на часы. – Жестко? Не спорю. Грубо? Не думаю. Вот потом будет грубо.
Тут словно что-то одернуло Руди, и он, помрачневший о своих же слов, поглядел на тихо смотрящую на него перепуганную девочку, а затем молча опустил голову.
Омид также был безмолвен. На словах «еще более жирный выкуп» его словно что-то дернуло внутри и крикнуло: «Отец бы точно отдал все за то, чтобы выручить тебя из беды!». Он сидел, слушал рассказ Руди, но все время внимательно прислушивался к голосу внутри себя, словно тот еще должен был сказать ему что-то чрезвычайно важное. Но голос молчал, и чем дольше длилось молчание, тем больше овладевали Омидом отчаяние и тоска по жизни, от которой он легкомысленно отказался, и которая продолжала протекать в том же русле, но уже без него. Он тяжело дышал, и он явственно ощущал тяжесть каждого своего вздоха. Другим же звуком, который он слышал, было назойливое тиканье часов, меривших утекающее словно сквозь пальцы время.
А потом в тишину врезались еще два звука: выстрел и глухой удар об пол.
– Тридцать минут! – сказал Руди.
– Что? – переспросил его Омид, вздрогнув от неожиданности и испуга и переглянувшись с такими же испуганными отцом с дочкой. Руди не сводил глаз с часов.
– Ровно тридцать минут дали на старика. Нам дадут меньше.
Цепкие пальцы страха пробрались под кожу Омида, протянулись по жилам, заморозив душу и мозг, и вцепились мертвой хваткой в его сердце.
– Теперь они выберут кого-то из нас. Готовься… как тебя звали, говоришь?
– Омид.
– Да-да, Омид. Готовься, Омид: либо ты, либо я. Омид или Руди – вот увидишь! Они будут здесь в течение минуты.
– За меня никто ничего не даст – ни родственники, ни государство. Люди у нас – расходный материал. Попал в плен – твои проблемы, – жаловался отец девочки.
Голос у него был слабый, выдающий какую-то болезнь. Сам он тоже выглядел неважно, и разбитое стекло в оправе добавляло ущербности к его образу. Он не захотел называть своего имени, чем несколько удивил Омида, и предпочел молчание разговорам. Даже его дочка, пару раз попытавшись заговорить с ним, не получила никакого ответа. По прошествии же пятнадцати минут – Омид неотрывно следил за часами с того момента, как увели Руди – он все же раскрылся, но никакого облегчения это никому не принесло.
Минутная стрелка отклонилась еще на тридцать градусов. Понимая, что времени, скорее всего, остается все меньше и меньше, Омид вдруг решительно посмотрел на своего напарника по несчастью и прошептал:
– Надо плюнуть на все и драться, когда они придут за нами. Использовать все, что попадется под руку и драться. Ломать ногти, крошить зубы, но вгрызаться им в горло и выцарапывать глаза. Пусть теперь они хоть немного побоятся. Ну? Отомстишь за сломанные очки, а?
Отец помолчал еще с несколько секунд, а потом прижал девочку к себе и обреченно закачал головой.
– Они снимут наручники лишь с одного из нас, – прошептал он больным голосом. Сказать что-либо еще он так и не решился вплоть до второго выстрела, раздавшегося через несколько секунд.
Омид опустил голову. Тридцать минут на старика, двадцать – на первого иностранца. Ему тоже дадут не больше двадцати – пятнадцать, скорее всего. Он еще раз взглянул на часы.
«До конца рабочего дня я точно не дотяну», – подумал он, криво улыбнувшись.
«Ушел из дома, убежал с работы…»
Омид вспомнил, как в детстве он стал свидетелем того, как отец одноклассника наказывал своего сына за то, что тот сбежал с урока. «На всю жизнь запоминай! – говорил тот, награждая ребенка очередным ударом палкой. – Я плачу за твое обучение, я его даю тебе, чтобы ты человеком стал; ты же сбегаешь с уроков, думая, что облегчаешь себе жизнь, хотя на самом деле ты лишь убегаешь от своего счастья».
«Интересно, бил бы так меня отец – запомнил бы я этот урок? Или же специально делал бы все назло ему? Эх, во всяком случае он оказался бы прав.»
В дверях уже стояли двое, переговариваясь о чем-то. После один из них приблизился к узникам, но прошел мимо Омида и опустился на корточки рядом с отцом совсем перепугавшейся было девочки. Его отцепили и стали уводить прочь из комнаты, оставив ребенка прикованным к трубе. Она же, несчастная, захныкала и стала тихо звать отца, который также тихо что-то говорил ей в ответ. Может быть он обещал, что ее сейчас приведут к нему, или же он давал ей последнее напутствие на случай, если она выживет, или может быть он благословлял последний час ее жизни – Омид так и не выучил этот язык настолько, чтобы понять их и без того тихую и покореженную слезами и всхлипами речь. Словно лучше всех осознавая ситуацию, в которой она оказалась, девочка закрыла лицо руками и принялась тихо всхлипывать. Она не хотела видеть больше того, что уже увидела. Ей не хотелось смотреть на мир вокруг себя, в котором не было ее отца.
Омид на несколько минут потерял дар речи и с отвисшей челюстью созерцал горе ребенка, безуспешно пытаясь постигнуть хоть самую малую его часть. Внутри же он кипел и неистово кричал: «Ублюдки! Подонки! Твари! Гореть вам в аду!».
Прошло еще семь минут, прежде чем Омид решился заговорить с ней. Он не мог точно знать, в пятнадцать минут превратятся для отца девочки те двадцать минут Руди, или уже в десять. Поэтому он отодвинул в сторону условности и обратился к ней, пытаясь как-то разговорить, в надежде хотя бы заглушить готовый прозвучать третий выстрел.
– Как тебя зовут, девочка? Ты меня понимаешь? Я не очень хорошо говорю на вашем языке, но у меня был хороший учитель, она меня научила многим интересным словам и красивым именам. Какое у тебя имя?
Она что-то тихо пролепетала в ответ. Видимо, она сама почувствовала, что говорила очень тихо, и поэтому она легонько откашлялась и снова назвала свое имя. Однако вторая попытка практически ничем не отличалась от первой.
Только сейчас Омид заметил, что наручник был закреплен на ее руке серой липкой лентой: детская ручка была слишком маленькой, чтобы блестящий браслет смог удержать ее, и изверги не пожалели целого мотка на то, чтобы буквально замуровать в нем кисть ее руки.
Мир поплыл перед его глазами. Сквозь пелену слез он уже не мог разглядеть ни худенькие ручки девочки, ни то, что лежало рядом с ним из того, что смогло бы ему пригодиться, решись он на какое-либо дерзкое действие, ни даже положение стрелок часов. Он не хотел больше смотреть на часы. Это уже было ни к чему. Глаза просохли, хотя все еще горели от соли, дыхание замедлилось, взгляд устремился в бесконечность, а тело расслабилось.
И вдруг в нем снова заговорил тот самый голос, который он так жаждал снова услышать. И голос этот по-настоящему звучал в комнате, ибо говорил он сквозь речевой аппарат самого Омида.
– И кто же из нас важнее: ты, чистое создание, никогда в своей жизни никому не причинявшее зла и непонятно за что готовящееся принять мучения, или я, пустивший всю свою жизнь на ветер, потерявший дом, семью, друзей, подругу? Кто из нас, а? Ты одна у меня осталась, и если меня посчитают более важным, то я пойду с тобой. Я пойду с тобой, малышка, слышишь? Ты не одна. Мы пойдем вместе. Ну, а если ты окажешься самой важной персоной – кто знает, может тебе и повезет. Может быть, за тебя дадут выкуп, или сюда прилетит какой-нибудь супергерой и в последнюю секунду спасет тебя. Слышишь?
Она услышала. Они оба услышали этот выстрел.
Ни проронив ни одной слезы, маленькая девочка и отчаявшийся иностранец посмотрели друг на друга. Каждый из них думал о чем-то своем. Омид не знал, о чем именно может думать ребенок, находящийся в таком состоянии и в подобной ситуации. Сам же он пытался как можно скорее выбросить из головы весь мир и забыть все возможные движения своего тела, за исключением тех, с помощью которых он смог бы осуществить любой из двух вариантов последующих действий. Вся его жизненная энергия сейчас перераспределялась и укладывалась в ноги, в руки, в спину, в пальцы, в уши, в глаза. Услышав ставшие знакомыми глухие шаги по коридору, обычно заканчивающиеся щелчком замка, он кивнул ей, она молча кивнула ему.
– Вставай! – бросил Омиду солдат, сняв с него наручники и слегка пнув ногой. – Иди к двери, давай! – снова приказал тот.
«Значит это ты, Малышка… Что ж, прощай! Удачи тебе!» – сказал он ей взглядом и не торопясь направился было к выходу, как вдруг заметил, что второй солдат снял с плеча автомат, отцепил с ремня и положил на стол нож и присел на корточки рядом с девочкой. Омиду вдруг показалось, что они решили приставить к ней охрану, чтобы исключить любую возможность для какого-либо сопротивления с его стороны. «То есть она все это время будет под прицелом!» – осенило его. И молнией в нем родилось новое решение.
– Вы что, оставите маленькую девочку одну в этой страшной камере?! Я хочу взять ее с собой. Пусть мы будем вместе…
– Возьмешь-возьмешь, не беспокойся, – усмехаясь, отвечал тот, который был рядом с девочкой, вытаскивая нож из ножен. – Там вас обоих уже ждут.
Холодный пот выступил у Омида на лбу, когда блестящее лезвие оказалось рядом с рукой ребенка, но солдат лишь стал разрезать слои липкой ленты, а когда браслет был полностью очищен он взял ребенка за руку и потянул за собой. Девочка засеменила худенькими ножками, а сопровождающий Омида снова пнул его, приказав идти вперед.
Коридор тянулся метров на десять вперед до поворота направо и продолжался примерно на столько же. В конце виднелась такая же дверь. Конвой приказал ему повернуть направо, и перед ним открылся еще один коридор, длиннее первого раза в полтора. Конец этого коридора упирался под прямым углом в такой же, по всей видимости, коридор. Омид предположил, что здание, в котором они находились, напоминало лежащую букву «Н», вытянутую раза в три по ширине, каждая ножка которой начиналась и заканчивалась помещением. Если смотреть на эту букву, то получалось, что узников держали в левом нижнем помещении, а сейчас, проведя их по левой ножке этой буквы вверх, их повели по горизонтальной перекладине. В самой ее середине, в стене слева зиял открытый дверной проем. Подходя к нему, Омид смог увидеть следы совершенных здесь преступлений, а войдя внутрь – и сами тела несчастных жертв.
– Малышка, смотри только на меня, я тебя очень прошу, – успел он бросить ей, повернув голову назад, но снова получил пинок, что очень разозлило его. Из-за стола поднялся небритый верзила и приказал Омиду стать у стены.
– Смотри на меня, Малышка, смотри на меня… – не переставая говорить с девочкой, выполнил приказ Омид. Он смотрел в объектив фотокамеры, установленной перед ним на штативе. Верзила нажал на кнопку пульта. Сработала автовспышка.
– Два шага вперед делай, садись на стул, имя называй, говори из какой страны, скажи, что ты – заложник, и чтобы все внимательно слушали тех, кто будет говорить, – снова приказал он, а четвертый, предварительно надев балаклаву, встав за его спиной с пистолетом в руках.
Омид сделал все, что ему приказали, после чего процедуру начала проходить девочка. С ней говорили на ее родном языке, но ответы дублировали на английском. На нее постоянно кричали, требуя, чтобы она говорила громко и ясно, тем самым лишь пугая ее, и приказывали смотреть прямо в камеру. Как бы Омид ни оберегал ее от этого, она не могла не увидеть окровавленные и изуродованные трупы, что были свалены у противоположной стены. На самом верху лежало тело ее отца.
Когда остановили съемку, Четвертый солдат снял балаклаву и обратился к Омиду.
– У тебе деньги много есть? Домой много деньги есть?
– Сколько у меня дома денег? На родине у меня дом есть, но я там не жил много времени… – замямлил он.
– Не жил дома, а домой летать? Деньги есть, не ври! Не говоришь – мы сами щас узнаваем, – припугнул было его Четвертый, и приказал Верзиле снова подойти к камере. Поняв, что тот хотел получить, Верзила приказал Омиду взять девочку на руки и встать у стены.
Видимо, Омид с ребенком были настолько напуганы происходящим, что первый же кадр, полученный нажатием одной кнопки, вызвал у всех присутствующих восторг. Они в голос загоготали и начали хлопать автора снимка по плечу, показывая поднятые вверх большие пальцы. Вдохновленный успехом, Верзила снова приказал сделать им два шага и сесть на стул, посадив девочку к себе на колени.
«Какая же ты худенькая, – думал он, прижимая ее к себе и стараясь не сделать больно. – В тебе веса нет, оттого и голос не выходит… А может быть у них какая-то общая болезнь с отцом?» – грешным делом подумал Омид и легонько отстранился от ее лица. Она же все смотрела и смотрела на него, как он ей наказал.
– Давай опять имя называй, свое и ее какой-нибудь имя дай, говори из какой страны, скажи, что ты и ребенок – заложники, и чтобы все внимательно слушали тех, кто сейчас будет говорить, – монотонно проговорил Верзила.
Четвертый снова надел балаклаву и достал пистолет, взяв с собой одного из двух конвоиров. Тот поспешно скрыл лицо и вытащил свой нож, и они заняли позиции по обе стороны от узников.
В это мгновение произошло сразу два события: Омид понял весь ужас ситуации, и у него созрел новый план действий. С первым событием уже ничего нельзя было сделать. Все упование было на дерзость второго, и он рискнул.
– Что же вы, твари, делаете?! Цену повышаете, да? Последний лот самым жирным хотите сделать, да? Иностранец с ребенком! Два по цене одного? Или два в квадрате, да? Ублюдки!
Омид все повышал и повышал голос, стараясь не выпускать из рук девочку. Шум перерос в настоящий скандал, который Верзила, Четвертый и один из двух конвоиров бросились подавлять. Омид пнул ногой стул, направив его прямо на штатив, на котором была установлена фотокамера. Верзила бросился спасать ее, а сам Омид получил несколько шлепков по голове. Закрыв собой девочку, он успел получить еще пару нехилых ударов, прежде чем в комнату кто-то вошел и остановил экзекуцию. Видимо, он был старшим из них по званию или по положению и имел право вмешиваться во все процессы. Пока он получал быстрое объяснение происходившему, Омид обернулся и успел пересчитать всех, кто находился на тот момент в помещении. Шестеро, если его не подводят глаза. Он даже немного сменил позицию, сделав вид, якобы еле держится на ногах, чтобы поменять угол обзора дабы случайно не упустить кого-нибудь, скрытого фигурой впереди стоящего. Нет, их было шестеро, и Омид надеялся, что на поднятый им шум сбежались все, кто находился в этой растянутой букве «Н».
Главному в этот момент показывали последний кадр, который и его впечатлил, за что Верзила получил еще один поднятый вверх большой палец. Главный попросил показать все отснятые материалы, и начал смотреть видео девочки, потом видео Омида, а затем снова попросил показать их совместную фотографию. Он задумался, насупив брови, и распорядился о чем-то, сделав жест рукой, судя по которому их снова должны были отвести обратно в первое помещение и подержать там еще какое-то время.
«Они должны определиться, на что именно им нужно будет сделать упор: на два видеоматериала, или же на один кадр, который оказался неким шедевром, способным передать всю боль и страдания двух несчастных, запечатленных на нем. Может быть они и добавят наши сольные видео, но фотография там будет обязательно. И если им нужно время, чтобы обдумать свои действия…»
Первые два конвоира – Т1 и Т2. Верзила – Т3. Балаклава – Т4. Главный – Т5. Шестой – Т6.
Так обозначил своих противников Омид у себя в уме и составил карту, на которой расположил эти пронумерованные фишки. Осталось лишь убедиться в том, что все остаются на своих местах, и что вести их обратно будут все те же Т1 и Т2.»
– Я прошу прощения за остановку, – вдруг сказал Филипп. – Эти Т1, Т2 и так далее… Я пока еще не могу сказать, что закончил поиск верного варианта их обозначения и упоминания. Это последнее из того, над чем я работал, но так и не успел определиться с ними. Мне было необходимо закончить все к обозначенному сроку. Просто хочу, чтобы вас эти обозначения не смущали. Еще раз прошу прощения. Симон, продолжай, пожалуйста.
«Итак, оставалось лишь убедиться в том, что все остаются на своих местах, и что вести их обратно будут все те же Т1 и Т2.
«Да, это они! Т1 и Т2, и они сейчас смотрят нам в спины. Где находятся остальные и чем они заняты? Т3 нервно проверяет, не сломал ли я его камеру, Т4 – не знаю, чем именно он занимается, может и подготавливает место для очередной экзекуции. Т5 вернулся к себе в противоположное крыло. Оттуда сюда будет метров пятьдесят. Остается Т6, о котором я ничего не знаю, кроме того, что он есть.»
Мысль Омида сконцентрирована. Он шагает, не торопясь, прихрамывая и согнувшись от якобы мучающей боли, хотя на самом деле все болевые рецепторы у него отключены и сейчас он не чувствует боли, не чувствует вообще ничего, кроме вскипающего гнева. Они спускаются по левой ножке буквы «Н». Т2 приказывает им остановиться и обходит их, чтобы отпереть дверь. Ему мешает автомат, и он приставляет его к стене. Омид понимает, что единственный промежуток времени, в течение которого он будет в состоянии контролировать события – это ближайшие несколько секунд, отчет которым начнется с первым поворотом ключа. Но прежде нужно незаметно отстранить ребенка в сторону.
Щелчок одной пружины в замке освобождает другую, находящуюся в механизме гнева Омида. Легким движением правой руки он отталкивает девочку в сторону двери, после чего резко оборачивается вокруг своей оси и в тигрином прыжке бросается на стоящего сзади Т1. Его большие пальцы ложатся на глазные яблоки конвоира, голова которого сейчас кажется маленькой, словно детский мячик, и такой же мягкой. Было бы у Омида времени побольше, он смял бы ее, как пивную банку, но сейчас он ограничивается лишь тем, что выдавливает оба глаза. Полностью вверяя Т1 в руки овладевшими им боли и ужаса и оставляя его за собой, Омид снова молниеносно разворачивается и бросается на Т2, который, услышав позади себя возню и инстинктивно потянувшись за прислоненным к стене стволом, неудачно задевает его рукой и упускает возможность вовремя открыть огонь. Вдобавок, он забывает о прицепленном к ремню ноже, на который и был нацелен бросок Омида. Мгновение – и нож начинает сопровождать движение правой руки Омида от ремня вверх к покрытой щетиной коже горла его новой цели. Боль, шок и предсмертный ужас набрасываются на подкосившегося Т2. Удерживая нож стальным крюком, в который превратились мизинец и безымянный палец правой руки, Омид поднимает упавший автомат, а левой рукой, словно крылом, прикрывает голову девочки и легким давлением сажает ее на корточки, приказывая закрыть глаза. Глаза его, пренебрегая помехой в виде мечущегося и орущего от боли Т1, ни на мгновение не отрываются от коридорной развилки. Они следят за освещенностью пола и стены, которая через насколько секунд начинает меняться от вырастающих на них теней: кто-то спешил на шум, доносившийся из левой ножки буквы «Н».
За эти несколько секунд можно было бы сделать намного больше, чем просто снять автомат с предохранителя, но что-то мешает Омиду сделать это. Руки затряслись и силы захотели покинуть его пальцы, но глаза скомандовали: «Т3 и Т4 – в коридоре!». Эти двое явно не были готовы к тому, что им пришлось увидеть. Все их внимание привлек рев мечущегося от боли Т1, на фоне которого вторым голосом прогремел другой. То заревел Омид, бросившийся на них в новом порыве гнева. Из глубины коридора в них прилетел нож, который тот метнул наугад. Видимо он и мешал ему справиться с автоматом, и сейчас он предпочел потерять надежное холодное оружие, но во что бы то ни стало привести в действие огнестрельное. Бросок этот не был бесцельным: своим зазубренным ребром нож ранил Т3 в шею, от неожиданности сбив его с ног. Конечно, в Верзилу было легче попасть, да и стоял он впереди. Т4 же за его спиной успел достать пистолет и теперь хочет открыть огонь, но и у него возникает какая-то проблема с механикой. Секунда замешательства, и возникший словно из ниоткуда приклад автомата ударом огромной силы с хрустом разбивает его нос в кровь. Срабатывает инстинкт, и Т4 обращается в бегство.
Наконец-таки автомат спущен с предохранителя. «Очень кстати!» – думает Омид, видя спешащего на подмогу Т5, на ходу вынимающего из кобуры пистолет. Вдруг раздается выстрел. Омид еще не успел нажать на спусковой крючок, а Т5 еще не успел достать свое оружие. Кто стрелял? В момент выстрела Омид успел почувствовать, словно кто-то легонько хлестнул его по левой щеке. Еще один такой же выстрел, но на этот раз лишь рассекаемый ударом воздух прошелся по его левому виску. Стрелял отходивший от шока Т3. Он уже готов был произвести третий выстрел, но Омид точным ударом ноги выбил ствол из его руки, после чего наконец открыл огонь по целившемуся в него Т5, который через пару мгновений рухнул на грязный пол и забился в агонии.
Помня о способности боеприпасов заканчиваться в самый неподходящий для этого момент, Омид сдерживает свой гнев и, ограничиваясь короткими очередями, приканчивает Т3. Распластавшийся на полу Верзила еще дергается в конвульсиях, пока Омид выстрелами в упор прекращает мучения Т1 и Т2, который все же смог проползти несколько метров по коридору. Сквозь звон в ушах он слышит, как кто-то выкрикивает: «Зови! Быстро!» и бежит по центральному коридору по направлению к ним. Омид камнем падает на пол и ложится, вплотную прижавшись к телу первого конвоира. Через три секунды, показавшиеся ему часом, из коридора выбегает вооруженный автоматом Т4, открывая на ходу огонь по месту, где должен был находиться их взбунтовавшийся узник. Но его там нет. Секундное замешательство, и Т4 упускает последнюю возможность что-либо сделать: короткая автоматная очередь откуда-то снизу превращает его голову в кровавое месиво.
Вскочив на ноги, Омид, быстро попятился назад, к двери, где он минуту назад оставил напуганного ребенка. Он не сводил глаз с коридорной развилки, потому что на слух, временно выведенный из строя стрельбой, уже нельзя было положиться. Надеясь на то, что девочка закрыла свои уши на время пальбы, он тихо позвал ее и сказал, что почти ничего не слышит и попросил дотронуться до него. Не получив ответа, он вдруг подумал, что случилось непоправимое. Резко повернув на мгновение голову в сторону угла, в котором она должна была находиться, он с облегчением обнаружил в зафиксированном его мозгом снимке девочку, продолжавшую сидеть на корточках, закусив губу, зажмурившись и закрыв ладошками уши. В двадцати сантиметрах над ее головой стену пересекали следы от автоматной очереди, выпущенной Четвертым.
– Жива! Жива, Малышка! Мы оба все еще, живы, слышишь? – шептал он ей, дрожа от напряжения. Она же пребыла в спокойствии, как ему показалось. Не теряя контроль над коридором, Омид обнял ее и прижал слабенькое тельце к себе, стараясь не закапать кровью, текущей из раны на левой щеке. Девочка пребывала в каком-то оцепенении, и он решил не беспокоить ее лишний раз.
Но дело еще не было полностью завершено. Оставался Т6, тот, о котором Омид знал меньше всего, и который был вдвойне опасен с учетом того приказа, который он успел получить от Четвертого. Омид жестом приказывает девочке оставаться здесь, и она кивает в ответ. Подкравшись к центральному коридору, он прислушивается. Сквозь лениво отступающий гул в ушах он слышит какие-то неразборчивые звуки, но не может разобрать их природу. Омид решается на вылазку.
Не мешкая, он добирается до той ужасной комнаты, в которую он недавно вошел запуганным заложником, а вышел готовым на многочисленные убийства хищником. Внимательно осмотрев ее снаружи и не найдя причин для опасения, он входит в комнату. Никого. Остается правое крыло здания. С автоматом наперевес, Омид подходит к коридорной развилке, зеркально совпадающей с той, в которой он пару минут назад дал свой первый смертельный бой, и прислушивается. Да, он не мог полностью доверять своему слуху, но не быть уверенным в том, что доносилось до него слева он не мог: Т6 говорил с кем-то по телефону и, несомненно, поднимал тревогу.
Зная лишь то, что они находятся где-то за городом, в получасе езды от аэропорта, он совсем не знал, откуда должна прибыть поддержка и сколько у него остается времени на побег. Действовать нужно незамедлительно.
Быстро подбежав к двери справа по коридору и дернув за ручку, Омид вычеркивает ее из списка опасных локаций. Не мешкая, он подбегает к двери, за которой должен находиться Т6, и с разбега бьет ногой чуть правее замка, который разлетается к чертям. Не жалея патронов, Омид поливает комнату огнем, но вскоре останавливается, обнаруживая ее пустой. В ту же секунду звучит выстрел за окном, ему звоном отвечает бьющееся стекло и, вцепляясь в волосы, из стены вылетают кусочки штукатурки.
«Значит он таки успел и тревогу поднять, и выбежать из здания через дверь, такую же как та, через которую нас в него ввели, а после заколотили», – понимает Омид с глубоким сожалением. Теперь он находится под чьим-то контролем или даже прицелом. Нельзя было этого допустить, и в голове его незамедлительно формируется новый план.



