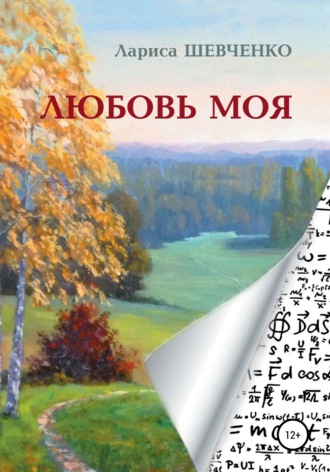
Лариса Яковлевна Шевченко
Любовь моя
– У Аллы более высокие цели. Она во главу угла ставит мысль как философское понятие. Это совсем иная, во многом непознанная планета. Там другие меры глубины познания мира человека, иные пути и способы постижения действительности. Трудно найти соответствие ее таланту. Она не опускается до мелочей. Вот тебе пример. Поэт сказал: «Движение – это мука материи». А философ? «Движение – это форма существования материи». И у того, и у другого присутствует озарение ума, но у первого оно из области чувств, у второго – логическое, научное. Иногда они смыкаются, синтезируются. Может, поэтому Алла, как никто другой, чувствует ту грань, на которую поставлена та или иная человеческая судьба. Она развивает не фабулу, а мысли. Поняла? Прониклась? Не погрешу против истины, если сообщу, что редко кому удается стать выразителем чаяний всего народа. Я тебе больше скажу: Алла, наверное, не станет голосом нового поколения, но внесет существенный вклад в развитие философии и теории литературы. Тебя устраивает мое объяснение и мой вывод?
Мы с Аллой и пишем по-разному. Я – пока чувства не остыли, а она ждет, пока эмоции улягутся. Но обе мы любим или ненавидим то, о чем сообщаем читателям.
– Какого калибра Человек! Мне сложно жить рядом с титаном мысли, создающим нетленные, ни на что не похожие вещи, те, что не с конвейера, в репертуаре которого доминируют философские шедевры! Как бы мне ненароком своей болтовней не осквернить ее ауры. Не около каждого человека могут произрастать и буйно распускаться прекрасные цветы. По нашим деревенским меркам, я как анклав феодализма среди умов-небоскребов капитализма, – шутливо-патетически отозвалась Инна. – Алла счастливая. На ней лежит божья благодать? С детства отец внушал ей, что она самая красивая и бешено талантливая. Она чувствовала себя защищенной. Наверное, всю жизнь держалась памятью своего детства. Это о ней с уважением говорили: «Девочка из Ленинграда!» Счастливое детство – это подарок судьбы. Детство, проведенное у Христа за пазухой, определяет основной вектор и выстраивает дальнейшую жизнь. А мы были многого лишены. Нам приходилось перебарывать комплексы, взращенные детством. Я – бравадой, а ты, Ленка, – упорным трудом доказывала свое первенство или превосходство. Я не считаю, что наше детство благотворно сказалось на нашей жизни. И хотя, безусловно, кое-какие уроки мы из него извлекли, я бы никому не пожелала его повторения. Правда, кое у кого судьбы были на порядок хуже наших… и тогда они оказывались ставкой ценой в жизнь. Разве те дети того заслуживали?
Аллина судьба продолжится и после смерти. А мое «будущее» под сомнением. Ты, Ленка, с Аллой одной группы крови, мудра при всей своей наивности и детскости, но и твое будущее, которое… за гранью, тоже под большим вопросом. Ты не допускаешь, что…
– Звучит умопомрачительно устрашающе. Это твой новый, нерасхожий репертуар немыслимой глубины, необъятности и трудности восприятия? – усмехнулась Лена. – Если, как ты считаешь, Алле рукой подать до бессмертия, то растолкуй, где и когда будет происходить самое важное для нас с тобой?
– Вот так! И никакой тебе двусмысленности, неясности, и никаких затравленных, отчаянных выражений глаз, без которых не обходится ни одно обсуждение этой темы? Одна лишь мягкая ненавязчивая манера держаться среди друзей?! – как-то странно рассмеялась Жанна.
Инна с Леной переглянулись и не стали продолжать свой разговор.
– …Вижу, Лена, не расточаешь пустую хвалу «собрату» по перу. Я прикинула, и сочла твое нетривиальное объяснение творчества Аллы лучше моего собственного. Оно мне импонирует. Но и свое мнение я не забракую, оно сойдет за милую душу в кругу не очень… интеллектуальных слушателей, под тем предлогом, что философия не всем по зубам… по мозгам, – весело завершила Инна одну свою мысль и преподнесла следующую:
– Лена, просвети меня, по чьему совету Алла занялась философской стороной вечных проблем человечества, а не мироздания? Она случайно наткнулась на идею, на свидетельства современников, копаясь в архивах своей безграничной памяти? Всевышний надоумил? Может, в этом просматривается твое личное присутствие или твое опосредованное влияние? Сознавайся: с твоей подачи, при твоем содействии? Почему бы и нет? Алле оставалось только подобраться к теме, прорости в нее. Но одолевали сомнения: чтобы иметь право о ней говорить, надо получить какие-то скрепы. А тут ты… Я не в упрек тебе. Напротив. Ты подтверждаешь бездонную глубину ее мыслей и веришь в нее, а это уже много.
– То была свободная воля сильного, знающего себе цену человека… Так перед этим была еще не тема, а только подводка к ней, прелюдия? Не затевай, пожалуйста, нового спора, я его не переживу. Ну что ты привязалась к Алле?! Зря стараешься. Мы с ней не соперницы, не конкуренты.
Лена начала выходить из себя. «От скуки вяло перекидываемся ничего не значащими фразами. Инна, как же я сегодня от тебя устала! Бывает сердечная недостаточность, эмоциональная, а случается и умственная. Вот так иногда терпишь, терпишь… Я позволяю себе злиться?» – одернула она себя.
Но Инна не оставила своих рассуждений.
– Ты считаешь, Аллины шедевры надо сохранить для отечественной и даже мировой культуры? Она попала в топ или шорт-лист? Ты знаешь, призеры «Большой книги» автоматом переводятся на двадцать-тридцать языков! Вот это триумф!
– Этому должно предшествовать хорошее информационное сопровождение. Может, ей важнее получать призы читательских симпатий.
«Ну, если дальше не пускают… Любовь и признание – это орден и медаль?» – пренебрежительно фыркнула внутри себя Инна.
– А ты, у меня нет сомнений, попадешь в высшую лигу. Твои книги еще совершат полный оборот вокруг земного шара с остановками на всех континентах, во многих странах. И за столетия они ни на йоту не потеряют своей притягательной силы. Париж и Лондон тебя еще не ангажировали? (Вот болтушка!)
– Кругосветное путешествие? А может, и в параллельный мир?
– «Если не мечтаешь, что твои книги прочитают миллионы, не садись писать», – заявила Инна.
– Фантазерка! Попаду, если только ты станешь председателем комиссии по… – Лена умышленно не договорила. В ее улыбке промелькнула легкая вежливая насмешка. – Или хотя бы окажешься в числе тех ста специалистов самого высокого класса… Пошутила и хватит. Не будем касаться этого вопроса.
– Меня нелегко сокрушить. Алла – культурное событие в истории нашей страны? – сделала попытку отвоевать утерянную позицию Инна, но, зная, что перед ней достойный противник, поняла ее бесполезность и замолчала.
– А в моей теме академизм не очень уместен, – ушла от вопроса Лена, – хотя я этого не могу однозначно утверждать, нет внутренней уверенности. У меня много скепсиса по поводу собственных способностей, знаний и возможностей. Смогу ли понять тему иначе, развить интересней, насытить чем-то, чего нет у других авторов, чтобы не обмануть ожиданий читателей? И это при том, что мои литературные предпочтения сложились еще в детстве.
– У тебя есть творческая жилка, но ты человек вдохновенной… неуверенности и неудовлетворенности. Ты самоедка. «И мнится мне…» Не прибедняйся. Знаешь ведь, что достойна похвалы, что особенная. В тебе есть больше, чем требуется этому миру… Ты грешным делом не кокетничаешь? – Инна скорчила удивленную рожицу. – Шучу, шучу. Не пыли.
– Жванецкого все равно не перешутишь. Такова твоя «трактовка моего образа»? Диагноз окончательный и пересмотру не подлежит? – усмехнулась Лена.
– Нет, – с кротким достоинством ответила Инна.
Аня обратилась к Лене:
– Вот у тебя каждая следующая книга лучше предыдущей, а у моего знакомого наоборот. Его последние рассказы, как конвульсии предсмертной агонии. Он исписался? Был взлет творчества и сошел на нет? Но ты же знаешь, если писатель один раз понравился читателям, – особенно если он устанавливал связь между видимым и невидимым, но ощущаемым, между людьми и их чувствами, жизнью и смертью, – то он оказывается в вечном долгу перед ними. Они ждут от него еще более интересных произведений.
– Самое страшное для писателя – потеря вдохновения. С возрастом, когда душа неуклонно остывает и угасает, уже может не возникать яркого вдохновения. Исчерпывается ресурс памяти и воображения. Так бывает, – посочувствовала Лена неизвестному ей автору. – Только иногда одной книгой или одной песней имя автора остается в веках.
– «Когда дряхлеющие силы нам начинают изменять…» Тютчев был гений… Всевышний, спаси нас от клеветы, от озлоблений, – задумчиво себе под нос непонятно к чему пробормотала Инна. – Тебя писателем сделало детдомовское детство, ты в нем как сквозь асфальт проросла. Кто-то из великих грустно пошутил, что залог творческой гениальности – несчастливое детство.
– Если есть чему прорастать, – добавила она хмуро.
– Каким бы ни было детство – оно все равно детство. В детдоме я обрела жажду жизни, стремление бороться и достигать, – не согласилась Жанна.
– А Риту пробудила к творчеству ее неудавшаяся семейная жизнь? Она создает романы из своего разбитого сердца, чтобы оно не уставало от боли? – спросила Аня. – Я слышала, как она говорила на одной из наших субботних встреч: «Хороший человек радовался бы, что я быстро восстановилась после болезни и смогла вернуться к творчеству, а муж бесился».
– Насчет творчества не знаю, но думаю, что Стаса статус мужа знаменитости не устроил, вот они и разбежались, – вклинила в разговор свое замечание Жанна.
– Это только одна из причин. Кто-то из друзей дал ему почитать одну Ритину книгу. Так его не интересовало, сколько души и боли она вложила в свои строки, какова была высота накала ее горьких чувств, ни слова, которыми она их выражала. Не волновала и психологическая глубина произведения бывшей жены. Беспокоило одно: не написала ли Рита о нем что-то очень уж плохое. Не назвала ли она имени, по которому знакомые могли бы узнать, каким на самом деле гадким был он в своей семье, – сказала Инна. (И все-то она знает!) – А Рита в этой книге выложила всю свою ненависть к пошлости. Она говорила бывшему мужу: «В награду за все беды Бог послал мне творчество».
– Талант не у всех и не сразу открывается. Иногда что-то должно послужить толчком к его выявлению. И потом, мало родиться писателем, надо умудриться им стать, – задумчиво сказала Аня. – А что Аллу подвигло на литературное творчество? Что стало его побудительной причиной?
– Думаю, что сначала всё-таки утрата любимого человека, а уж потом желание выразить себя как-то иначе. Я, например, после первой болезни в произведениях стала откровеннее и жестче. Хотя казалось бы должно быть наоборот. Во мне как бы открылось иное, глубинное понимание событий, может даже осознание другого предназначения. И я стала писать о взрослых, – сказала Лена.
– Ты вскоре после детской серии запустила взрослый цикл или был долгий перерыв? – спросила Жанна.
– Написала книги начерно быстро, но длительная отсрочка в их издании случилась из-за другой болезни. Организм после химий никак не приходил в норму, память не восстанавливалась.
– Ты пишешь, чтобы разбудить в людях светлые чувства, хочешь словом преобразить человека, чтобы он задумался о главном: для чего живет? Это важное, прочное дело жизни. – Аня как бы по-своему продолжила предыдущую Ленину мысль.
– Какие лакуны еще собираешься нам открыть, что разоблачить? – ухмыльнулась Инна на Анино замечание.
– Выступая от имени своей боли, вы с Ритой конвертируете в свои произведения серьезный эскорт собственных бед и печалей. Не от хорошей жизни вы сделались писателями, – вздохнула Аня.
– Грустными писателями, – уточнила Инна. – Вы в своих книгах то плачете на груди этого препаршивого и препаскудного мира, то смеетесь ему в глаза.
– Экстравагантно выражаешься, – одобрительно улыбнулась Лена.
Аня вдруг подумала: «Улыбка у Лены красивая, открытая, честная, а у Жанны какая-то хитренькая, будто исподтишка. Надеюсь, я ошибаюсь».
– Ваша жизнь не способствовала воспеванию искрящихся восторгов и трогательных радостей. В основе таланта многих писателей лежит какая-то трагедия. А вот в поэзии, как правило, всё начинается с восторгов любви. Поэту нужен постоянный приток свежей крови – состояние влюбленности, – чтобы его эрогенные зоны… мозги… не остывали, – фыркнула Инна, как раздосадованный чем-то котенок.
– Без сомнения, личные драмы влияют на обострение восприятия, но жизненные ситуации – только повод, а причина писательства лежит много глубже, – сказала Лена очень серьезно.
– Всех вас роднит понимание того, что настоящие писатели – люди с оголенными нервами, но проблемы вы затрагиваете разные, и раскрываете их согласно своим взглядам, предпочтениям и таланту. Формирует писателя Родина. Она – важнейшая пространственная, историческая и нравственная скрепа духа. Но для писателя в первую голову важен его язык, а потом уже место рождения и проживания. В нашем языке такое богатство оттенков и смыслов, что не любить его невозможно! – неожиданно восторженно закончила Аня.
«Шпарит, как по написанному… в учебнике. Вызубрила. Я на политинформации? А если писатель в эмиграции и пишет на чужом языке?», – подумала Инна, но диспут не стала устраивать, только спросила намеренно простовато улыбнувшись:
– А тебя какой толчок или случай привел к тому, кто ты есть сейчас? В чем фишка? Не пыталась изменить род занятий или глубоко вросла, укоренилась?
– Ты об учительстве? Конечно, учась в университете, я не видела себя в этой роли. Я уже рассказывала о начальнике цеха. У нас же неофициально принято руководителями извлекать доход из своей должности и получать некоторые другие привилегии… Я давно заметила, что те, которые оказываются профессионально непригодными, наиболее рьяно рвутся командовать.
– Такова наша ментальность. Мы сами делегируем власть какому-то человеку, а потом пресмыкаемся перед ним, – теперь уже как рассерженная кошка фыркнула Инна.
– Нет, это наши чиновники ставят нас на колени. А если мы пытаемся возражать, они изгоняют нас.
– А скажешь правду, то потом долго будешь сидеть на скамейке запасных в ожидании следующего шага в карьере. И можешь не дождаться.
– Я с первой попытки начальника приставать поняла, с кем имею дело. Вот и сказала: «Нормальный мужчина получает удовольствие с женщиной по любви, по согласию. А вы от насилия? Значит, вы маньяк. Думать надо, прежде чем что-то делать. До чего же вы, мужчины, бываете глупые!» И ушла с завода. Нельзя работать там, где тебя притесняют и унижают. Одна дверь закрылась, другая откроется. Я перераспределилась в школу. И должна признаться: как ни странно, быстро почувствовала себя на месте.
Все равно бы тот тип житья не дал. Опустил бы на дно, и никто бы не вступился. Только опозорилась бы. В таких делах никто, кроме себя и судьбы, не мог мне помочь. Но я на судьбу никогда не полагалась. Сногсшибательная история? Обыкновенная. Наверное, мне это нужно было пройти, чтобы кое-что понять и в жизни, и в себе, из какого я теста. Громко сказано? Трудно решение далось, до сих пор в сердце болью отзывается это травмирующее воспоминание, но другого выхода я не видела. Да, струсила. Я в себе это не люблю. Это не то, чем можно гордиться. Всю жизнь борюсь с проклятым недостатком. Конечно, мне рисовалась совсем другая судьба, не та, которую я прожила. Это ты у нас всегда в первых рядах, – с плохо скрываемым раздражением ответила Аня Инне, медленно встала и, ни на кого не глядя, пошла в кухню. Ее поташнивало при одном только воспоминании о давно пережитом.
Наступила неловкая пауза.
«Как неожиданно неприятно Инна закольцевала писательскую тему», – удивилась Лена, но вслух без Ани комментировать ситуацию не стала.
5
Долго молчать Инна не могла, потому-то задумчиво, словно только для себя, продолжила размышлять вслух.
– Мне кажется, у Риты действие в книгах происходит, словно на вращающемся круге. Возникают истории о тех или других героях, сюжетные линии которых то растягиваются, то закручиваются, то сталкиваются как льдины во время ледохода и ломаются. Потом перетекающие образы снова являются в новом качестве, но как бы усиливаются. Местами этот процесс слишком длительный. И вдруг переход от одной сцены к другой напоминает бег кинокадров, и тогда мне представляется, что композиционно ее романы рыхлые, нервные.
Но что самое главное: ее действующие лица чаще всего оказываются сильнее и интересней обстоятельств. Не слишком ли оптимистично? И тут же рядом смерть – естественная пропасть у нас под ногами. Хотя, не стоит в нее торопиться. А для меня любимые книги – сладкая попытка вернуться в счастливые мгновения, – мечтательно окончила свой путаный монолог Инна.
Ответом ей было сонное молчание. Оно затягивалось, не суля, впрочем, ни трагической развязки, ни печальных последствий.
Инна сидела на матрасе, подобрав под себя ноги, и ритмично раскачивалась, как китайский болванчик, словно монотонностью движений пыталась привести свой организм или мысли в упорядоченное состояние. Иногда она на короткое время задумчиво замирала, затем снова уподоблялась маятнику. Жанна обратила внимание на Инну, когда та находилась в статическом состоянии. Она вдруг подумала завистливо: «Каждая ее поза как монумент, изваяние, как произведение искусства. Затмевает творения Родена. Еще бы, с ее-то безукоризненными формами, журнальными нарядами и шикарным нижним бельем!»
Жанна замурлыкала по-кошачьи и, умильно улыбнувшись, попросила:
– Инна, накинь на плечи хотя бы простынку. Мне холодно на тебя смотреть.
Но та, как и подобает скульптуре, не услышала просьбы.
* * *
– Ох, и сконструирую я сейчас тебе, Лена, вопрос – всем вопросам вопрос! Не кажутся ли тебе сумбурными некоторые Ритины романы последнего периода? Будто что-то нарушает их целостность. Это когда она рассматривает критические случаи из жизни своих героев, те, что на грани фола, когда пишет о судьбах людей, обладающих дикими страстями, буквально сумасшествием, будь то к деньгам или к сексу. Какой-то натуралистический абсурд, галлюциногенный реализм. Иногда ее глубинная исповедальность обнажает героев так, словно кожу с них сдирает. А то вдруг возникает некоторая непонятная, казалось бы, не к месту, условность, отстраненность. Раздвоенность какая-то. Выставляет себя напоказ, хотя душа ее по-прежнему жаждет укрытия. Не так ли? Я хочу прояснить некоторые моменты. Нет, я понимаю: идти надо от себя, но… как можно дальше.
Иннины слова выдавали не только ее осведомленность в затронутой теме, но и жесткость мнений.
– Хорошая книга – это исповедь писателя, а если и его героев, то, опять-таки, пропущенная через сердце автора, – высказала свое мнение Жанна как что-то новое и особенное. – Русская проза, даже мужская, всегда исповедальная и эмоциональная. Для нас важна не сама правда, а ее ощущение.
– У тебя подержанная, устаревшая модель представлений, – усмехнулась Инна.
– Книга считается хорошей, если она дает ответы на запросы общества и вопросы читателей, – простенько отреагировала Аня.
– Так вот что касается степени искренности и погружения в тайну человеческой души… Тут писатель всегда должен сам себе ставить вопросы: «Этичны ли его откровения? Имеет ли он право глубоко влезать в чужую жизнь? Держится ли он в берегах?» – озадачила подруг своими вопросами Инна.
– Так ведь автор не конкретного человека описывает. Суммирует, обобщает, – заметила Аня.
– И все же существуют табу.
– Если ты о Рите, то у нее безошибочное моральное чутье, так сказать, нравственный слух, тонкое понимание меры и собственная естественная выразительность, являющаяся знаком ее индивидуальности. Я всю ее перечитала, – заверила Аня.
– Ты же у нас читатель-динозавр! Всё способна проглотить, – засмеялась Инна.
– Троглодит, – уточнила Жанна.
– Смею тебя заверить: задают себе писатели формат, берега, за которые не стоит выходить. Хочешь изучить писательскую кухню? Похвально. Займись этим с Леной. Писатели и с нас, и с себя кожу сдирают, особенно когда пиковые моменты описывают. И мы льем очистительные слезы, – добавила Аня прочувствованно.
– В этом и заключается Ритино дарование? – подала голос Жанна, на этот раз как-то особенно робко напомнив о себе из-за спины Ани. Видно, неглубокая осведомленность в литературном творчестве подруг сильно ее принижала.
– У Риты незабываемые, обезоруживающе честные образы. Поле ее деятельности – человек. Она интересуется людьми с пограничными состояниями психики, с температурой много выше, чем тридцать шесть и шесть, но без патологий и крайностей, – внесла ясность Аня. – Норма ей скучна. Некоторые легкие искажения в личностях позволяют глубже проникать в человеческую психику, лучше понимать ее взаимоотношения с обществом. Именно поэтому Ритины персонажи иногда несколько переходят за грань, преступают общественные, моральные и этические нормы. Достоевскому это в упрек не ставится.
– Сравнила! Но раз тема имеет место быть, ее надо поднимать и разрабатывать. Она неисчерпаемая и никогда не надоедает, – великодушно согласилась Жанна.
– Ты тоже как Аня понимаешь Риту? – источая холодное безразличие, слегка удивилась Инна. – Раньше искусство тонко, но остро выступало против серости, боролось за светлое, высокое, чтобы новое и прекрасное пробивалось сквозь грязь и порок, оно воспитывало, а современная литература стремится удивить, потрясти негативом, в крайнем случае развлечь.
– Но только не Рита, – морщась как при зубной боли возразила Аня.
– Против чего она выступает? – спросила Жанна, не понимая сути спора подруг.
– Почему обязательно надо выступать против чего-то? – простодушно удивилась Аня. – А если за доброту, за уважение человеческого достоинства?
– И это в обществе, где существует дефицит совести и раскаяния? Ха! Она хочет, чтобы злые стали добрыми, глупые – умными, наглые – воспитанными? Конечно, в шестидесятые, в оттепель, опьяненную несбыточными мечтами, и даже перед перестройкой совести в нашем обществе было больше. Воздух был насыщен душевным кислородом. Большинство людей нашего поколения вспоминают советское время, как самый счастливый период своей жизни. Мой личный поклон тем прекрасным годам! Но теперь, когда романтичный период закончился… Прошу прощения, но марксистко-ленинский идеализм ушел в прошлое, изжил себя. И что осталось? Души исполненный полет? Маниловщина? Память невероятного воодушевления прошлых лет? Хочешь телепортироваться назад? – воспротивилась Аниному мнению Инна. – Хотя, зачем Маркса ругать? Он правильно преподносил теорию капитализма.
– В трудные нестабильные времена людям тем более важны уважение и доброта. Культура – эмоциональный опыт человечества, он существует для сохранения чистоты внутреннего мира человека. А книги – единое культурное поле для всей страны. Позитивные произведения помогали людям выжить в войну… Или, допустим, подросток не знает, как вписаться в новый коллектив, как пережить свою боль и обиду. Он мечется, потому что ждет сопереживания, сам его не имея к другим… А читая, он вникает в чужие проблемы и тем самым развивает свои чувства и умение управлять ими. Он воспитывается. Я верю в силу слова. Меня книги подняли с колен, – гневливо зачастила Аня. – Вот почему, например, не злой, не подлый человек поступает плохо? Что выводит его на такое проявление себя? Он конформист и тем вреден? Алеша Карамазов был добрый, но тоже мог бы стать террористом, потому что трагический идеалист.
– Не думаю. Хотя в юные годы мы часто не понимаем, почему волнует то или иное событие, как его оценить, вот и склоняешься то к одному, то к другому течению, ищешь себя. Это теперь каждый из нас – дока, – сказала Жанна. – И все равно у всех свое прочтение одного и того же произведения, потому что мы резонируем на разное и по-разному.
– Рита открыта к различным толкованиям своих книг, она не одержима гордыней и готова к диалогу.
Собственно, любой человек рано или поздно обнаруживает существование зла в мире. Важно, каким он выйдет из этого испытания, – задумчиво проговорила Аня, думая уже о чем-то другом. Наверное, она вспомнила своих подопечных детдомовских ребятишек. – Вот скажите мне, пожалуйста, почему сейчас российское общество не интересно само себе, почему оно по-настоящему не вникает в проблемы семьи? Надо оздоравливать обстановку в стране и в семьях. Больше с экрана телевизора говорить о любви и дружбе, объединять людей на почве музыки, спорта, культуры, а плохое и жестокое как бы отрезать.
– Некогда, других забот хватает, – ответила Инна.
– Соблазн простых объяснений слишком силен, – серьезно заметила Лена.
– А чему самому главному учишь ты? – спросила Инна.
– Быть людьми, отвечать за свои поступки. Открывать тайну человека, максимально глубоко постигая его сложную душу. И поставить это понимание как главную задачу жизни; еще помочь каждому сформулировать эту цель для себя. А то ведь всяк проживает жизнь, как хочет, а не как может.
– Слова, произносимые тобой, не исчерпывают сути человека, тут еще Слово Христово требуется. Христос – мера всего сущего на земле. Без веры в бессмертную душу человека жизнь невозможна, она бессмысленна, – сказала Жанна. – С ним ты была бы совсем другим писателем.
– Кончай агитировать. Христос у тебя всюду, как к бочке затычка. Даже религиозный Бунин зло упрекал Достоевского, за то, что тот совал Христа во все свои бульварные романы. А ты надеешься на перерождение убеждений Лены? – удивилась Инна.
– Меня непросто обидеть, – забурчала Жанна и спрятала голову под подушку.
– Меня особенно беспокоят так называемые отцы, которые не понимают, что время, с пользой проведенное с детьми – не возобновляемая, не восполняемая валюта. Сколько раз я слышала проповеди спохватившихся отцов своим великовозрастным сыновьям в милиции или в судах, когда работала общественным заседателем! «А о чем вы, папаши, думали пятнадцать лет назад, когда уперто часами по вечерам сидели с пивом у телевизоров, а по выходным пропадали с дружками в гаражах? Чем соблазняла, куда вовлекала и уводила ваших детей улица, пока мать занималась домашними делами?» – раздраженно думала я. Нет ничего важнее воспитания подрастающего поколения, – пылко провозгласила Аня, почувствовав поддержку Лены.
Последовало молчание. Женщины понимали справедливость Аниного тезиса, но не хотели ночью окунаться в столь трудную и многоплановую тему.
А Лена подумала с уважением: «Аня, не рожала своих детей, но имеет их неизмеримо больше, чем любая из нас».
* * *
– У Риты в последнем романе есть много моментов, не двигающих сюжет, – высокомерно заявила Инна.
– Но объясняющих суть событий. В литературе сюжет – атрибут далеко не обязательный. Как же без завлекательной «морковки»? А вот так! Хорошо Рита пишет. Каждая ее книга – проба новой манеры письма. Каждая ее фраза тщательно продумана и выверена. Рита видит то, что не замечают другие, находящиеся рядом. Вот, допустим, пишет она об ужасном человеке и тем самым напоминает нам, что и мы далеко не идеальны, что и в нас есть доля чего-то плохого, от которого мы должны избавляться. Это же и тебе приговор, и мне, и другим, считающим себя хорошими, – горячо защитила Риту Аня.
– Рита обомлела бы, узнав, как ты горой за нее стоишь, – рассмеялась Инна.
– А я думала, что антиподы автору нужны, чтобы повыше приподнять своего главного героя. Так нас в школе учили, – сказала Жанна.
– Не только для этого. Но меня сюжеты книг мало волнуют. Как обворожительны Ритины короткие строки! Они как вдох и выдох! Они возникают не из событий и явлений, а из атмосферы, из ощущений и наполняют текст более пронзительным смыслом, позволяя читателю добраться до глубин души героя, а значит и собственной, – отвлекаясь от воспитательного аспекта Ритиной прозы, восхитилась Аня.
– А мне нравится, как Рита интригует читателю, намеренно не расставляя имена беседующих персонажей, чтобы дать возможность ему самому догадаться, кто из действующих лиц высказывает ту или иную мысль и какой позиции он придерживается, – дополнила Инна Анины восторги своим положительным мнением.
– О грустных событиях Рита пишет ради пользы, чтобы кое-кому из читателей прочистить мозги? – спросила Жанна тоном человека, не очень заинтересованного в ответе.
Но Аня ответила в силу того, что привыкла не игнорировать любые вопросы своих подопечных.
– Может быть. Не отрывать же людей от реальной жизни, тем более, что она очень верно воссоздает обстановку событий, у нее точное ощущение стихии описываемого времени. Она не упускает и пикантные, тонкие, изящные подробности. Допустим, что считалось тогда просто красивым, а что – кокетством. Что было тогда модно? Без них узоры судеб героев не выглядели бы такими выпуклыми и наглядными. Эти «мелочи» отсылают читателя в другую эпоху и делают ее зримее. Может, еще именно поэтому ее произведения не просто тревожат и волнуют, они царапают душу.
– Проза бывает военная, деревенская. А у Риты она бытовая, в которой радость и грусть перемешаны как в жизни?
– Нет бытовой, есть нравственная проза: тонкое, деликатное и глубокое внимание к душе человека. Не помню, кто сказал: «Пишу не о быте, а об отсутствии бытия», – объяснила Жанне Инна.
– Как это понять? – нетерпеливо спросила Аня, пытаясь сосредоточиться и вспомнить, что Инна уже говорила об этом. Но склероз не позволил ей удержать в памяти недавние слова из их спора.
– Бытие – это когда в быту присутствуют мысли о главном. Ну, что-то вроде того, – сказала Инна.
– Чехов выступал против пошлости. Он вынимал, и выворачивал нутро своих героев, чтобы преподнести и объяснить нам их суть, призывал к высокому и прекрасному в человеке. Но по мне он самый жестокий писатель. Он не оставлял надежды. Услышать бы его истинный голос, а не то, что о нем говорят критики, – значительно произнесла Жанна. – В своем творчестве, как я это сейчас понимаю, он умел взглянуть на обычные устоявшиеся вещи совершенно другими плазами, как бы под другим углом зрения. Находил особенное и важное в скучном, незаметном, там, где другие его не видели и не предполагали. Или, наоборот, в чем-то необычном, казалось бы, совсем оторванном от жизни подмечал тривиальное, бытовое. Но я не вижу большой беды в том, если художник немного выходит за привычные границы. Даже бывает где-то… за пределами своего мощного воображения. И удивление жизнью очень важно для творческого человека.
– Вот поэтому я всегда жду открытий! – с энтузиазмом воскликнула Инна.
«Умничает», – ревниво подумала Жанна. Она не читала Ритиных книг и ее раздражала невозможность полноценного участия в диспуте. Потому-то и заговорила о Чехове.
– Ой, уморила. У тебя всегда были завышенные, я бы сказала, неограниченные амбиции. Ты от всех ожидаешь жажды покорения вершин? С таким же успехом ты и от меня можешь потребовать восхождения на Гималаи, – ответила на Иннины эмоции Аня.







