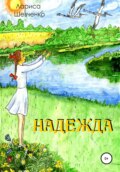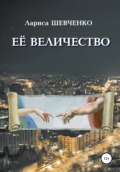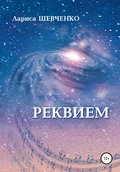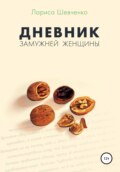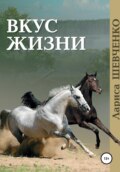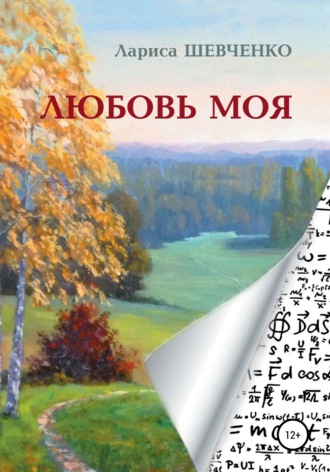
Лариса Яковлевна Шевченко
Любовь моя
– Растить пессимистов? Нет, я, конечно, понимаю, что пессимист – это хорошо информированный оптимист, но зачем такие крайности? Дорогие мои, а как же правило золотой середины? Все хорошо, что вовремя, – напомнила спорщицам Лена. И подумала с легкой грустью: «С каждым рассказом девчонок во мне оживает память тех милых юных лет».
– Представляю себе: прочитали мои юные еще наивные внучки эту книжку, а там одни девочки сексом с двенадцати лет занимаются с кем попало, другие кучу абортов делают от разных мужчин, но в конце повести все удачно выходят замуж: одни за иностранцев, другие за наших успешных бизнесменов. И что же вообразят мои малышки? Страшно подумать! Меня шокируют беспрерывные смены партнеров, одновременные связи с несколькими мужчинами, женщинами, легкая смена мужей, жен. Это так гадко! К тому же возможны страшные венерические болезни. И к чему мы в таком случае придем? Изведем всю нацию? – продолжила горячиться Жанна.
– Понесло тебя! Придет же такое в голову! Улицкая говорит о том, что жизнь коротка и не надо позволять себе быть несчастными. Ее героини ошибаются, разочаровываются. Есть у них и горечь обид. Но для ее персонажей важно любить и быть любимыми хоть кем-то: матерью, ребенком, мужчиной, потому что это самая главная потребность души человека. В этом она видит смысл жизни, – растолковала Инна Жанне смысл книг Улицкой.
– У негров в Африке по десять-пятнадцать детей и они, наверное, не думают о смысле жизни. Им некогда. Они просто живут, – не к месту вклинила Аня свое замечание.
– Недооцененный опыт! – влет отреагировала Инна.
– Я о персонажах Улицкой, – дернула плечом Жанна. – Может, ее героини очень умные или везучие, и смогли справиться с обстоятельствами жизни, но по большей части, девочки, рано начинающие половую жизнь, становятся проститутками, а другие, окончательно не потерявшие себя, но сделавшие один-два аборта, оказываются бесплодными и к счастливым я их уже не могу причислить. Сколько таких неустроенных женщин вокруг меня! Этого мне желать моим малышкам?! Не понимаю я автора. К чему призывает? Она же женщина! И ты принимаешь ее сторону?
– …У Толстого тоже была масса заблуждений, но его произведения гениальны, – продолжила Инна подстрекать подруг к спору.
– Он в своей жизни заблуждался, но не в книгах. Нашла с кем сравнить! – возмутилась Аня. – В романе Улицкой ее героиня, может, даже сама не зная того, придерживается растлевающей, но давно развенчанной теории «стакана воды». Намертво пришвартовывается то к одному, то к другому другу детства, не против и с обоими одновременно! Притом открыто, бесстыдно излагает свои намерения партнерам. Просто так, без сердца, из любопытства. И всё у нее свободно, естественно… проще, чем у кошек. Она опускается на самое дно.
Человека надо выше поднимать и говорить ему: «Лети!» А Улицкая… Это не укладывается в моей голове. По мне такое поведение ее героини непереносимо унизительно, – продолжила возмущаться Жанна.
– Наверное, из жизни берет, – сказала Аня.
– Это, конечно, многое объясняет, – презрительно заметила Жанна. – Но нет среди моих знакомых таких распутных. Странное у нее окружение.
– Вот и ты узнала что-то для себя новое, – усмехнулась Инна.
– Для обывателя произведение часто интересно не только само по себе, но и как выражение личности его создавшей. Мне категорически не нравится, когда тон задают те, которые сами не имеют высоких нравственных принципов или не стойки в них. Как-то услышала по телеку утверждение писательницы о том, что, мол, французы молодцы, не воевали с немцами, сохранили культуру, памятники, а мы столько всего потеряли! Она забыла, что все это они сберегли, потому что советский народ спас Западную Европу от порабощения? Телами наших отцов и дедов выстлана дорога к их благоденствию. После подобного заявления я не могу к ней хорошо относиться, что бы там она ни написала грандиозного. Тем более, что от ее героинь я тоже не в восторге. Ей надо напомнить, что немцы за один только вечер в костре сожгли шестьсот полотен шедевров из Лувра. Потому, что французы не защищались. «Культурная немецкая нация» взрывала дворцы, разворовывала творческое наследие побежденных народов…
– Жанна, остановись. Всё это Улицкая знает не хуже тебя. Успокойся, – попросила Лена, нервно растирая виски. – Может, случайно оговорилась.
– Она заявила, что наша страна на сто пятьдесят лет отстает от Запада. Я на сто пятьдесят лет отстала от румына или албанца? Я под них должна верстать свою жизнь, по ним себя мерить? – вспылила Аня. – Ездили две мои подруги в их глубинку. Надеялись там осесть. Так в ужасе сбежали от их убогого быта… Кого нам еще догонять?
Мы другие. И я хочу быть сама собой. Пусть они со своим самомнением все «идут лесом»! Европа тоже когда-то отставала от ряда восточных стран. Прогресс не тотален и не линеен. В Америке сегрегацию негров уничтожили через сто лет после отмены у нас крепостного права. Цивилизации развиваются неравномерно. В какой системе координат Улицкая рассматривала этот вопрос? Чем она хотела нас уязвить? Мы в ее понимании захолустная провинция? А еще утверждает, что любит русский народ. В чем-то мы опережаем Запад, в чем-то они нас. Мы живем в поясе отрицательных температур и неплодородных земель, но вы посмотрите, что мы создали и гордитесь! В Западной Европе люди экономят на таких вещах, на которых мы экономить не привыкли с нашими широкими натурами. Пора освободиться от стереотипов. Высказывайте свое мнение, но не оскорбляйте, не унижайте мою страну! Запад гордится своими ценностями – свобода, демократия! – но утверждает, что ценности заканчиваются там, где начинаются их интересы. Улицкая посещала большие города, но была ли она в настоящей провинции стран Западной Европы?
– Ты права. Наша Алла была в Англии, в свое время разбогатевшей за счет колоний, и во Франции, и в Италии. Она честно рассказывала мне об их жизни, ничего не оставляла за рамками приличия. У них тоже есть и бедные и не очень культурные люди. Улицкая не знает истинного положения дел в тех странах или просто пиарится? – задалась вопросом Инна.
– Провинция – не ругательное слово. В наших деревнях живут самые чистые, честные люди, – заметила Жанна.
– Жанночка, ты слишком категорична. Успокойся. Не загоняй себя. Ну и порох! Ты не обманываешься? Улицкая может и не во всем продолжатель классический традиций, но она много чего хорошего делает. Она утверждает, что за счастье надо бороться. И это правильно. Все в чем-то могут ошибаться или просто в сердцах бросить необдуманную фразу, хотя публичному человеку это непозволительно, – неожиданно встала на защиту писательницы Инна и тут же принялась привычно поддразнивать Аню:
– Прожить, не вкусив прекрасного запретного плода? Не познать полноты жизни? Потратить себя на одного мужа, ничего не стоящего как мужчина?
«Распустила язык длиннее некуда. Чтобы за меня говорили, начни я вести себя вот так же, как героини Улицкой? Развратная, распущенная?» – мысленно поспорила с Инной Аня. Но вслух только сердито пробормотала:
– Ой, не знаю, не знаю…
– Не шебарши. Я же шучу, – великодушно успокоила Инна совсем растерявшуюся Аню, а про себя подумала: «Даже педантичную Аньку до печенок проняла эта Улицкая. Талантливая, черт возьми! Ей Богу. Может, даже с крупицей гениальности. Ее бы данные да в «мирных» целях…»
– Аня, ты «Казус Кукоцкого» прочти. Сильная вещь, – посоветовала Инна.
– Я там что-нибудь новое, ранее неизвестное, неожиданное почерпну из сталинской эпохи? У меня будут яркие открытия? То, что Черчилль – хитрый политик – комплимент Сталину сделал, мол, принял страну с сохой, а оставил с атомной бомбой, я уже слышала.
– Нет. В этом произведении умный психологизм цепляет.
– Занимательно, – пробурчала Аня и недоверчиво пожала плечами, не проявив бурного желания к продолжению разговора.
– Вот держу я иногда в руках книги некоторых названых тут авторов и думаю: «Может, и хорошо, что дети сейчас мало читают современных писателей, на классике застревают. А то добрались бы… и чему научились? Ужас! По крайней мере, не наберутся от них всякого, того, что может сломать им жизнь. Дети часто заражаются далеко не самым лучшим, – со вздохом заметила Жанна.
* * *
– Зачем нужны современные писатели? – спросила Аня.
– А то ты сама не знаешь, – фыркнула Инна.
Конечно, Аня знала ответ, но ей хотелось углубить и расширить свое понимание, чтобы ее подопечные получили из ее уст краткое и достойное обоснование.
– Проснулась-встрепенулась! Опять детские вопросы задаешь? – удивилась Инна. – Шекспир всё нам разъяснил о жизни людей еще четыреста лет назад. И Пушкин ответил на все вопросы своего времени, да еще в будущее заглянул. Но жизнь не стоит на месте. Меняются эпохи, в которых достается жить. Их надо изучать, давать оценки, преподносить долговременные прогнозы, чтобы люди могли адаптироваться в новых условиях.
– Пока писатели раздобудут деньги и выпустят в свет свои шедевры, уже новые веяния успеют нагрянуть и закрутить молодежь, – покачала головой Аня. – Какова наша национальная модель будущего? Есть ли сегодня некий главный вопрос, который ставит перед собой современная литература? – Аня направила свои вопросы непосредственно Лене.
– Литература и культура в целом должны обслуживать не идеи, а идеалы – включилась в разговор Инна. – Культура – это комплекс возможностей, где человек может проявить свою талантливость и активность. Но сейчас сокращается пространство, где он может действовать самостоятельно.
Аня не вникла в Иннины рассуждения, потому что настроилась слушать Лену.
– Пока что в современной литературе, как и в обществе, не существует единой национальной идеи и ключевой темы, которую надо было бы развивать в художественных произведениях и продвигать в массы. Каждый писатель «молотит свою копну», некоторые пишут то, что легко продается и приносит доход. В какой-то мере я выделила бы идею патриотизма, как наиболее востребованную обществом. Солженицын был прав, когда утверждал, что плоха та власть, в которой слово патриот стало ругательным. Главной его болью была судьба Родины. И Толстой в свое время говорил о «скрытой теплоте патриотизма» и духовности, как мистической категории.
– Время сейчас лицемерное, а за высокими фразами легче прятаться, – очень тихо пробурчала Инна.
– Эту идею в определенной степени затрагивают большинство серьезных писателей и поэтов. Одни изучают истоки нравственного перерождения и падения – выясняют, откуда взялось то, кем мы стали. Корни их в семнадцатом революционном или в девяносто первом году? Другие призывают жить, как завещал Петр Первый: «Памятуя лишь о благе России». Яркие перья берутся за биографии великих исторических личностей. Они – лакомые темы для них и читателей. Большинство писателей не генераторы новых идей, а только пролангаторы.
– Из произведений о перестройке я бы выделила пророческий, но очень своеобразный роман «Зияющие высоты» Зиновьева, чем-то перекликающийся с «Москва-Петушки». В нем автор выстроил универсальный памятник нашей ментальности. Правда, время написания романа – семидесятые. Но в нем уже звучало трагическое ощущение гибели страны. А в восемьдесят девятом вышла его «Катостройка». Роман о деградации общества, попавшего в трясину безысходности, про жизнь, в которой много глупостей. Там сплошь черный юмор и абсурд. Автор ерничает, хулиганит, использует буффонаду. И все это в неполиткорректных выражениях. Аня, тебе не стоит его читать. У него не образы, а маски. Его герои строго функциональны. Я не могу такое произведение назвать художественным, оно больше похоже на огромный странный фельетон. Но впечатляет! У автора слишком «изобретательные» отношения с прозой, – серьезно высказала свое мнение Инна.
– Толстой тоже о прошлом повествовал, о том, что уже осмыслено и выверено. Но лучше него войну с Наполеоном никто не описал, – сказала Жанна.
– Некоторые писатели ищут новые метафоры подходов и особые ключи в изображении современности, другие, уходя вглубь веков, пытаются о настоящем думать через прошлое. Тоже метод, – сказала Инна. – И если находят, то сохраняют за собой и манеру, и стиль. Остальные помещают старые сюжеты в новый контекст.
– Перерабатывают исторические травмы различных стран, – рассеянно, без интонации сказала Жанна.
– Без идеологического гнета люди очень изменились, стали более раскованными, так почему же не хотят напрямую осмысливать нынешнее время? – спросила Аня. – Зато не боятся испугать читателей вычурными фантастическими идеями.
– Кто-то из великих заявил, что фантастика – единственная литература, занимающаяся реальностью и что голый реализм – изжитое направление, – вспомнила Жанна.
– Напрямую неинтересно писать, – предположила Инна.
– Может, неинтересно читать? Не стоит что-то одно поддерживать. Я за разнообразие форм и методов. Дети, рожденные после девяностых, воспринимают время нашей молодости как фантастику. Как, например, современному ребенку объяснить угрозу исключения из пионеров, из партии? Надо им всё честно растолковывать, не юлить, – загорячилась Аня.
– Рассказать, как раньше «одни делали вид, что работают, а другие – что платят?» – насмешливо спросила Жанна.
– И об этом тоже. Но с этой фразой я не полностью согласна. Она для меня обидно звучит. Мы с тобой прекрасно работали за гроши. Да, с перестройкой мы приобрели свободный мир, и он в какой-то мере положительно повлиял на наше общество. В том смысле, что встряхнул его. Но раньше не было такого, чтобы толстые кошельки ногой открывали двери. Справедливости и честности в шестидесятые и даже семидесятые было больше, чем сейчас, – уверенно сказала Аня.
– Трудно писать о настоящем, когда общество еще не свело счеты с прошлым, – усмехнулась Инна, – поэтому большинство писателей ничего нового не предлагают, а берут траченные молью темы и переводят на язык молодого поколения.
– С моей точки зрения всестороннее воспитание молодежи – самая актуальная задача сегодняшнего дня. (Как, впрочем, и последующих.) Каждое поколение необходимо воспитывать с учетом новых условий жизни, сформированных развивающимся обществом, и меняющих его внутреннее содержание. Мир усложняется, усложняются и наши с ним взаимоотношения. Одновременно надо терпеливо и настойчиво приобщать подростков к лучшим образцам родной и мировой культуры. От того, как мы воспитаем нашу молодежь, во многом будет зависеть судьба нашей Родины. Поэтому одной из приоритетных задач писателей любой цивилизованной страны является поиск и определение целей и нравственных жизненных ценностей нового поколения на каждом этапе экономического и политического развития общества. Эта задача приобретает особое значение в переходные периоды становления, когда нравственные ценности подвергаются наибольшей деформации и возникает острая необходимость в их переосмыслении, уточнении и донесении до молодого поколения. Мне кажется, что проблеме воспитания молодежи стоит уделять больше внимания не только пишущим для детей и юношества, но и «взрослым» писателям, – неожиданно хорошо поставленным голосом, основательно и серьезно ответила Лена. Наверное, не раз и не два задумывалась над этим вопросом.
– Ну-ну, давай, поучи нас, – удивленно пробурчала Инна. – Поэтому написание книг для детей ты посчитала для себя наиболее важным делом?
– Да. Детство – время формирования личности человека, когда закладываются его нравственные и социальные основы, оно его фундамент. И детская литература играет в этом процессе огромную роль. Часто для детей важны даже не мысли и смыслы, а ощущения. Детские впечатления остаются с человеком на всю жизнь. Какими мы общими усилиями – семья, школа, книги, радио и телевидение – воспитаем наших детей, такими они и пойдут по жизни. И мне хочется внести свой вклад в это благородное дело. Диалог поколений – это всегда проблема. Будем учиться коммутировать, понимать друг друга. Это самая сложная из всех наук, потому что касается каждого человека, каждой семьи.
– А ты знаешь, в педвузах, как я выяснила недавно, на филфаках нет кафедр детской и подростковой литературы.
– Как же, наслышана. Это плохо. Но, наверное, кафедры педагогики и психологии берут на себя их функции, – ответила Инне Лена.
* * *
– Лена, а почему фантастика в моде? – спросила Аня.
– Время ее пришло. А породили ее научные открытия начала века. Вспомни Беляева. Он заразил людей космосом, океаном. У него было позитивное видение будущего. Все советские книги того периода пропитывались идеалами гуманизма, любовью к человеку. И это было неприкасаемым. «Мир, труд, космос, счастье!» Космонавты не люди, Боги! Я думаю, потомки будут гордиться нашей эпохой, и называть ее вызовом Богам.
Инна возразила:
– То была научная фантастика. А теперь, когда космос потерял былое обаяние, когда биологи объяснили, что человек в обычном своем виде для межпланетных полетов не пригоден – без специального скафандра его разнесет в пыль – фантасты идут «спиной вперед». Подчас чудовищный вздор из-под их пера выходит. Все предвещают апокалипсис. И тогда наш агрессивный безумный мир как бы становится нормой! Фантастика травестирует реальность. Требуется прорыв в новую философию. Наука обгоняет фантастику. Был приоритет физики, теперь биология командует и сверхсовременные технологии, а потом жизнь повернет людей еще к чему-то пока мало изученному и неосвоенному. И этим уже никого не удивишь.
– Апокалипсис применяется писателями для выяснения скрытого смысла в процессах развития общества, – предположила Жанна.
– Пугают, чтобы люди опомнились и задумались о том, как живут и как надо бы им жить? – спросила Аня.
Ей ответила Инна:
– Я о том же, но несколько в другом плане. Идет бурное и всестороннее развитие жанра фантастики. Мир вокруг нас строится не только «сокрушительно» разумным, но и иррациональным. Красота, чувства, фантазии – это же замечательно! Но не технологии должны занимать фантастов на данном этапе, а философские концепции: что есть судьба, предназначение, счастье. Им надо задумываться не о том, как убежать с родной планеты, а о том, как сохранить ее для потомков. Человек – слишком конфликтное существо. Он должен меняться, чтобы не погубить себя и все живое еще до того, как обстоятельства вынудят его переселиться на более молодое космическое тело. Но пока что миром правит нажива. Кажется, философ Асмолов сказал, что если критерием успеха в обществе является богатство, то надо ожидать преступность, наркоманию» и прочую дрянь.
– Каждый из этих писателей-фантастов велик только внутри своего круга, и обязательно с соблюдением иерархии?
– Аня, ты лишаешь их права попасть в классики? Но детективы тоже когда-то не считались литературой, – напомнила Лена. – Вспомните восемнадцатый век, иерархию жанров: вверху трагедия, внизу фарс. Такое деление не соответствует нашим нынешним представлениям.
– Я люблю детективы с юмором, – сказала Жанна.
– Один человек может прочитать выбранный тобой роман как детектив, другой как историческое произведение, третий застрянет на бытовых подробностях, – заметила Инна.
– Юмор тоже бывает всякий. Например, пронзительный, не циничный и тот, что ниже пояса, – вставила в диалог подруг свое мнение Жанна. – Для меня произведение хорошее, если в нем много выразительных средств. И, тем не менее, есть книги, о которых я имею самостоятельное мнение, а есть такие, о которых я хотела бы сначала послушать критиков.
– А как тебе Донцова с ее миллионными тиражами? Очень обогатила судьбами великих людей на фоне эпохи? Оцени должным образом. Здорово она «навострилась строгать»! Мощный генератор идей, – как-то слишком развязно восхитилась Инна. – Сейчас мало настоящих писателей. Наступила эпоха потери смыслов? Может, в жизни они есть, но их нет в произведениях. У нас имеются книги, суть которых имеет выход в космос, в четвертое измерение, но они не про планету Земля.
– Гонорары Донцовой тебе как кость в горле? Замечательно плодовитая дама. Ее трудолюбие похвально. В этом тоже проявляется ее редкий талант, – ответила Жанна. С ее строго официальным тоном не сочеталось безразличие к объекту обсуждения.
– Как… крольчиха, – фыркнула Инна.
– Молодец. Обставила соперников. Видит Бог, она старается. Ее ходкий «товар» в контексте современного рынка. Доходное чтиво. У Донцовой нюх на бестселлеры. Она проявила интуитивную способность совпасть с потребностями большинства, вот и стяжает себе завидную славу, – спокойно и подробно отреагировала Жанна.
– Большинства?! – возмутилась Аня. – Самопровозглашенная наследница и преемница классиков?! Ее книжки ниже всякой критики! Совершеннейший вздор! Тешит беса примитивности. Она – чемпион страны по отточенным банальностям. Как блины печет свои романы. Видно классика ее читателей тяготит. Что им Достоевский, Толстой, Чехов! Вот они-то знали настоящую правду жизни. Помнишь, Чехов писал: «Самое трудное только начинается». «Виноваты все мы». Он призывал к личной ответственности за порядок вещей в жизни людей. Какие вопросы ставил! «Как понять себя? Как остаться достойным? Не смиряться и ценить то, что дано тебе природой». Это он и про нас, про здесь и сейчас… И потом… его знание и чутье языка, способность писать просто ясно и кратко!.. Умные книги надо читать, сложную музыку слушать, чтобы духовно развиваться. К тому же, стоит заметить, это улучшает пластичность мозга, отодвигает его угасание на годы.
– Кратко писать Чехова приучил жанр пьесы. Там не размахнешься в диалогах-размышлениях. Иначе публика сбежит со спектакля, – выдвинула Инна одну из причин возникновения особого таланта писателя.
– А мощные, страстные образы Толстого? Классика еще тем хороша, что для того, чтобы ее читать, не надо оттепелей. Она во все времена современна и необычайно значима.
– Потому что человек не торопится улучшаться? – насмешливо спросила Инна, но Аню с мысли не сбила.
– А нам Донцову подсовывают. Мне слова академика Дмитрия Лихачева о культуре вспомнились. Он говорил, что «бытовой ширпотреб у нас развился очень сильно… Сейчас полное небрежение к классике… Надо уделять больше внимание воспитанию вкуса… Я принимаю этот упрек и в свой адрес», – продолжила свое «выступление» Аня. – Лихачев – икона интеллигентности, совесть нации. Мне импонирует, что он сохранял культуру речи, чистоту языка.
– Он талант называл божественной одержимостью, – вклинила свое специфическое замечание Жанна. – А Бунин ревновал Чехова. Утверждал, что он не любит Россию, Москву, женщин и вообще всё человечество. Чехов его раздражал. Это неприятие его успеха?
– Обычное соперничество, – спокойно отреагировала Лена.
– Наверное, иногда злой, желчный характер может пожирать талант. Или наоборот?.. Я бы не смогла жить в коммуналке рядом с Достоевским, меня бесило бы его поведение в быту. А с Чеховым – пожалуйста. Он к себе был строг, развенчивал себя, – сказала Аня.
– Дискредитируешь, опошляешь Достоевского? – нарочито удивленно спросила Инна, пытаясь затеять спор на эту тему. – Некоторые, например, не могут полюбить Бунина, считают его скучным автором. А им надо просто честно признаться, что они не понимают творчество гения.
– Всегда был интерес читателей к личной жизни великих писателей. Всегда были хвалы и обвинения, гонители и гонимые. Не будем сегодня об этом, – строго остановила подругу Лена.
– Аня, у тебя неприятие характера автора доминирует над признанием его таланта, – проехалась Инна.
– Только иногда, когда он проявляется в его произведениях, – не согласилась Аня. – Если я устаю от жесткой литературы, то беру в руки Пришвина или Казакова. У них всё гармонично. Я чувствую магию их слов. Казаков такой душевный, чуткий, тонкий! Читая, я чувствую запах цветов, моя душа парит.
– Акварельный писатель, – строптиво воспротивилась ее мнению Инна.
– А тебе нужно, чтобы только маслом писали и «зеркалили» друг друга? – удивилась Аня.
– Наверное, явление Донцовой – это требование времени. Я думаю, она не причисляет свои книги ни к каким категориям. Для нее главное по душам поговорить с читателями, отвлечь их от трудных будней.
– Не очень лестная характеристика. Убийственно-оскорбительные слова, – ожидаемо отреагировала Инна на попытку Жанны защитить писательницу.
Лена нехотя отозвалась:
– Этот жанр – ироничный детектив – имеет право на существование. Произведения, относящиеся к легкому жанру, тоже бывают очень даже милые.
– Ты ее хвалишь? – Аня пришла в замешательство. Она нервно затеребила свой дерзкий хохолок на макушке и попыталась сообразить, как ответить Лене.
Зато Инна недолго думала:
– Опускаться до читателя, который не дорос до понимания прекрасного? Надо же доращивать, дотягивать. Какое убожество эти ее…
– Смотря, по каким меркам, – осторожно заметила Жанна.
– Да по любым! Уж сколько лет пишет в одной стилистике.
Жанна не уступила Инне:
– Ну, если ее читать после Сократа… то может показаться… Тебе бы только чрезмерное умствование. Прими мое восхищение тобой и не впадай в неистовство. Что тебя в Донцовой не устраивает? Ты ее досконально изучила?
– Одну книжицу на сон грядущий прочла и больше не поддамся на уговоры, – напустив на себя покровительственный вид, ответила Инна.
– Заявление отнюдь не бесспорное.
– Чтиво. Муть, жесть, мыло, бред сивой кобылы! Компот для обывателей.
– Остынь. Смотри на вещи шире. Беллетристика тоже нужна людям. Она бывает очень качественная. Честертон утверждал, что «тривиальная литература вовсе не является уделом плебеев, она удел всякого нормального человека», – сказала Жанна.
– Книги Донцовой – уступка невзыскательному вкусу читателя, – не унялась Аня. – Держу пари, лет через пятьдесят о ней успешно позабудут. И будут лежать на складах тонны ее книг, как… поверженная эпоха.
– Переживем и эту «трагедию», – рассмеялась Инна.
– Возвращусь к тому, о чем я уже говорила. Донцова – не пустое место. Представь себе: усталая женщина пришла с работы, домашними делами занялась, детьми. И что ей на сон грядущий читать философские размышления? Легкое чтиво, как и легкая музыка, имеют право на жизнь. Они нужны народу так же, как, допустим, забористые, сногсшибательные, с перчиком частушки, шутки и анекдоты, – заявила Жанна.
– Если еще любовные перипетии в придачу, чуть-чуть интриги, немного порока… Они тоже к месту и на руку? – подпустила насмешки Аня.
– Что ты до всех докапываешься, ко всем цепляешься? Ну что ты на Донцову как фавн набросилась? На тебя не угодишь. Ты читала «Трех мушкетеров» и возмущалась: «Как же так! Королева обманывает мужа и по сути дела предает родину, а они ей помогают? Герои должны быть безгрешными, но не сообщниками преступлений! Почему в книге не обсуждается этическая сторона их подвигов?» А у этой книги другая цель – прославлять дружбу, геройство и развлекать. И Печорин тебе не нравился своей непорядочностью. Мол, осуждал себя, но все равно поступал гадко, – упрекнула Аню в излишней «инквизиторской» строгости Жанна.
– Да, порядочность с самого детства была для меня самой главной чертой положительного героя. Но Печорину я частично симпатизировала. В нем было немного от самого Лермонтова.
– Ты девятым или десятым чутьем угадываешь своих героев? – с легкой иронией в голосе спросила Инна.
– Одиннадцатым, – нервно отрезала Аня. – Я и Робин Гуда, и Дубровского в школе недолюбливала. Они насилие пропагандировали, раздавали богатство, которое не зарабатывали. Они не своим делились, что было бы намного честней, а отнимали чужое, пусть даже у эксплуататоров. А это невелик труд. И усадьбы жгли по недомыслию и темноте своей, и их глупые случайности выстраивались в жестокие закономерности.
– Идеальных стерильных героев, как и идеальных условий жизни не бывает. Как-то ты всё приземляешь, упрощаешь, даже низводишь до примитивного вида, – неодобрительно пожала плечами Жанна.
– Вроде бы романтичные герои, защитники простого народа, но ведь и убивали, и награбленное не между всеми эксплуатируемыми людьми и не поровну делили. Оно в основном оседало в карманах и «закромах» их банд. Какая-то в этом была двойственность, частичная справедливость, как две стороны одной медали. С одной стороны вроде бы правы, а с другой… – продолжила бурчать Аня.
«Ни полутонов, ни полумер не признает, и вдруг невероятное замечание: с одной стороны, с другой… Бескомпромиссная, но все же глубоко противоречивая», – подумала об Ане Лена.
– В их подвигах мне виделось что-то не совсем правильное. Они были чем-то похожи на воров. Те тоже отнимали у богатых людей, но «работали» только для своей шайки. Получается, воры тоже могут оправдаться: «Кто умеет зарабатывать деньги, пусть с нами делится, мы же бедные». То есть ленивые и посредственные, но наглые люди могут посчитать себя вправе наказывать умных и трудолюбивых? Моего соседа, начальника цеха станкозавода, обворовали еще до перестройки. А он был очень правильный, строгий руководитель и хороший человек.
Аня посмотрела на подруг вопросительным, непонимающим взглядом. Она ждала возражений.
– Какие далеко идущие выводы! От воров милиция должна защищать, – усмехнулась Инна.
– Я в принципе… Под лозунгом «отнять и раздать» у нас при Сталине зажиточных крестьян свели. Чем лучше трудились, тем меньше прав имели.
– То были перегибы.
– И революционные лозунги тоже многие понимали по-своему, как им было выгодно. Всеобщее упоение возвышающим обманом нас не раз подводило, – заупрямилась Аня. И тут же растерянно зашептала:
– Что-то я совсем в трех соснах заплутала.
Жанна рывком приподнялась с места и, негодуя, как в детстве, с жаром воскликнула:
– Я жалела Дубровского, понимала безысходность и бесперспективность его действий. А мои подруги злились на Машу за то, что та не уехала с ним. В их мечтах он был героем, а в моих – жертвой обстоятельств, романтиком, честным разбойником, бунтарем.
– Я слышу глас народа! – весело провозгласила Инна и задумалась, припоминая свои юношеские впечатления.
– Я и Вронского, и Каренину осуждала, – продолжила Аня ряд своих «не героев».
– А Вронского-то за что? Он не был женат, – удивилась Жанна.
– За то, что совращал замужнюю женщину. Это не порядочно.
– Есть мужчины, которых привлекают замужние дамы. Вина только на Анне. Знаешь ведь поговорку: «Сука не захочет…» – жестко сказала Инна.
– Помню, в детстве я читала «Тараса Бульбу» и никак не могла представить себе, чтобы из-за любви к женщине мужчина мог предать Родину. Я будто на своих внутренних весах эти два понятия взвешивала. Мне казалось, автор выдумал эту ситуацию для того, чтобы усилить «образ главного героя», потому что такого в жизни не может быть никогда. А когда, наконец, поверила, меня разрывало от мысли, что придется жить в этом жутком мире, где не только лгут и убивают, но и предают.