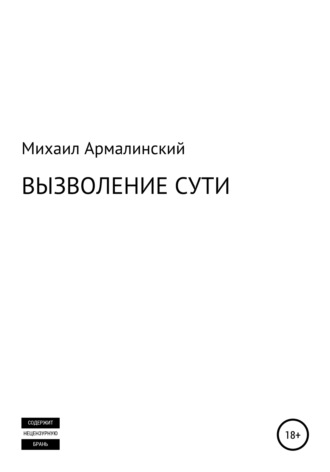
Михаил Израилевич Армалинский
Вызволение сути
Я тогда послал Константину несколько стихотворений Алексея Шельваха, и он включил их в Антологию, том 4Б.
МИХАИЛ АРМАЛИНСКИЙ
(В ЛИТО У СОСНОРЫ. ШЕЛЬВАХ)
2/26/81
"… Есть (или уже "было") такое объединение в Ленинграде "Позитрон", а в народе – "Паразитрон". Я там работал в отделе научно-технической информации, производя в основном литературную информацию в изрядно свободное от работы время. Году в 1972 в многотиражке появилось объявление, что открывается при объединении ЛИТО, которое будет вести Виктор Соснора. Это имя было достаточно громким, чтобы вызвать отчетливое шевеление у всей пишущей братии объединения. Я с Соснорой лично знаком до этого не был…
На первое занятие пришло человек 30 и велось оно в одном из помещений парткома, наполненном Лениным и ему подобными. Соснора явился в джинсовом костюме, с длинными волосами (которые закалывали назад редакторы на телевидении и заставляли сидеть в фас), тощий, с отчетливо трясущимися руками, что бросалось в глаза, когда он держал сигарету или листал книгу. Он нарисовал планы, прозвучавшие грандиозно: занятия по теории литературы и стихосложения, доклады о современной литературе, встречи с различными ЛИТО, совместные поездки за город (он осведомился, есть ли у кого дача), содействие в публикациях и т.д. Говорил он крайне медленно, останавливаясь где-нибудь на середине и думая о чем-то другом, и чтобы продолжить фразу из 10 слов ему требовалось очень много времени. Потом, как принято, пошло чтение по кругу, которое выявило практическую (хотел сказать – бездарность) скажем, малоталантливость окружающих. Я с подленьким чувством отмечал про себя: мол, этот мне не соперник, тот – тоже и т.д.
Я же к тому времени состряпал свою первую книжицу под названием NB (Nota bene). Это была книжка о 100 страницах, любовно отпечатанная на машинке "Москва", с заставками, сделанными любимой девушкой, и переплетенной тайно на том же "Позитроне".
Я гордо вручил эту книжку Сосноре, и он с протяжным воодушевлением поднял ее в руке, показывая окружающим и говоря нечто вроде, вот, мол, как серьезно надо относиться к своему творчеству, и что если все Вы такие, то мы, мол, далеко пойдем. Я пытался прибить пенящееся чувство радости за похвалу, поскольку понимал, что она никакого отношения к моим стихам не имеет, но сделать это было нелегко.
…Но вот на занятии на третьем появился человек, не видимый ранее, ему было лет 25 и руки у него были рабочие. Он сел у самого входа, вдали, курил, не пытаясь заговаривать и ждал прихода Сосноры, как и мы. Опоздав как всегда минут минимум на 15, Соснора приветствовал пришедшего по имени и перебросился с ним парой фраз, из чего я понял, что они знают друг друга давно и хорошо. В течение всего занятия незнакомец, к которому я стал чувствовать ревность, молча курил, не участвуя в обсуждениях, а в конце Соснора сказал: "Алеша, почитай чего-нибудь". Леша вытащил листы, но не глядя на них, стал читать по памяти, смотря куда-то в сторону. И с первых слов я почувствовал струю свежего воздуха, будто кто-то выбил окно в непроветриваемой годами комнате. Многое я не мог уловить из-за его невнятного и монотонного чтения, но четкое общее ощущение явственного таланта, наполняло радостью мои внутренности. Когда начали расходиться, я подошел к нему и сказал: "Ваши стихи – это самое лучшее, что я здесь слышал". И затем не удержался и самоутвердился, добавив: – “за исключением моих." Он улыбнулся, сказал спасибо и разговора продолжать не стал, и мы разошлись.
Позже, когда я спросил Соснору, кто это и как это он умудряется писать такие талантливые стихи, Соснора рассказал, что Алеша был вундеркиндом ещё в пионерском возрасте, и стихи его публиковали то ли Пионерская правда, то ли Ленинские искры, что Соснора дружит с ним давно и всячески советует мне сблизиться с ним.
Вне зависимости от этого совета нам удалось найти общий язык, чего мне не удавалось ни с кем из встречавшихся мне поэтов.
Я объясняю эту удачу Лешиной добротой и отсутствием у него попыток вставать в менторскую позу. Алеша боится кого-нибудь обидеть, и это всегда выливается в тактичность, предупредительность, а часто и в застенчивость. Многие малознакомые быстро пытались назвать Соснору по имени, но Алеша всегда звал его по имени-отчеству и без всяких попыток панибратства. Жил он в комнатке (наверно, и теперь – там живет) размером в одну десятую коридора купейного вагона. – Разойтись, не посторонившись – не возможно. Туда он потом поселил жену, которая поселила в свою очередь ребенка по имени Антон, к которому он проникался все большей и большей нежностью. Отношения с женой были далеки от мирных, а женился он на ней из жалости, чтобы прописать в Ленинграде. Впрочем, помимо жалости там примешивались и другие чувства, ибо жена была явно привлекательной и неглупой женщиной, и, хоть в глубине души гордилась Алешиным талантом, все пыталась обхаять поэзию и требовать, чтоб больше денег зарабатывал. Леша работал токарем и все искал работу, которая бы не отнимала столько сил, но давала бы необходимые деньги. Ему что-то обещали, планы возникали, но все лопалось одно за другим, а вследствие своей мягкости, его нельзя было назвать энергичным. Однако отсутствие энергичности в бытовых вопросах не мешало ему найти достаточно сил и желания, чтобы выучить самому английский и польский языки и поглощать огромное количество книг, не забывая и о русском. Он делал блестящие переводы из современных польских поэтов – благо оригиналы по дешевке продавались в магазине "Книг стран нар. демокр." Помню одну строчку, не помню из кого:
… На хладных простынях он умирал и умер…
Это потрясающее слияние несовершенной и совершенной формы глагола создает невероятное поэтическое событие.
Последние деньги тратились на книги. Или на водку, но, что называется, не в ущерб семье. Очень часто он остывал к книге, которую доставал с большим трудом, и загорался достать другую, и за неимением денег он соглашался на неравный обмен, отдавая ценные книги, но не замечая их формальной ценности во имя приобретения желаемой. Леша всегда исключительно пунктуален в отдаче долгов, чем он тоже отличается от большинства Богемных жителей.
Ловлю себя на использовании прошедшего времени, но пишу я о прошлом, а о сегодня я знаю, что он пишет и переделал многие свои старые вещи до неузнаваемости, – как мне пишут, – плохой неузнаваемости, я сам не читал. Леша всегда постоянно занимался переделкой написанного, он писал роман, псевдоисторический бурлеск – и читал наизусть из него куски по очень долгу – но в течение лет никак не мог его закончить. (роман Приключения англичанина вышел в 2007 году в С. Петербургской Амфоре)
Он никогда не бравировал своими знаниями, но знал неимоверно много, особенно русскую поэзию, и всё это обнаруживалось невзначай и на деле, когда, например, на ЛИТО у Дара в клубе "Прогресс" просуществовавшем месяца два и закрытом парторганизацией за безыдейность или что-то в этом роде, Давид Яковлевич устроил что-то вроде "угадайки" – он нашел малоизвестные стихотворения известных русских поэтов и просил узнать – кто это, и только Леша узнал тотчас Фета и еще кого-то.
Знаю, он долго чуть ли не дружил с Окуджавой, который весьма лестно отзывался о том, что Леша делает в поэзии. Многие фыркали, что, мол, Леша копирует Соснору, а Кушнер считал, что делаемое Лешей уже сделано Заболоцким. По мне же подобные ассоциации кажутся в равной мере справедливыми, как утверждение, что всякий, кто пишет четырехстопным ямбом, копирует Пушкина.
Грандиозные планы ЛИТО "Позитрона" завершились нетрезвым весельем на даче одного из участников.
Году в 74 Соснора стал вести ЛИТО в клубе Пищевой Промышленности, и там мы встречались регулярно.
На 40-летие Сосноры устроили инсценировку его поэмы Хутор. Основную роль играла Галя Григорьева и ее брат (Саша?) Были изготовлены какие-то крылья и Саша усердно играл Ангела – порхал. Потом пошли к ним домой и там пили и ели – отмечали. Леша пел песни Высоцкого, которого обожал, невероятно точно копируя его и бодро бренча на гитаре. И действительно, Леша внешностью очень напоминал Высоцкого. Леша сочинял немногочисленные, но свои песни. Одну помню лишь по названию: "Дочка губернатора".
Ходили вместе, навещали Соснору, очередной раз лежавшего в больнице. Было лето. Ленинград.
Когда я уезжал, Леша обещался писать, но здесь почему-то пунктуальность изменила ему – ни строчки не написал, хоть я через третье лицо всячески напоминал ему о себе. И отсутствие переписки огорчает меня прежде всего потому, что я не могу получить его стихов. Через общих знакомых я достал 7 стихотворений в течение 4-x лет и, несмотря на мои постоянные просьбы, скорость их поступления увеличить не удается. О причинах Лешиного молчания и медленности реакции на мои просьбы знакомых, мне остается только гадать.
Что меня поражает в Лешиных стихах – это потрясающее чувство поэтического юмора – об алкаше у пивного ларька, стихотворение Новелла: как дискобол округлым рубликом размахивал…, не хулиганствующий, а добродушный эпатаж (опять же поэтический эпатаж): семян излил бидон, не слепая погоня за звукописью, а находки звуко-смысловой гармонии (желчь желаний, тлен таланта…)
А еще – человек он хороший…
26 февраля 1981
Подборка стихотворений Алексея Шельваха была опубликована в журнале Знамя, 1994, N7, c. 68-73. В неё вошло замечательное стихотворение из Черновика отваги под названием Новелла. Туда он внёс изменение – добавил посвящение: М. Армалинскому.
Против такого редактирования у меня, конечно, возражений нет.
Владимир Марамзин
"Единственный русский писатель-порнограф"
Кто бы это мог быть? – задастся вопросом невежда.
И тут Владимир Марамзин (см. ниже Щеглов и Быков) приходит, и я даже сказал бы, прибегает ему на помощь.
Но… всё по порядку.
В 1995 году я подарил Владимиру Марамзину только что изданные мною "Русские бесстыжие пословицы и поговорки" .
Я сделал такую надпись:
"Уважаемому В.Марамзину для смехуёчков.
Дружески, М. Армалинский. 29.9.95".
И вдруг оказывается что 28 ноября 2017 года Марамзин передарил эту бесценную книгу Михаилу Дроздову, “русскому шанхайцу”, собирателю книг и других артефактов русской эмиграции.47
А в передарственной надписи Марамзин ответил на вопрос, которым начинается эта заметка:
«Михаилу Дроздову, дружески, эту вполне серьезную, даже исследовательскую работу (хоть и не без ошибок) единственного русского писателя-порнографа Михаила Армалинского.
Владимир Марамзин. Париж. 28 ноября 2017 г.».
Я же давно говорил, что русская культура должна холить и лелеять меня, единственного.
Но всё-таки я получил отписку Владимира Марамзина от моего литературного журнальца General Erotic.
Я ума приложить не мог, почему он отписался от моего журнальца, после того как многие годы он смеялся, читая мои штучки. Оказалось, что он возмутился тем, что я не стал подписывать петицию для Владимира Буковского, а вместо этого, я встал на его защиту, подойдя с иной стороны к сути предъявляемых ему обвинений.48
Обвинения Владимиру Буковскому и что с ними делать
С Буковским я лично не знаком – знаю лишь, что он герой диссидентства в СССР. Уважаю.
Теперь в Англии его обвиняют в изготовлении? хранении? потреблении? детской порнографии. Буковский, продолжая в своём помутнённом старостью и болезнью сознании пребывать в СССР, объявил бесполезную голодовку в знак протеста против обвинений. Почему голодовка бесполезная и, прямо скажем, глупая, объяснено здесь: http://www.rightsinrussia.info/blogs/sarahhurst-7
Намедни Владимир Марамзин прислал предложение-просьбу подписать петицию в пользу Буковского. Я отшутился, что моя подпись лишь дискредитирует его, ибо получится, что порнограф защищает «педофила». Но главная причина, конечно, не в этом, а в том, что бандиты-моралисты-политики-попы, преследующие людей за порнографию, какой бы она ни была, плевать хотели на все петиции, письма защиты и воззвания.
К тому же ещё – я ненавижу всё коллективное.
Если уж выступать за что-то, так это за право хранения и потребления детской порнографии. Вдумайтесь – детская порнография – это единственная информация (слово или изображение), обладание которой является противозаконным в свободолюбивых западных странах. Даже за рисунки, мультипликацию обнажённых вымышленных детей тебе дадут более жестокий приговор, чем за убийство.
В своё время я написал статейку: О пользе сексуальных наслаждений для детей14 – так вот фиксировать, свидетельствовать, демонстрировать сексуальное наслаждение детей является ныне самым страшным преступлением. То есть упоминать неопровержимые факты есть преступление. Каково?
Одно то, что сексуальное наслаждение детей является «неприкасаемой» темой – должно вызывать у психически здоровых и справедливых людей недоумение, тревогу и желание защитить тех, кого общество стремится уничтожить за один факт разглядывания обнажённого детского тела.
Поэтому, чтобы быть последовательными, надо бороться за право Буковского и всех остальных людей рассматривать и иметь у себя во владении любую информацию, какую им заблагорассудится.
Не должно быть ничего на свете, на что взрослому человеку запрещалось бы смотреть – не это ли элементарная основа свободы?
Но несмотря на это объяснение, Владимир Марамзин обиделся на меня бесповоротно.
Игорь Маркович Ефимов
8 августа 1937 – 12 августа 2020
Игорь Ефимов издал у себя в Эрмитаже одну мою книгу и отказался издавать другую. Отказался не потому, что не хотел её опубликовать, а потому что я в последний момент изъял из неё рассказ, который Ефимов считал одним из самых важных. Он был прав, что отказался, а я был прав, потому что, благодаря этому отказу, я основал своё собственное издательство, чтобы самому опубликовать урезанную книгу.
Так что спасибо Игорю Марковичу, что опубликовал После прошлого5 в 1982-м и не опубликовал Мускулистую смерть6 в 1984-м.
Больше всего меня огорчает в наших былых заочных отношениях, что он на меня обиделся. Я несколько раз пытался ему объяснить, что его обида основана на недоразумении. Но он решил обидеться на меня безоговорочно и навсегда.
И вот после смерти Игоря Ефимова я по-прежнему испытываю к нему тёплое чувство, выросшее из благодарности и уважения.
Игорь Ефимов в письме ко мне от 19 июня 1982 года писал:
Одна из причин моего ухода из Ардиса состояла в том, что мистер Проффер был возмущён моим нежеланием учиться у него искусству – как водить авторов за нос.
Ефимов вёл себя честно и изъяснялся прямо. Например, он платил за проданные экземпляры моих книг, что для эмигрантского издательского мира было далеко не правилом, а экзотическим исключением.
Да ещё по собственной инициативе Ефимов посылал мои книги стихов своему другу Бродскому.
Другими словами, Игорь Маркович Ефимов был хороший человек, писатель и издатель.
Однако его ранимость подавила чувство юмора, что послужило причиной разрыва со мной. Впрочем, у меня здесь не хватило такта – надо было его предупредить о моём грядущей статье, а то слишком неожиданно и увесисто на него она обрушилась.
Всё началось со статьи Ефимова в нью-йоркской газете Новое Русское Слово, где он как издатель взывал к читателям покупать книги. Я написал ответ под псевдонимом, чтобы не получалось, что автор ополчается против своего издателя. Я к тому времени сам стал издателем и считал необходимым показать, что существует иная точка зрения, которая, стала возможна благодаря появлению компьютера Макинтош, в который я влюбился с первого взгляда и прикосновения.
Вот моя статья:
Новое Русское Слово, Нью-Йорк ?ноября 1987
Михаил Жарницкий
КНИГОИЗДАТЕЛИ? А ЗАЧЕМ?
Суть статьи Игоря Ефимова «Книгу? За деньги? А зачем?» (НРС от 25 октября 1987 года) можно выразить в знакомой форме советских предпраздничных призывов: «Эмигранты и Эмигрантки, все как один крепите мощь Великой Русской Литературы, не щадя своих денег!» Или в виде знакомой по той же советской жизни рекламе, которую он мог бы установить на крыше своего дома: «Храните деньги в издательской кассе!» Или в виде известной поэтической строки: «Копил-копил – и книгу купил.»
Но мы знаем, как действуют призывы в делах, построенных лишь на сознательности, но не имеющих никакой экономической основы. – Они пропускаются мимо ушей.
Желание получать доходы, с помощью призыва к «сознательности», имеют в Америке тот же результат, как в Советском Союзе. Только там люди делают вид, что серьёзно внимают призывам, а здесь можно посмеяться в открытую. Принцип материальной заинтересованности, увы, неизбежен, если ставить своей целью материальные доходы.
Русская литература в эмиграции существует не потому, что книги раскупаются или не раскупаются, она существует из-за наличия странных людей, которые не могут жить, не заполняя бумагу словами. Имя этим людям – писатели. Они известны тем, что пишут в любых условиях: на свободе и в тюрьме, в бедности и в богатстве, в славе и в полной безвестности.
Они известны также и тем, что, как правило, свято хранят свои рукописи. Так что, когда губошлёпная гласность превратится лет через пятьсот в истинную демократию, рукописей нашего времени для печати будет предостаточно. Остался бы лишь интерес к ним через столько лет.
В то же время в эмиграции среди писателей существует ожесточённый естественный отбор, который многими почему-то почитается за противоестественный. В Америке он происходит на другом уровне, но по тому же принципу, что и в России: если ты можешь не писать – ты перестаёшь писать при первой возможности. А возможность отречься от писательства представляется на каждом шагу. Там и тут, писатели, за незначительным исключением, являются неудачниками в материальной жизни. Они достигают успеха в стране Мечты, умудряясь верой и надеждой заменить отсутствие денег. Разница в том, что в Союзе их не печатают, а на Западе их не читают. Типографии здесь, а читатели там.
Выживание русской литературы за рубежом зависит прежде всего от количества людей, разговаривающих на русском языке или хотя бы изучающих его. Как известно, русский язык умирает во втором поколении эмиграции, дети эмигрантов знают русский язык лишь понаслышке, и если приток эмигрантов прекратится, то и читательский рынок на Западе практически исчезнет.
Заниматься издательством русской литературы в такой обстановке, рассчитывая на большие прибыли – это всё равно, что открыть магазин по продаже валенок на Таити. Прежде всего, пролитературно настроенный советский гражданин, бывший читатель, оказавшись в эмиграции, стремительно лишается своих окололитературных поползновений, столкнувшись нос к носу с изобилием. Быстро забывается не только русская литература, но и сам русский язык. Исключение составляет лишь небольшая группа эмигрантов, неизлечимо больная русским языком. Но эти люди, будь то писатели или читатели, не только малы числом, но и, как правило, бедны, а потому не могут приниматься за рынок сбыта издаваемых книг.
Как же издателю русской литературы выжить на Западе?
Решиться на отказ от доходов и согласиться с умышленными убытками во имя русской литературы – найти мецената. Однако пожертвования в Америке лишь тогда становятся значительными, если их можно списывать с дохода, уменьшая тем самым свои налоги. А следовательно, издательство русских книг должно иметь non profit статус. В этом одно из противоречий на пути поиска богатого американского дядюшки и в то же время получения доходов.
Единственный и несомненный рынок для русской литературы, который мог бы давать доход для издателя – это Россия. Поэтому издательство русской литературы на Западе могло бы быть полезно писателю, если бы усилия издательства были направлены на распространении книг в Советском Союзе. Например, если бы издательство имело «шпионскую сеть», с помощью которой книги, изданные на Западе, забрасывались бы в Союз. Давайте пофантазируем, как некий американский издатель (например, Ефимов, сбривший бороду для конспирации) инкогнито входит в контакт с Советским Посольством и обещает поставить им за приличную сумму вагон компьютеров, запрещённых правительством США к вывозу. Советские эмигранты-компьютерщики подготавливают для Ефимова фальшивую техническую документацию и поддельные образцы, которые он демонстрирует представителям советского посольства. Советская шушера радостно клюёт на предложение. На секретном аэродроме, что находится на поляне, за домом Ефимова, контейнер книг под видом компьютеров грузится в самолёт, сделанный на добровольных началах эмигрантами-умельцами, который должен секретно преодолеть границу США. Перед погрузкой контейнера, советский представитель вручает Ефимову чемодан денег, которые тут же проверяет на достоверность другой советский эмигрант, подрабатывающий в ФБР. Самолёт с контейнером взмывает в воздух и через несколько часов пересекает Советскую границу. Но один из советских членов экипажа оказывается подпольным советским писателем, который почуял подозрительный запах типографской краски, исходящий из контейнера. У него нет никаких сомнений, что это вожделенная буржуазная литература на русском языке. Он вытаскивает пистолет и, приставив его к голове пилота, приказывает ему приземлиться на Красной площади. Пилот под страхом смерти осуществляет мягкую посадку. Подпольный писатель (раскаявшийся КГБэшник) вскрывает контейнер, и с гласностью да с кооперативностью распродаёт книги людям, стоящим в очереди, в мавзолей.
В результате успешно проведённой операции, Ефимов становится миллионером и начинает издавать бесплатный журнал «Золотое РЕНО», названный так в честь одного из приобретённых им автомобилей, изготовленного из чистого золота. Подписка на журнал растёт с каждым часом и русская литература в Америке начинает постепенно вытеснять англоязычную.
Но пока русские издательства не в состоянии предложить писателям такого рода услуги, перейдём от фантазий к действительности.
Любой издатель русской литературы в Америке, знает, что подавляющее количество выпускаемого мизерного тиража покупают не советские эмигранты, а публичные и университетские библиотеки да ещё слависты. (Как это ни парадоксально, но русская литература на Западе хоть как-то может продаваться только за счёт нерусских). Русские книги на Западе расходятся тиражом не более нескольких сотен экземпляров. В этом нет ничего противоестественного, и плакать об этом не надо. Помогает нам утереть слёзы трезвый расчёт и достижения техники в области книгопечатания. Единственный выход для писателя – это не искать издателя, а стать издателем самому, но не на советском самиздатовском уровне, а на Западном, техническом и деловом. То есть издавать себя профессионально и получать с этого доход.
Для начала воспользуемся арифметикой: если на издательство книги ушло, скажем, 1000 долларов, то чтобы их по меньшей мере окупить, можно либо стараться продать 500 экземпляров по 2 доллара, либо продать 50 экземпляров по
20 долларов. Если идти первым путём, то естественно прогоришь и никакие призывы тут не помогут.
Второй путь умышленно пренебрегает индивидуальными покупателями, которые на Западе в своём числе ничтожны. Этот путь ведёт к библиотекам. Для библиотек всё равно сколько платить, 2 доллара или 20, если существует интерес к данной области литературы. Так что надо не корить тех, кто не покупает русских книг и предпочитает идти в библиотеку, а наоборот, вынудить всех, с помощью высокой цены, прекратить покупать книги, а являться в библиотеку и запрашивать русские книги, создавая тем самым спрос на них в библиотеках.
Те же, кто жалуется на дороговизну книг, не будут покупать книг и по дешёвой цене. Так что о таких «импотенциальных» покупателях и горевать не следует. Пора вспомнить слова Василия Розанова: «Книгу нужно уважать: и первый этого знак – готовность дорого заплатить».
Что касается посредников, то есть оптовых дистрибуторов, то, говоря только о двухстах-трёхстах дорогих книг, можно прекратить давать посредникам 40%, а уменьшить его до 20% или даже до 10%. Да и нужда в посредниках будет меньшей, если самому не пренебрегать «компьютеризацией», а подключиться к мощной системе компьютеров, без которых книгоиздательство, приносящее доход, теперь невозможно.
Мы живём во время революционного переворота в издательской деятельности. Новый термин "Desk Top Publishing" можно перевести как «типография на столе». Любой русский писатель теперь может стать издателем. Ему теперь не нужно многократно перепечатывать текст на машинке, после внесения изменений и исправлений, ему не нужно делать типографский набор, ему не нужно считывать гранки. Достаточно иметь на столе компьютер Макинтош – и любой становится Гуттенбергом. Произведение пишется и одновременно набирается на компьютере. На нём же делается вёрстка и правка. Затем текст печатается на лазерном принтере и посылается в одну из типографий, которые специализируется на издании малых тиражей (например....). Стоимость печати книжки в 100 страниц тиражом в 500 экземпляров приблизительно 550 долларов. Получив тираж, можно купить список адресов библиотек и других организаций и частных лиц, интересующихся русской литературой (например, в M.I.P. Company – я дал рекламу моего издательства и получил немало заказов на списки – М.A.). Затем на том же Макинтоше делается рекламный листок и рассылается по полученным адресам. Общие затраты на издание и рекламу, книги в 100 страниц не превысят 600-800 долларов.
Раньше издатель был нужен для набора и печати, которая была не по карману писателю, и для рекламы, которая стоит дорого только в том случае, если её помещать в периодических изданиях. Так как мы пришли к выводу, что главный потребитель русских книг за рубежом – это библиотеки и другие общественные и государственные организации, то для того чтобы дать им знать о новой книге, нужно лишь знать их адреса, чтобы послать туда рекламный листок.
Повторяю, смысл в том, что для книг, издаваемых тиражом в несколько сотен экземпляров, издатели теперь не нужны, каждый писатель может стать собственным издателем и получать доход со своих книг, продавая их не по дешёвке, а по дорогой цене.
Так что закончу я эту статью не призывом, а лозунгом: «Да здравствует капитализм, давший русским писателям на Западе свободу от издателей!»
Быть может, я чуть перебрал в своём фантастическом юморе, но не оскорбил ведь.
В 1986 году я опубликовал «Тайные записки 1836-1837 годов» А. С. Пушкина, и статья была основана на моём опыте издания и продажи этой книги.
Игорь Ефимов обиделся на статью. Но узнал я об этом только через четыре года.
Вот моё письмо Игорю Ефимову, из которого станет понятно последовавшее.
20 августа 1991
Уважаемый Игорь!
Вы, конечно, меня ошарашили своим ледяно-надменным голосом – я-то и не подозревал, что Вы обижены на меня. Нелепо, когда причиной обид является недопонимание, устранить которое было бы так легко, если бы люди были в состоянии изъяснить обиду, а не таить.
Я хочу восстановить череду фактов, чтобы выяснить – где закралось досадное недопонимание.
Итак, в июне прошлого года я послал Вам письмо с предложением обмена на книги, издаваемые мной. Я указал книги из Вашего каталога, меня заинтересовавшие. Вы прислали мне книги со счётом без всякого сопроводительного письма. «Что ж, молчание – знак согласия», – подумал я и выслал Вам Соитие23, указав его стоимость (заметьте, что разница в 2.20 доллара была в Вашу пользу). Я высылаю копию Вашего счёта с моими цифрами. Никакого «оскорбительного письма» я Вам не посылал, о чём, к моему чрезвычайному изумлению, Вы мне сказали по телефону.
Если получение книги, вместо денег, не оправдало Ваших ожиданий, то нужно было сообщить мне об этом либо по телефону, либо письменно, и я бы тотчас выслал Ваши книги обратно, а Вы бы выслали мне мою книгу. (К сожаленью, Ваши книги я недавно отправил в Россию, и теперь восстановить статус кво невозможно.)
Ну, что могло быть проще? Однако вместо этого, Вы придумали молчаливо оскорбиться.
Я же, вдохновлённый обменом и будучи уверен в Вашем глубоком им удовлетворении, послал Вам в апреле этого года свой роман8 с предложением, включить его в число продаваемых Вами книг, а коли нет, то, пожалуйста, выслать обратно. По телефону Вы бросили мне, что его не получали. Сие – весьма примечательное для меня событие, поскольку это первый случай за 14 лет моего пребывания в Америке, когда моё почтовое отправление пропало, не вернувшись.
Однако моя незыблемая вера в американскую почту заставляет меня усомниться в Вашей памяти, ибо забвение Вами вышеизложенных фактов даёт основания такому сомнению.
Так что я буду Вам весьма благодарен, если Вы проверите Ваши закрома, в которых могло затеряться золотое зерно моего урожая, и вернете его, коль оно не покажется Вам съедобным.
Надеюсь, что у Вас нет больше причин гневаться на меня.
С дружеской улыбкой,
Михаил Армалинский
Игорь Ефимов ответил мне так:
Сентябрь 4, 1991
Досточтимый Михаил!
Еще со времен газетной отповеди на мою статью, опубликованной под псевдонимом, но с хвалебными упоминаниями замечательной фирмы М.I.Р., у меня в памяти осталось: «Ох, держись-ка ты от этой фирмы и от ее владельца подальше». Но потом пришел заказ на наши книги от владельца, и я подумал: «Ну, как же я могу не ответить? Ведь просит-то не что-нибудь, а книги собрата поэта». Послал книги, полагая, что наличие вложенного счета исключает всякие переговоры о книгообмене. Ошибся. Вместо денег получил абсолютно ненужную мне и никогда мною не просимую книгу с мужскими гениталиями на обложке. И приветливую записку из двух слов: SCREW YOU". Видимо, автор, вслед за Обезьянкой из романа Филиппа Рота, полагает, что это самое лучшее из всего, что один человек может сделать другому. Но я, по отсталости и убожеству своему, впал в примитивное озлобление. Не исключаю, что в таком раздрызганном состоянии мог отправить в мусорный бак всё, что имело обратный адрес указанной фирмы. Потому что низкие мстительные инстинкты имеют над мной неодолимую власть. И я не поручусь, что в будущем у меня хватит сил совладать с ними.
Поэтому лучше всего было бы нам на этом прекратить наши контакты. Уж слишком по-разному смотрим мы на то, что можно и что нельзя делать ближнему своему в нашей короткой жизни.
С пожеланиями сексуальных и мистификаторских свершений,
И. Е.
Меня это письмо удивило силой различий восприятия людьми, казалось бы, неопровержимых фактов, и я захотел, разумеется, тщетно эти различия устранить.
10 сентября 1991
Уважаемый Игорь!
Прежде всего, спасибо, что ответили.


