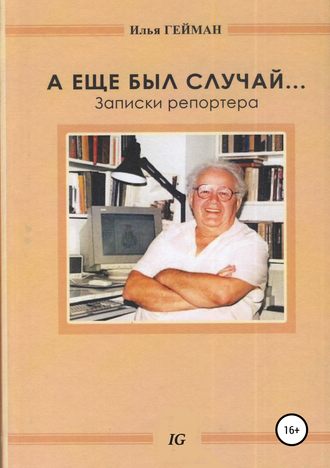
Илья Борисович Гейман
А еще был случай… Записки репортера
Наконец, нужная труба нашлась. Капитан покрутил вентиль – нам под ноги потекла темная, густая жидкость. Нефть. Остатки предыдущих перевозок.
Приятель терпеливо ждал. Жидкость начала светлеть. И, наконец, потекла совсем прозрачная.
– Вот это наша.
Нацедили емкость. Жена моряка успела накрыть на стол и мы славно посидели на бочке спирта емкостью в десять тысяч тонн.
* * *
Из всех вещей, подаренных нам мудростью для того, чтобы прожить всю жизнь счастливо, превыше всего стоит умение дружить.
Эпикур.
Шеф сказал:
– Противоестественно, что наши герои, их проблемы, радости и переживания находятся где-то в море, а газета суетится на берегу за тысячи миль. Мы должны быть рядом с ними. С этим он пошел в партийный комитет пароходства, к нашему издателю. Там его поняли. Согласились, что одного корреспондента надо сделать плавающим.
– Кого?
– Руководителя отделом флота. Илью Геймана. Его публикации вы читаете постоянно. От этого будет польза.
На том и порешили. Начали готовить документы.
Когда мне рассказали о новости, я опешил:
– Это самый лучший способ погубить идею. Да кто выпустит в море, за рубеж, на торговом корабле – а) не моряка, б) человека, родившегося за границей и в) представителя непатриотической национальности?
Наши редакционные смутились, потом стали возражать: в любом, дескать, плохом деле бывают исключения. Чем черт не шутит…
Спорить было не о чем. От нас ничего не зависело. Вернулись к работе. Бумага, как известно, долго по этажам ходит, гадать нам нечего.
Прошло несколько недель – ни слуху ни духу. Прошло еще… Двое моих коллег, пошептавшись, пошли куда-то с таинственным видом.
– Куда они?
– В КГБ, – сказали мне.
– Зачем?
– Да разве у них узнаешь? Сплошные секреты…
Потом выяснилось, что они оказались самыми нетерпеливыми в нашей конторе. Не выдержали ожидания и пошли на прием к председателю Комитета государственной безопасности республики.
Стар и мал. Один – опытный журналист, начинал свой путь с работы прокурором. Другая – девчонка, совсем молодая. Но очень темпераментная. Позже, уже в другой редакции, она была капитаном футбольной команды. Во время матча сидела на трибуне и так материла своих игроков за ошибки, что слышно было на всем стадионе. У нас в редакции она работала в моем отделе, была моей ученицей.
Таким образом, эти двое записались на прием в самый страшный дом в нашем городе. И их приняли. Принял сам председатель комитета.
Они оговорились, что пришли не с жалобой. С желанием уточнить некоторые вопросы, связанные с их коллегой. Наша парочка рассказала, в чем состоит идея открытия мне визы моряка дальнего плавания. Об особенностях моей жизни. Рассказали о Маркусе Пятигорском, моей маме, Борисе Григорьевиче.
– Мы пришли к вам вдвоем, – сказали они, – чтобы здесь, в вашем присутствии, написать личные поручительства, как коммунистов, за нашего коллегу. Он достоин доверия и мы готовы понести за него ответственность.
– Того, что вы сейчас рассказали, – заверил председатель, – вполне достаточно, чтобы понять – он человек достойный. Я вас заверяю, мы изучим это дело очень серьезно. Без ошибок. И вы о нашем решении скоро узнаете.
Через несколько дней мне сообщили, что виза открыта.
Заторопился редактор:
– Пока не передумали, надо сходить хотя бы в самый маленький рейс – на один-два дня. Тогда факт будет свершившимся и на нас махнут рукой. Илья, посмотри, что там у нас с флотом?
Я взял свежее сообщение о расстановке флота. Нашел небольшое судно – оно на следующий день уходило в Копенгаген и тут же возвращалось в родной порт.
– Это то, что нам надо, – потер руки шеф. Привезешь репортаж, а мы придумаем рубрику – что-то вроде наш специальный корреспондент в заграничном плавании. Капитана знаешь?
– Конечно.
– Договаривайся. Надо срочно внести тебя в судовую роль, чтобы ты мог получить паспорт.
Разъясню набор непонятных слов.
Мне открыли бессрочную визу. По ней нельзя ехать в отпуск, служебную командировку, на олимпийские игры и по всяким другим подобным причинам. Мне открыли визу моряка дальнего плавания. Она работает тогда, когда я плыву на грузовом корабле за границу, если мое имя занесено в судовую роль. Ну, а судовая роль – это список людей, находящихся в данный момент на корабле и являющихся членами экипажа.
Таким образом, стояла задача: в течение одного дня найти мне должность на судне, уходящем в рейс. Оформить всякие приказы и распоряжения. На их основе занести меня в судовую роль.
После этого я смогу зайти в контору капитана порта, сдать свой гражданский паспорт и получить вместо него свой же паспорт моряка. На время рейса.
Больше – никаких формальностей. Забегая вперед, скажу, что этот паспорт мне нравилось получать, но сдавал я его неохотно, не спеша. По нему можно было в кинотеатре покупать билеты без очереди – ну, кому такое может не понравиться?
…Много позже, уже во времена Горбачева, наблюдал я умилительную сцену.
На рынок привезли бочку с квасом. Привезли его для молоденькой девушки. Это был ее парнос. Бочку поворачивали, подключали к водопроводу. Девочка стояла растерянная, но вокруг нее крутились два старика. Очевидно, дедушка и бабушка. Они бежали за кирпичами, подкладывали их под колеса бочки – чтобы ненароком не уехала. По какому-то уже разу перемывали пивные кружки. Они много лет мечтали о собственном гешефте и теперь всю накопившуюся страсть изливали на внучку и ее бизнес, который власти, наконец, разрешили.
Эта сцена мне сильно напоминала то, как наши газетчики провожали меня в первое дальнее плавание.
Я получил паспорт и он переходил из рук в руки – как-никак реликвия, кусочек заграницы. На причал пришла вся редакция. А я в это время сидел в своей каюте и у меня поджилки тряслись. Я молил об одном: быстрее бы комиссия – пограничники и таможенники – ушли с корабля и граница была, наконец, закрыта. Мне казалось, что в какой-то момент они спохватятся и скажут мне: “А у вас ошибка вышла. Сойдите на берег – нам нужно кое-что уточнить.”
Но нет. На борту было спокойно. Наконец, я увидел между бортом и причалом ленточку воды. Она становилась шире.
Мы отходили от причала. Комиссия ушла. Ошибки не обнаружила. Я выбежал на палубу – помахать на прощанье своим друзьям и коллегам.
Первое плавание под опекой царя морей Посейдона началось.
* * *
Никогда не бывает больших дел без больших трудностей.
Вальтер.
Судно вышло в залив, легло на курс. Я зашел к капитану:
– Матрос второго класса готов приступить!
– Вольно! Сообщаю для информации: обращаешься не по чину. Самый большой начальник для матроса второго класса – боцман. А без шуток – тебя мы записали на эту позицию потому, что тут было единственное свободное место на судне.
От вахты, как сам понимаешь, ты освобожден. Делай, что сочтешь нужным. Ну, и надеюсь, это будет не только твой первый рейс, но и первая публикация с моря.
Казалось бы, море и судно были для меня не новостью. Я добывал материалы для газеты на многих кораблях, но они были тогда привязаны к причалу. Сейчас, в рейсе, все вырисовывалось в ином свете.
Встречные суда, маяки, барашки на волнах… Романтика!
Вон на горизонте идет своим курсом рыболовный сейнер. Я в ходовой рубке разглядываю его в бинокль и вижу: на мачте суденышка болтается что-то крупное. Он-то и сам, как утка, зарывается в волну, а тут еще какая-то штуковина качается над палубой, как маятник.
Подошел к вахтенному штурману:
– Посмотри, что у него на мачте?
Тот вгляделся:
– Мясо.
– ?
– У сейнера рефрижератора нет. А мясо-то сохранить надо. И надолго. Он же на промысел идет. Ребята нашли выход – привязали коровью тушу к мачте. Там ее обдувает ветер, мухи не садятся, мясо вялится и не тухнет. Когда приходит время обеда, отрезают кусок, а остальное продолжает сохранять бриз.
Я поднес бинокль к глазам. Туша была еще нетронутая. Значит, рыбаки только начинают свою путину – им еще долго придется столоваться запасами с подвески.
Кстати, о еде. Пришло время чая.
Я спустился в кают-компанию. Там у меня уже было постоянное место за столом: на корабле ты не можешь шлепнуться на стул где попало. Капитан во главе стола. У меня свое место согласно иерархии.
Да и приходить в кают-компанию одетым во что попало не принято. Перед трапезой следует привести себя в порядок, надеть выходную одежду, сменить обувь. Иначе говоря, явиться при параде.
Для первого раза я сплоховал. Взял полную чашку горячего чая, подвинул себе сахарницу, зачерпнул ложку и высыпал в кружку. Все, как дома.
Ко мне наклонился дед – так на флоте зовут главного механика корабля.
– Знаешь, это, конечно, не обязательно, – сказал он, – но лучше сделать наоборот. Возьмешь пустую чашку, насыпешь в нее сахар и после этого нальешь чай.
– Какая разница?
– Если бы ты дома сидел за столом и попивал чаек, разницы никакой. Но тут за столом разные люди с разными вкусами. Ты подержал ложку с сахаром над паром. Она намокла. Сахар к ней прилип. Ты вернул ее в сахарницу. Кому-то это неприятно. Кто-то брезглив. А если насыпешь сахар в пустую чашку, ложка останется сухой, ничего к ней не прилипнет. Все будут довольны.
…Теплоход быстро пожирал мили. Путь до Копенгагена короток – где-нибудь в пределах пятисот миль. Да вон на горизонте уже возник этот старый европейский город. Красивые, непривычные для моего глаза дома, выстроившие вдоль воды.
Ровесник Риги, он, не в пример ей, не теснится в узких улочках. Копенгаген раскинулся широко, дышит полной грудью, красуясь своими улицами, парками, площадями.
Я узнал, что грузовые операции у нас займут больше суток. Так что у меня есть возможность целый день побродить по столице Дании.
На советском флоте действовало железное правило: в иностранных портах моряки не могли отлучаться с корабля поодиночке. Как правило, по трое. В отдельных случаях по двое.
Со мной вызвался идти в город первый помощник капитана. Я и предполагал, что именно так и произойдет. Дело в том, что первый помощник – это особая служба на корабле. Он негласно представляет Комитет государственной безопасности. Следит за нравственностью моряков, предотвращает их попытки остаться на чужом берегу. Изменить, как тогда говорили, родине.
Первый помощник капитана служил на каждом судне. В большинстве своем это были неплохие люди – они делали свою работу так, чтобы не причинять неприятности экипажу. Но были среди них и дураки, и любители наслаждаться властью.
Знавал я одного такого служаку. Он пришел работать на флот из тюрьмы. Конечно, не заключенным он был там – наверное, надзирателем или опером. А, может, и большим начальником.
Когда к нему приходил кто-либо из членов экипажа, он говорил:
– Я вызвал вас, чтобы поговорить по душам.
У моряка сжималось сердце. Он начинал перебирать в уме свои прегрешения – за что его могут лишить визы или выгнать с корабля.
Разговор по душам “по вызову” не получался – от него сильно отдавало тюремными застенками. Экипаж, естественно, сторонился своего нового первого помощника. К счастью, он скоро как-то растаял, исчез.
Или вот такой случай. Судно шло в Стокгольм. На руле стоял молодой матрос. В ходовую рубку зашел первый помощник капитана, показал пареньку бланк радиограммы:
– Только что пришла. В армию тебя забирают. Приказали, когда придем домой, в порт, обеспечить твою явку в военкомат.
Матрос чуть ли не раскрыл рот от неожиданности. Новость явно не обрадовала его.
– Так в какие войска пойдешь? – не отставал первый помощник. – Небось, на флот? Иди в воздушные войска… И невестой, небось, успел обзавестись? Тогда интересно, ждать-то она тебя будет?
Паренек был растерян.
Первый помощник насладился произведенным эффектом и ушел к себе в каюту. Матрос закончил вахту и тоже ушел.
Вскоре по судну разнеслась весть: давешний рулевой сбежал. Прыгнул на шведский берег и исчез.
Дальше события развивались так. Судно шло по каналам. При первой возможности он перешел на берег и побежал в полицию. Там попросил политическое убежище: меня, дескать, против моей воли заставляют служить в армии. Я – пацифист.
Шведские власти взяли его под защиту.
А на судне – нешуточная паника. Такие события мгновенно становятся мировой сенсацией. Виновные в них получают соответствующую порцию наказания.
Как было принято, на теплоходе немедленно собрали членов экипажа на собрание. Клеймили предателя родины, вспоминали, какой он был никудышный человек.
В полицию срочно отправили протокол собрания и несколько заявлений от моряков: такому-то он должен такую-то сумму денег, такому-то такую и так далее. Плюс докладная от руководителей профсоюзной организяции: сбежавший матрос обокрал кассу взаимопомощи.
В сопроводительной первого помощника заявлялось, что беглец – уголовный преступник. Он должен быть немедленно выдан экипажу для криминального преследования на родине.
Из этой затеи ничего не получилось. Придуманные истории о невозвращенных долгах и несуществующей на судне кассы взаимопомощи всерьез не были приняты. Матрос остался в Швеции. Что стало с придурковатым первым помощником не знаю – я потерял его из вида.
Но вернемся к моей прогулке по Копенгагену. Я не ошибся – со мной в увольнение пошел первый помощник капитана. Потому что я был слишком важной птицей – ее никак нельзя было выпустить из клетки в первом же заграничном порту.
Для таких опасений у государства были веские основания: мое сомнительное заграничное происхождение, непатриотичная национальность, да, к тому же, я сам принадлежал к вольнодумцам-журналистам.
К моему удовольствию, спутник мне попался никакой не соглядатай. Ему самому было интересно бродить по городу. Думаю, в обычных обстоятельствах он не мог позволить себе такую вольность.
…Когда-то, очень давно на месте, где сейчас Копенгаген, стояла рыбацкая деревушка викингов. Называлась она Хавн. Тут же в 1167 году построили замок и он стал укрепленным городком.
Здесь, на острове Зеландия, находится ядро столицы Дании. А весь город с пригородами раскинулся на островах, между которыми текут проливы и каналы.
По современным меркам Копенгаген невелик – примерно, 600 тысяч жителей. С пригородами не дотягивает до полутора миллионов.
На мой взгляд, главное отличие Копенгагена от многих других городов – велосипеды. Каждый второй горожанин пользуется им для поездки на работу и других нужд. Мы шли и всюду нас окружали веллосипедисты. У зданий большие площади занимали парковки железных коней.
Я глазел на них с чувством человека, который в детстве по бедности не имел велосипед. Глазел и думал: неужели их не воруют? Ничем не привязаны, без цепей и замков. Бери и катись на все четыре стороны.
Но это был другой мир. Велосипеды здесь не воровали.
…Мы нашли дорогу к знаменитому парку Тиволи. Сюда нельзя было не придти – этот парк настоящий старик. Он – второй по возрасту в мире.
И к Русалочке тоже нельзя было не подойти, если уж волею судьбы оказался в Копенгагене. Сколько детей она сделала добрыми, бескорыстными, великодушными! К Русалочке из сказки Андерсена, сидящей на камне в ожидании принца и приумножающей славу этого города.
Красивые улицы, ансамбли домов, достопримечательности были мне, конечно, очень интересны. Но еще больше хотелось походить по датским магазинам. Не из крохоборства, естественно. На мою мелочь в валютном исчислении не пошикуешь. Тут был профессиональный интерес. Магазины влекли меня, как витрина жизни народа, в гости к которому меня занесла фортуна.
Мы-то сами своими прилавками похвастать не могли. Я, изрядно поголодавший в годы войны, до сих пор не мог удовлетворить свой голод. За дефицитом стояли очереди. А дефицит – всюду, куда ни посмотришь. И одевались мы бедно – в магазинах лежало и висело тряпье, которое неприлично было надеть. Но надевали – за неимением гербовой пишут на простой.
В свой первый заграничный рейс я надел кожаное пальто – писк тогдашней советской моды. И просчитался. В Копенгагене прохожие оглядывались на меня, как на папуаса, нивесть откуда забредшего в их благопристойную страну.
Словом, меня тянуло в магазины. Чтобы с их помощью сравнить два образа жизни.
По дороге мы заходили в небольшие лавки. Продавцы бросались к нам со своими предложениями. Но когда узнавали, что мы говорим только на русском, остывали. Хотя нас удивляло, что все они предлагали нам общение минимум на трех-четырех языках. Копенгаген стоит на перекрстке торговых дорог Европы, и этим объяснялось, что в лавках и магазинах работали сплошь полиглоты.
В огромном торговом центре, доверху набитом заманчивыми вещами, я был не очень желанным покупателем. У меня была валюта за трое суток плавания матросом второго, самого нижнего класса. Сущие копейки, считанные датские кроны. Но и на них хотелось купить хоть что-нибудь семье и коллегам из недосягаемой в то время заграницы.
По моему карману был отдел самых дешевых мелочей. Жене – брошку, сынишке – носочки. Пригоршню канцелярских резинок-фигурок, карандашей, цветных скрепок и чего-то другого для редакции. Я брал в руки какую-нибудь безделицу и тут же прикидывал, какую часть моей казны она съест.
– Красивые вещи? – спросил кто-то из-за спины.
Я оглянулся. Там стоял мужчина и смотрел на вещицу, которая была у меня в руках.
Ни о чем не думая, автоматом, я сиганул от него со скоростью зайца, вырвавшегося из пасти лисицы.
Я спасался от незнакомца и лихорадочно искал глазами в нескончаемом караван-сарае товаров моего попутчика, первого помощника капитана.
– Что случилось? – спросил тот, когда я отыскал его среди рядов с вещами.
– По-моему, там был человек из НТС… Ни с того, ни с сего заговорил по-русски.
– Хорошо, что ушли. Тут всякое могло случиться… Они часто пристают к нашим морякам. Однажды группой хотели подняться на советский пароход. Команда не могла с ними справиться. Тогда капитан приказал включить брандспойты с кипятком. Их смыло мгновенно.
* * *
Нет лекарств для тех,
У кого пороки стали нравами.
Сенека.
В Советском Союзе об этой организации практически ничего не знали. Иногда упоминали с эпитетом “антисоветчики” и только потому, что она издавала, да и сейчас издает, два журнала – “Посев” и “Грани”. В них печатались наши диссиденты и потому их безжалостно ругали в советской прессе.
Сама же организация доставляла большие неприятности СССР. Она возникла еще в начале двадцатых годов прошлого века, как объединение белоэмигрантов. Тех, кто хотел бороться с советами, реставрировать царский строй.
Позже на этой основе был создан Народно-трудовой союз. Появился его девиз: свержение коммунистического строя на исторической родине. Эмблема – трезубец. Если мы вспомним, такая же эмблема была у власовцев.
Теоретики НТС утверждали, что если создавать на советской территории антисоветские ячейки, из них можно сконструировать мощную оппозиционную организацию. По этой теории ячейки не должны быть связаны друг с другом, а выходить прямо на зарубежный центр. Но действовать они обязаны все вместе в одном направлении – сокрушение коммунизма.
Для этого организации нужны были люди. Много людей. Не зря же когда-то их злейший враг Сталин сказал: “Кадры решают все”. НТСовцы с исступлением вербовали людей для своих ячеек. Не только для работы в подполье, но и переправки литературы со своими идеями в Советский Союз. Вот почему они и липли к нашим морякам, пытаясь сделать из них курьеров. Приставали и к немногим советским людям, не морякам, временно оказавшимся за рубежом.
Трудно себе представить, но Народно-трудовой союз разными путями, в том числе и на воздушных шарах, переправил в СССР 100 миллионов листовок. Все они, само собой, были антисоветскими.
Ну, а в итоге, тот незнакомый человек в торговом центре, положил конец нашей прогулке по столице Дании. Настроение было испорчено. Да и день уже клонился к вечеру.
Мы вернулись на судно.
* * *
Любят родину не за то, что она велика, а за то, что своя.
Сенека.
Лиха беда – начало. Вскоре после первого рейса последовал второй, потом третий, и еще, и еще…
Однажды я пришел на судно, собираясь в очередную командировку. Явился к капитану представиться. Он был старый, уважаемый моряк. Заметно выделялся из общей флотской массы. Высокий. Не по годам стройный, седовласый, он сходил на причал со своим крупным догом и неторопливо прохаживался. Вылитый английский капитан где-нибудь в индийской колонии.
Зашел к нему. Отрекомендовался.
– Я знаю, – проворчал он. – Взял вас в рейс только потому, что партком попросил.
– Почему? В чем я провинился?
– Не вы провинились. А я терпеть не могу видеть журналистов.
– Извините, вы напомнили мне одного моего однофамильца. В старые-престарые времена во время войны на Кавказе служил там царский генерал по фамилии Гейман. Он приказал своим подчиненным на всех уровнях: если появится в расположении журналист, сечь его розгами тут же. Никто не знал, откуда взялась эта причуда, но секли. Розгами. За что? Да разве спросишь у такого генерала, за что?
А у вас откуда? Тоже тайна?
– Никакой тайны нет. Один щелкопер написал в газете обо мне: “Заложив руки за спину, попыхивая трубкой, капитан медленно поднимался по штормтрапу…” Мне до сих пор покоя не дают из-за того бумагомараки.
Я не знал, куда спрятать глаза из-за стыда за неизвестного коллегу.
Дело в том, что штормтрап – это веревочная лестница с деревянными перекладинами. Его выбрасывают за борт, когда невозможно спустить обычный, парадный трап.
Мне как-то пришлось подниматься по нему в шторм. Судно стояло на рейде и попасть на него иначе было невозможно. Меня и некольких женщин – жен моряков доставили к борту на лоцманском боте и сказали:
– Лезьте!
– Но трап болтается… Судно качается на волне…
– Лучше не будет. Другого способа нет… Надо лезть.
Я надел на плечо сумку с вещами и начал карабкаться. Трап бросало из стороны в сторону. У меня иссякали силы. А борт корабля был еще на чертовой высоте. Росла уверенность – я вот-вот сорвусь и плюхнусь в штормовое море. Но я полз, медленно, но полз.
Если я пишу эти строки – финал понятен.
Пожалуй, самый талантливый цирковой гимнаст и подумать не мог бы о том, чтобы вскарабкаться на борт корабля по штормтрапу, заложив руки за спину, да еще и попыхивая трубкой.
– Это было напечатано в нашей газете?
– Если бы в вашей, от нее и мокрого места не осталось бы. Но какое это имеет значение! Только вы, писаки, можете из уважаемого человека сделать посмешище.
– Капитан, причем тут я? Никто не скажет вам, что я пишу глупости. И сейчас иду в рейс не для того, чтобы ославить вас…
– Бросьте, я совсем не имел вас в виду. Подвернулся случай, вот и отоспался на первом попавшемся.
Добро пожаловать на борт! Потом посмотрим, на что вы годитесь.
* * *
Не исправляй беду бедою.
Геродот.
Смешно. Когда я еще начинал работать в этой газете, мне, в основном, поручали готовить материалы из Рижского порта. Как неофита, меня все в нем поражало. Восхищали сразу несколько пароходов у причалов, портальные краны, автопогрузчики… Всего много. Все в движении.
Я искренне писал, что этот порт – один из крупнейших в Европе. И ни разу никто не сказал мне, что я обманываю читателей, что моя похвальба – неприкрытая пропаганда.
Положим, в редакции никто мне этого не говорил, потому что все мы были сухопутными людьми. И никто из нас не имел представления о заграничных портах.
Но моряки… Среди них у меня было уже предостаточно друзей – капитанов, штурманов, матросов… Они молчали тоже. Почему?
Мы пришли в Антверпен. В порт, который входит в двадцатку крупнейших портов в мире. Второй по величине в Европе. Причалов – ни конца, ни края. Сто километров! Здесь одновременно может пришвартоваться четыреста кораблей.
Когда я превозносил наш порт, там одновременно могли стоять у причалов шесть-восемь судов.
Громкая трансляция объявила:
– Капитан просит зайти к нему корреспондента.
Я быстренько привел себя в порядок, заторопился. “Наверное, продолжит пилить”, – подумал.
– Не хотите ли прогуляться по городу? – спросил капитан.
Я оторопел. Но тут же понял, что он хочет загладить давешнюю неловкость.
– Спасибо, я буду рад.
В Антверпене я оказался не в первый раз. Но сколько бы человек ни приезжал сюда, он не будет уставать любоваться этим городом.
Мы шли по улице и я увидел человека, который не торопился со всеми прохожими, а стоял и что-то разглядывал впереди себя. Повинуясь неистребимому инстинкту толпы, я тоже остановился рядом с ним – пытался понять, что он там рассматривает.
Капитан тронул меня за локоть:
– Пошли… Это скульптура…
Вроде бы мелочь, но в одном городе с этим зевакой – целый район огранщиков, полировщиков, торговцев алмазами. Их – тысячи. Думаю, нигде в мире нет ничего подобного.
У одного причала я обратил внимание на необычное судно. На его широкой трубе была нарисована отрубленная кисть руки и кровь, сочившаяся из раны.
– Это какой-то знак? – спросил я.
– Есть, я думаю, легенда, – сказал мой спутник. – Жил в свое время богатый судовладелец. И было у него три сына. Уже не дети. Однажды позвал их отец и говорит:
– Я уже не молод. Жить мне осталось недолго. Хочу выбрать из вас моего преемника. Того, кто сможет управлять нашим флотом без меня. Но выбор труден. Давайте решим его так.
Вы знаете, у причала стоит мой лучший пароход. Побежите к нему. Кто первый дотронется до борта, тому быть управляющим.
Сыновья побежали на равных. Когда судно было уже совсем близко, один из них отрубил себе кисть руки и бросил вперед. Она первая коснулась борта корабля и, окровавленная, упала на палубу.
С тех пор на трубах кораблей компании рисуют эту руку.
Мы продолжали прогулку.
– Может, попьем? – спросил капитан.
– Давно хочу. Неудобно было говорить.
– Кока-колы?
– Не знаю. Никогда не пил кока-колу, – засмущался я.
Зашли в небольшой ресторан.
– Вы знаете, что такое филе америкен? – снова спросил попутчик.
– Первый раз слышу…
– Это булка с фаршем. Очень вкусно. Пробуем?
– Давайте…
Нам принесли какое-то чудовище. Длиннющая французская булка, разрезанная вдоль. На каждую половину навьючена гора мясного фарша. Сырого.
Я недоверчиво посмотрел на капитана:
– Не ем сырого мяса. Это еда эскимосов…
– Можете не есть. Только попробуйте.
Я откусил. Жевнул. И тут же почувствовал: очень вкусно. Мясо со специями создавало изумительное ощущение.
Забыв обо всем, я набросился на свою половину филе и слопал его в одно мгновение.
– Ну, вкусно?
– Потрясающе!
– Так, может, еще по одной?
Я промолчал. В уме считал, сколько франков у меня останется после такого пиршества. Баланс не сходился.
– Вы что, деньги считаете? – догадался капитан. – Не беспокойтесь, моих представительских хватит на сотню бутербродов америкен.
Мы позволили себе еще по филе. И теперь, сытые, отправились на судно.
После нашей прогулки по Антверпену вроде бы все хорошо складывалось, но утром на теплоходе забили тревогу: второй штурман, наверное, отравился. Он засел в туалете и долго не выходит. К счастью, после того, как в гальюн стала ломиться вся команда, обнаружилось, что то была ложная тревога. Простое недоразумение. Хотя штурман на самом деле резво бегал в туалет. Но вовсе не из-за отравления. Причина оказалась фантастичней.
Как выяснилось позже, он тоже ходил в город. Тоже перекусил где-то. Ему, как и мне, очень понравилось то самое филе америкен и он готов был бы съесть несколько бутербродов сразу. Но не съел. И у него с валютой была напряженка.
Помаялся-помаялся парень. До ночи. Когда экипаж погрузился в сон, пошел штурман на корабельный продуктовый склад. Там, помимо всего, хранились туши мяса.
Морячок пришел туда, потому что решил – он и сам может состряпать филе. Не зря же говорят, что голь на выдумки хитра. Да и стоить самодельное угощение будет не в пример дешевле. Отхватил он приличный шмат от туши, приволок на камбуз, навертел солидный таз фарша, добавил яиц, всяких приправ и уселся лакомиться.
Долго ли, коротко ли длилось пиршество, трудно сказать. Но наступил среди ночи момент, когда лошадиная порция деликатеса дала о себе знать и… что случилось дальше, нам уже известно.
* * *
Быть щедрым – значит давать больше, чем можешь;
Быть гордым – значит брать меньше, чем нужно.
Д. Джебран.
В одно из прежних плаваний в Антверпен мы с судовым радистом пошли туда, куда ходили все советские моряки. В магазин, который держал один русский эмигрант.
У него поучительная история.
Много лет назад на причалах, где чаще всего швартовались наши корабли, появился один человек. Скорее всего, его можно было назвать коробейником. Он носил на себе всякую привлекательную мелочь. На нее были падки моряки с пустыми карманами. Кое-что им могло пригодиться в хозяйстве. Но основные покупки шли на подарки, сувениры. И стоили недорого.
Со временем к нему привыкли и уже стали поглядывать вдоль причала: не идет ли коробейник?
Хотя и торговал он мелочами, дело у него, похоже, наладилось. Через некоторое время он появился у кораблей с ручной тележкой. На ней была та же дребедень, но появился и новый товар – синтетические ковры с рисунками.
В Союзе ковер на стене был гордостью семьи. Его не так просто было достать. Дефицит. Зато когда уж достали по блату, фотографировались на его фоне и всячески хвастались. Потому что в условиях пустых магазинных полок это был убедительный показатель благосостояния.
Человек на причале – выходец из СССР – это знал. Заполучив тележку, как первое транспортное средство, расширил свой ассортимент недорогими синтетическими коврами. Яркими, украшенными рисунками.
И стал особенно желанным гостем на советских пароходах. Сейчас станет ясно, почему.
Платили советским морякам не щедро. В рублях более чем скромная зарплата. Говорили при этом: “Он же еще и валюту получит”. А валюты кот наплакал – это я много раз испытывал на себе. Сама напросилась параллель.
Однажды в тюрьме я разговаривал с девчонками-заключенными. Все они на воле работали продавщицами. Зарплата у них была копеечная. Но, говорили они, подразумевалось, что будут обвешивать покупателей или станут приторговывать дефицитом. И заживут лучше других.
Увы, они улетали стаями жить хуже других в тюрьмы.
Так и с моряками: выдавая им валюту, начальство предполагало, что побочные доходы уравняют их заработок с другими людьми.
Содержать семью на такие доходы было трудно. Да к тому же жены постоянно ездили на побывку с мужьями в порты по всей стране. Это влетало в копеечку.
Помню, в одном плавании на десерт подавали грейпфрут. Когда обед заканчивался, кое-кто уносил его с собой из кают-компании несьеденным. В порту приедет жена и он сможет поставить перед ней на стол блюдо с непривычным пока еще фруктом. И угостил, и валюта цела.
Тем не менее семьи моряков загранплавания жили неплохо. Потому что они покупали на свою валюту то, что можно было продать в комиссионом магазине. Что имело спрос. Косынки, женские чулки, косметику… Очень хороший навар давали ковры – разбирали их, как горячие пирожки.


