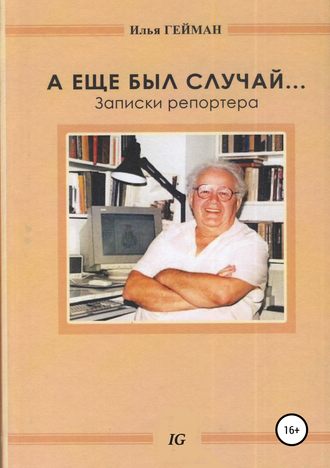
Илья Борисович Гейман
А еще был случай… Записки репортера
Пищи не было. Помогал, правда, Красный крест, но его продуктовые передачи были каплей в море. С них и ноги протянуть было недолго.
Спасение от голодной смерти было найдено самим “экипажем” корабля. Капитан с дедом устроили в одном пустом трюме огород. Выращивали всякую зелень. В другом стали разводить кроликов – они быстро размножаются. Кормили их собственной травой. А сами питались мясом. Почти только мясом. Благодаря ему и выжили.
Четыре года два моряка берегли свой корабль. Без перерывов, выходных, больничных листов, отпусков, праздников несли бесконечную судовую вахту. Двенадцать часов через двенадцать. Полсуток дежурство, полсуток отдых на огороде или у загонов для кроликов. День за днем четко, по моряцки вели судовой журнал.
Спаслись сами. Спасли и корабль.
Я встречал этих робинзонов в коридорах пароходства. Они ходили, понурые, из кабинета в кабинет. Показывали свой судовой журнал – главный документ на корабле. Показывали большим чиновникам и мелким. И никак не могли получить свою зарплату с доплатой за огромную сверхурочную работу.
Я читал их вахтенный журнал. В нем – вся жизнь на пароходе и обстановка вокруг него. Никаких капитанов Немо для этих приключений не потребовалось бы.
* * *
Стремись не к тому, чтобы добиться успеха, а к тому, чтобы твоя жизнь имела смысл.
Альберт Эйнштейн.
Вообще-то, когда началась война, где-то за границей оказалось несколько латвийских судов.
Одно из них – самый крупный грузовой “Герцог Екаб”.
В тот день, когда Латвия стала советской, теплоход шел в Тихом океане к берегам Перу, в порт Кальяо. Получили сообщение и решили изменить курс – идти на родину. Но трезвые головы подсчитали, что ни горючего, ни воды, ни провизии на такой переход не хватит.
Пошли по прежнему курсу, в Перу. Но там моряков встретили нелюбезно. Поставили на борту вооруженную охрану, завели речь об аресте корабля. Экипажу запретили сходить на берег.
Большинство команды было за то, чтобы любым способом уйти из этого порта. Но кое-кто решил остаться – им не нравилась советская власть в родной стране.
Глубокой ночью вооруженную охрану силком затолкали в шлюпку. Потушили все огни. Крадучись, в темноте выбрались из порта и взяли курс через весь Тихий океан – во Владивосток.
…Вот что рассказали мне моряки во время одной из командировок.
В Лондоне на их судно пришел какой-то человек. Говорил по-русски. Попросил пустит на корабль.
Команда подумала, что он попрошайка – натащила с камбуза всякой снеди. Но гость возразил, что не голоден и не нищий.
Он рассказал о теплоходе “Герцог Екаб”. О том, как его товарищи спаслись от плена, а он остался. Что все эти годы скитался по миру, переходя с корабля на корабль. Нет, он не беден. Хорошо зарабатывает. Ни в чем себе не отказывает. Но болит душа – он как бы предал товарищей и остался одинок.
…А теплоход, как мы помним, под покровом темноты ушел из Перу. На подходе к Владивостоку экипаж поднял красный флаг и вошел в новую жизнь.
Но его судьба, на мой взгляд, сложилась не лучше, чем у того отщепенца. Корабль получил новое имя – “Советская Латвия”. В годы войны он перевозил военные грузы по ленд-лизу. Но когда наступил мир, теплоход передали “Дальстрою”. Я уже писал, что это был страшный спрут. Ему принадлежали миллионы советских заключенных, которые пилили лес, строили железные дороги, добывали золото в нечеловеческих условиях. И умирали в лагерях.
Позорная миссия выпала на долю бывшего “Герцога Екаба” – он перевозил зеков из Владивостока и Находки на Колыму. На муки.
Через много лет я был в командировке во Владивостоке. Попытался найти следы этого корабля. Мне сказали, что его уже нет на свете. “Герцога Екаба”, как говорят моряки, разрезали на гвозди.
* * *
Грязь блестит пока солнце светит.
Иоанн В. Гёте.
Мы – у входа в Средиземное море, в Гибралтарском проливе. Это место само по себе прекрасно, но оно еще овеяно мифами и легендами древнего мира.
Вход и выход этих морских ворот стерегут по древним сказаниям Геркулесовы столбы. Горы. Одна из них, северная, – Гибралтар. О ней я рассказывал. Другая Абила, южная, расположенная рядом с Сеутой, на северном побережье Африки.
Античное сказание говорит, что в ходе своего путешествия на запад древнегреческий герой Геракл отметил самую дальнюю точку своего пути – две горы, возвышавшиеся на горизонте. Эта точка и служила границей для мореплавателей в античную эпоху. Вот почему в переносном смысле Геркулесовы столбы – это край света.
Был теплый солнечный день, когда мы входили в пролив. Я спросил ни к кому конкретно не обращаясь:
– Столбы Геркулесовы, а открыл их Геракл. Почему такая путаница?
Неожиданно отозвался матрос на руле:
– Геркулес и Геракл – одна личность. Просто грека Геракла итальянцы звали Геркулесом.
Судно шло мимо Гибралтарской скалы. Я с уважением смотрел на нее и мечтательно сказал:
– Зайти бы на несколько часиков… Там столько истории…
– Это очень легко сделать, – отозвался дед, зашедший в ходовую рубку.
– Как? – Обрадовался я.
– Пойди в яму, – так на морском сленге зовут машинное отделение – возьми горсть песка и насыпь в машину. Мы пойдем в Гибралтар на ремонт, а ты погуляешь по скале денька три.
Пошутив, мы вышли в Средиземное море и взяли курс на север Италии. На счастье, погода выдалась великолепная. Штиль. Ласковое солнце в январе. Стайка дельфинов, которых я видел впервые в жизни, плыла наперегонки с носом корабля в буруне. Временами они весело выскакивали из воды и снова шли поводырями впереди судна.
Безмятежное плавание, солнечные зайчики на воде и веселая игра дельфинов навевали разные воспоминания. На память пришла и такая история. Рассказал мне ее мой хороший приятель, судовой радист.
Они пришли в польский порт. Стоянка предвиделась короткая, но достаточная для того, чтобы сходить в город.
Их было трое. Пошатались они по магазинам, пофлиртовали с симпатичными польками в сквере… Не заметили, как день прошел. Поторопились в порт. Поднялись по трапу – вахтенный и говорит:
– Из-за вас на два часа отход задержали. Идите в столовую команды – там собрание будет.
Ребята со страху не знали, что делать. Мало того, что отход задержали, так еще на судне с ними в рейс пошел инструктор парткома пароходства. Значит, расправа будет самой суровой.
У входа в столовую их увидел первый помощник капитана.
– Все трое ко мне в каюту!
Там уже был представитель парткома. Он укоризненно посмотрел на парней и сказал первому помощнику:
– Сейчас никаких разборок. Проведем подписку на заем, потом подумаем о их судьбе.
Пока шли в столовую, один из троицы прошептал:
– Делайте то, что я. Больше ничего.
Экипаж был в сборе. Инструктор парткома сразу же приступил к делу. Он говорил о патриотизме, родине, сплоченности вокруг партии, борьбе за мир и о том, что советские люди всегда поддерживают свою страну деньгами, заработанными собственным трудом.
– А теперь, – сказал он, – давайте приступим к подписке на государственный заем.
В столовой возникла заминка. И тогда руку поднял один из проштрафившейся троицы, заводила.
– Моряки всегда были в первых рядах патриотов родины. Я решил подписаться на заем на три месячных оклада. Это будет мой вклад в развитие страны.
Руку поднял мой приятель, радист:
– Я поддерживаю это решение и тоже подписываюсь на три оклада.
Тут же выступил третий приятель:
– Конечно, моей семье придется потуже затянуть пояса, но и я подписываюсь на три оклада. Призываю всех членов экипажа следовать этому примеру.
Зал молчал. Команда смотрела на троицу глазами побитой собаки.
Государственные займы были бичом народа. При низких заработках люди жили бедно и голодно. А тут каждый год на них навешивали тяжелый оброк. Да что там – формально они навешивали его на себя сами.
Хорошо бы если б государство обратилось к своим гражданам:
– Мы в тяжелом финансовом положении. Помогите, кто сколько может!
И люди несли бы деньги – кто много, кто поменьше. Ну, а экстремисты и вовсе подписывались бы на три оклада.
Но в нашем случае сумма никак не зависела от людей. Руководители предприятий и общественных организаций стремились перещеголять соседей и выбиться в передовики района или города.
В коллективах создавали истерическую обстановку при подписании на заем – в ней стыдно было брать на себя оброк меньший, чем другие.
Подписка шла на ура один день, а остальные дни года семья должна была отказываться от масла, мяса, хлеба, сладостей для детей.
Под сумму займа выдавались красиво напечатанные бумаги. Они назывались облигациями. Государство как бы брало у меня деньги в долг и выдавало мне расписку, облигацию. Обязательство, что долг вернет. Потом шли годы, менялись деньги, облигации дешевели, превращались в ничто.
У меня, как и у других была пачка этих красивых, ничего не стоящих расписок. Сейчас не помню, куда они делись. Скорее всего, выбросил на помойку.
…Когда подписка на заем окончилась, троицу нарушителей вызвали в кают-компанию. Там уже сидели капитан, представитель парткома, первый помощник капитана.
– Вы сегодня серьезно нарушили дисциплину, – сказал парткомовец. – Два часа простоя судна дорого обойдется пароходству. Но наравне с этим я не могу не отметить высокий патриотизм, который вы проявили при подписке на государственный заем.
Я думаю, капитан разделяет мое мнение и простит вам на первый раз опоздание к отходу судна.
– Так оно и случилось, – закончил свой рассказ приятель. – Мы были прощены. За два-три рейса привезли достаточно хороших вещей. Продали их в комиссионках и вернули деньги, потерянные в чрезвычайной ситуации.
* * *
Клятвы, данные в бурю, забываются в тихую погоду.
Уильям Шекспир.
За размышлениями-воспоминаниями прошло время. Мы швартуемся в Савоне – на севере Италии. Город – один из крупнейших в районе Лигурии. Еще в середине бронзового века здесь находилось селение Саво. Так что это заслуженный ветеран. А еще здесь жили родители Христофора Колумба. Позже они перебрались в Геную.
…Капитан спросил:
– Не сходить ли нам кофе попить?
Я охотно согласился. Мы пошли втроем: я, капитан и дед. Походили по чистому, приятному городу, зашли в бар. Обычный бар – стойка, два-три стола, длинное, как пенал, помещение. В дальнем конце стоял джук-бокс, музыкальный автомат. Около него – стайка проституток.
Мы сели за барную стойку – капитан и дед по краям, я между ними. Заказали кофе, капитан вдобавок рюмку выпивки – накануне он позволил себе лишнего.
И тут от группки товарок отделилась смазливая девица, направилась в нашу сторону. Подошла к капитану, попросила закурить. Тот молча показал трубку. Девица обошла нас и попросила закурить у деда. Стармех сказал, что не курит.
Тогда она протиснулась между дедом и стойкой, добралась до меня, села на колени, обняла одной рукой и попросила закурить.
Я ощутил влечение прекрасного женского тела, но в то же время мысленным взором увидел, как медленно закрывается семафор. Это означало, что мне закрывают визу. Я представил себе, что завтра в местных газетах появится мой снимок с проституткой на коленях на фоне полок с разноцветными бутылками. Спасения не будет. Хорошо еще, если только визу закроют.
Дрожащей рукой я протиснулся под попкой девицы, залез в карман брюк, вытащил смятую в комок пачку “Примы” и протянул ей. Кокотка брезгливо выправила пачку, достала одну сигарету, понюхала, встала с моих колен, протиснулась на волю, сказала презрительно:
– Но америкэн… – и ушла к джук-боксу.
Сердце мое успокоилось. Опасность миновала.
* * *
Черный крест на груди итальянца,
Ни резьбы, ни узора, ни глянца, —
Небогатым семейством хранимый
И единственным сыном носимый…
Молодой уроженец Неаполя!
Что оставил в России ты на поле?
Михаил Светлов.
Команда нашего теплохода была огорчена: в Савоне не торговали коврами. И впереди, по курсу, не было мест, где можно было бы выгодно истратить валюту.
Но тут пришла хорошая новость: в Генуе – до нее полсотни километров – магазин с товарами для советских моряков держит донна Мария. Она готова прислать автобус с гидом и перебросить нас в свой город. Бесплатно.
Капитан дал добро. Повар приготовил сухой паек. Вахтенные остались на корабле. Я со всеми тронулись в путь вдоль морского побережья на север, в Геную.
В Италии по воскресеньям запрещена торговля промтоварами. Мы приехали как раз в такой неудачный день. Вход в магазин донны Марии был закрыт, но жалюзи приподняты на половину человеческого роста. Мы крадучись вползали в эту дыру и перед нами распахивалось море ковров. На любой вкус, по любой цене.
Спасибо донне Марии – после того, как моряки истратили свою валюту, она согласилась задержать автобус на весь день, чтобы мы могли там побродить.
Генуя – красивый, полнолюдный город. На рейде виднелась громада американского авианосца. На берег сошло множество американских моряков. Куда ни посмотришь, всюду в толпе виднелись их белые шапочки. Да и наших, похоже, здесь тоже всегда хватает. Во всяком случае мне закричали из группы итальянцев:
– Морячок, продай фотоаппарат!
Я думаю, тут след оставили ребята из черноморского пароходства – завсегдатаи итальянских портов.
Мне очень хотелось побывать в двух местах – у дома, где родился Колумб и на одном из самых знаменитых кладбищ мира – Стальено.
Двухэтажный дом Колумба нашелся у старинных городских ворот Porta dei Vassa. По-русски это просто-напросто Коровьи ворота. Тут неподалеку была улица мясников – вот к ним через ворота и направлялись стада на корм горожанам.
Колумб родился тут в 1451 году. Невзрачный домишко с той поры постарел, его разрушили французские пушки, потом восстановили и он снова постарел.
Тем не менее, сюда постоянно стекаются толпы почитателей славного мореплавателя. Один раз в год, в День Колумба, 30 октября, их пускают внутрь в скромный музей.
Вокруг места рождения Колумба идут вековые споры. Португальцы утверждают, что родина открывателя Америки – на их земле. Генуэзцы предъявляют свой увитый плющом пострадавший от времени домик Колумба.
А теперь о другом.
Я давно хотел побывать в мемориальном комплексе Стальено, потому что это неописуемое собрание прекрасных мраморных надгробий-статуй.
Он расположен на склоне холма площадью в квадратный километр. Тут шестьдесят тысяч могил и на каждой – мраморное надгробие, скульптура.
Здесь побывали Ги де Мопасан, Антон Чехов, Фридрих Ницше, Марк Твен и множество других великих людей планеты.
У меня нет таланта, чтобы описать здешние скульптуры. Их надо видеть, постоять около них, подумать.
Расскажу только об одной из них. Я наткнулся на нее случайно.
На своей могиле полулежит солдат в итальянской военной форме. На шинели и шапке искусно создан мраморный снег. Текст сообщает, что этот итальянский воин погиб в России во Второй мировой войне.
* * *
Лучше дважды спросить, чем один раз напутать.
Шолом Алейхем.
Теплоход, как одинокий странник, неторопливо шел по пустынному морю к родным берегам. Впереди – Мраморное море. Позади – Тунис, портовый город Сфакс. По величине он – второй в своей стране. В нем живет около трехсот тысяч человек.
Тунис в свое время принадлежал Франции. Мы ходили по улицам Сфакса и убеждались – колонизаторы ударно поработали здесь, чтобы оставить после себя неплохое наследие.
Широкие улицы, застроенные современными зданиями и усаженные пальмами. Виллы, одна другой необычнее.
А неподалеку – восточный базар. Это не традиционная площадь. Это улицы в древнем городе. Если два человека раскинут руки. – получится ширина базарной улицы. И что только на ней не умещается! Тут ремесленники чеканят прелестные украшения. Торговцы раскинули свой товар – от инструментов, упряжи, орудий для обработки земли, домашней утвари, платков, бурнусов до изделий из золота, серебра, сделанных искусными руками.
Неторопливо движется толпа покупателей и зевак. Вместе с ними протискиваются и ослы.
У меня было предубеждение. Я ужасно боялся заразиться в такой плотно сжатой толпе трахомой, проказой или еще черт знает какой нечистью.
Арабы взмахивали руками, кромка бурнуса скользила по моему лицу и я с ужасом представлял себе, как мириады микробов впиваются в мою кожу и оставляют на ней неизлечимую заразу.
Однажды, когда я уже работал в другой газете, мне пришлось побывать в районе лепрозория – единственного на большой регион. Там местные жители понарасказывали мне столько ужасов, что их историй мне хватило на всю жизнь.
А тут я оказался в части света, где проказа не изолирована в специальной лечебнице, а разгуливает себе в рыночной толпе.
Вечером, когда мы вернулись на корабль, я поспешил к доктору:
– У вас есть какая-нибудь карболка?
– Что случилось?
– Я был сегодня на восточном базаре. Боюсь заразиться…
Доктор улыбнулся:
– Мы все ходим на восточные базары. Никто еще не заразился, – но пошел все-таки греметь своими банками и склянками.
Как вы понимаете, зловредные микробы меня тоже не достали.
Мы благополучно вышли из Сфакса. Нас немного потрепал шторм в Средиземном море и вот теперь наше судно входит в канал Босфор.
Он невелик, этот канал. Всего тридцать километров. Очень оживлен. Туда и обратно движутся большие корабли, остальное пространство занято неисчислимым множеством лодок – турки ловят на удочку рыбу. Я пытался в бинокль рассмотреть, что они вытаскивают из воды, ничего разглядеть не удалось. Скорее всего, это были кефаль, бычки или еще что-то, прижившееся в канале.
На Босфоре очень интересно. По обоим берегам – Стамбул, бывший Константинополь. Всюду минареты и город, взбирающийся на возвышенности.
У входа в пролив видны боны – плавучие заграждения. Они служат защитой от вражеских кораблей. Но мы люди мирные, торгаши. Беспрепятственно входим в Черное море и берем курс в сторону болгарского города Варна.
Надо сказать, что с этим городом я был уже знаком. Правда, заочно.
Когда в железном занавесе проковыряли малюсенькую дырочку, в социалистические страны стали выпускать по большому отбору наших людей. В их число попал и мой тесть. У него были все данные “за”. Фронтовик, орденоносец, воевал в Латышской дивизии. Мастер на производстве – заслуженный мастер республики. В порочащих связях замечен не был и т. д. по известному фильму.
Где его только ни утверждали для этой поездки – на парткоме, бюро райкома парти, всяких комиссиях. Всю группу, отправляющуюся за рубеж в болгарский город Варну, специально инструктировали: руками с тарелок не хватать – для этого есть вилка, с ножа не есть, не чавкать и не рыгать, громко не разговаривать, уступать дорогу женщинам… Не на хутор к тетке Матрене едете – в Европу. Родину представлять будете.
Съездили они благополучно. Когда вернулись, набилась полная квартира народа – родственники, соседи, друзья, сослуживцы…
– Какая она, заграница? Что они там едят, во что одеваются? Какие товары в магазинах? Велики ли очереди?..
Теперь вот я вслед за тестем плыву: какая она, заграница, в той Варне?
О, это очень древний и многострадальный город. Его знали еще в шестом веке до нашей эры как греческую колонию. Правда, под именем Одесос. Но стоял он, все-таки, на реке Варна.
После греков поселение попало в зависимость к Македонии, затем – к Римской империи. Но и этого оказалось мало. Варна еще была завоевана Османской империей, взята запорожскими казаками, отбита у них турками.
И только в 1878 году окончательно освобождена от турок русскими войсками.
Теперь Варна славится, как европейский курорт, третий по величине в Болгарии город с населением в 350 тысяч человек.
* * *
Целься в луну! Даже если промахнешься, окажешься среди звезд.
Игорь Муравский.
На причале мне рассказали, что здесь, в Варне, есть то ли пароходство, то ли министерство морского флота Болгарии.
– Может быть, у них и газета есть для моряков? – подумал я и решил пойти на разведку.
Газета, действительно, была. Возглавляла ее молодая женщина невиданной красоты. Звали ее Стоянка Савова.
Представился. Сказал, кто я и откуда. Редактриса была сильно удивлена – такой неожиданный гость. Она тут же сказала сотрудникам, что на сегодня рабочий день окончен. Достала фрукты, коньяк и мы затеяли бесконечный разговор о наших редакциях, газетах, журналистике и журналистских нравах в каждой из наших стран.
Улучив момент, я все-таки спросил, где в Болгарии производят таких красивых женщин. Стоянка расхохоталась и сказала:
– Там, где найдется один турок и одна болгарка. Смешанные браки здесь распространены и потому у нас в стране много красавиц.
День незаметно перешел в ночь. Мы выпили на посошок, распрощались и я отправился на свой теплоход.
Утром мне передали, что меня ждут у трапа. Я подошел, увидел Стоянку.
– Что-то случилось?
– Не беспокойся, все в порядке. Я пришла по поручению журналистов нашего города. Мы решили устроить в твою честь прием. Сегодня. И вот мы все просим тебя придти на эту встречу.
Я растерялся.
– Понимаешь, – сказал я смущенно, – у нас действуют особые правила. Мы не можем просто так покидать корабль…
– Я знаю, – ответила Стоянка. – Но мы же дружественная страна. Здесь тебе ничто не угрожает.
– Да не от меня это зависит. – Я помолчал. Подумал. – У меня есть идея. Не знаю, понравится ли она тебе…
– Говори!
– Давай пригласим капитана. И тогда никаких проблем не будет.
– Давай, давай! Нашим коллегам будет интересно.
Мы пошли к мастеру.
Увидев в дверях женщину, он юркнул в спальню и оттуда спросил:
– Это что за визит прекрасной дамы?
– Капитан, – отозвался я. – У нас проблема.
– Что за проблема?
– Эта дама – редактор газеты для болгарских моряков. Ее зовут Стоянка Савова. Она пришла к нам по поручению журналистов города Варна.
– Чем мы заслужили такое внимание?
– На вашем судне прибыл в наш город коллега из Латвии, – вступила в разговор Стоянка. – Это заметное событие. Я и мои коллеги устраиваем сегодня прием в честь Ильи…
– Но ему не просто покинуть судно.
– Вы не дослушали, капитан. Мы хотели бы, чтобы на этом приеме присутствовали и вы. Как опытный моряк и старший товарищ нашего коллеги. Как ваше мнение? Вы согласны?
– Не только согласен, но и готов, – мастер показался в дверях. Стройный, седовласый моряк в хорошо подогнанном костюме, сияющий золотыми шевронами.
Он поцеловал руку Стоянке и спросил:
– Когда мы должны идти?
– Через час-полтора.
– Ну, и хорошо. Сейчас попьем кофе, походим по судну – так и время пройдет.
* * *
Женщины творят историю, хотя история запоминает лишь имена мужчин.
Генрих Гейне.
Неожиданно обнаружилось, что в Варне работает много журналистов.
Стол в ресторане бы длинный и за ним – ни одного свободного места.
Как положено, вначале были тосты, бокалы, а затем банкет перерос в привычную журналистскую вечеринку вперемешку с пресс-конференцией. Болгар интересовало многое из жизни наших редакций – гонорар, цензура, вмешательство партии в содержание газет, права журналистов…
Кто-то сказал:
– Все ваши газеты похожи на газету “Правда”. Почему?
– Я побывал в полутора десятках стран. Всюду я обращал внимание по профессиональной привычке на газеты, разложенные в киосках. И, знаете, в каждой стране газеты по своему одинаковые. К этому стилю привык народ и журналисты отвечают на его запрос. Вот, например, в Москве продают “Юманите”. Люди покупают ее как заграничный товар – она не наша по своему внешнему виду.
Я старался правдиво отвечать на вопросы коллег – о хорошем и плохом.
– Теперь о “правдоподобности” советских изданий. Вы знаете, “Правда” – главная партийная и государственная газета Советского Союза. Действительно, наши издания не столько внешне, сколько по содержанию напоминают ее. Поверьте, в этом чаще всего виновата не пишущая братия, а редакторы и чаще всего отделы пропаганды партийных комитетов. Они требуют идти в кильватере за главным изданием ЦК.
– У вас тема войны преобладает над всеми другими темами. Это пропаганда или это ваша идеология?
Я ответил, что мне отвратительна бесстыдная пропаганда. Намеренно искаженные и вводящие в заблуждение идеи, информация, факты. Я этим не занимаюсь. Но тема войны особая. Очень чувствительная тема. Погибло много людей. Разрушены города и деревни. В стране много сирот, бездомных и калек. Уничтожены заводы. Нет запасов зерна. Люди голодают. На предприятиях, которые уцелели, некому работать – погибли миллионы молодых, сильных людей, чьи станки пустуют.
Это все – война. Люди проклинают ее и ждут лучших времен. Но они, эти времена, не приходят или приходят очень медленно. Зреет разочарование. Оно может подняться до точки кипения и тогда к людям явится новое горе.
И тут на помощь приходит, как вы говорите, пропаганда. Идеологи сказали: мы все вытерпим, лишь бы не было войны. А дальше поэты и композиторы сочинили песни: “Лишь бы не было войны”. Они стали популярными.
Люди, как молитву повторяя “лишь бы не было войны”, забывают, что ложатся спать голодные, что ходят в обносках, что не хватает денег на конфету ребенку.
Теперь я спрошу моих коллег: есть ли у вас другое решение? В условиях, когда после войны прошло слишком мало лет. Когда не восстановлено полностью предвоенное производство, истощены материальные и финансовые ресурсы государства? Что делать? Забыть о причине наших несчастий – войне? Или каждое упоминание о ней называть пропагандой?
…Пока народ спорил о войне и мире, я заметил, что мой капитан слишком усердно нажимает на алкоголь – очевидно, почувствовал себя одиноким среди легких на язык журналистов.
– Коллеги! – сказал я. – Среди нас есть человек из другого мира. Он не журналист. Он опытный капитан, переживший многое, в том числе и войну. Спросите у него, что вас интересует.
Тут же поднялась рука:
– Скажите, капитан, как вам живется в Советском Союзе?
– Если говорить откровенно, – плохо живется…
У меня все помертвело. Не дай бог такому заявлению появиться в зарубежной прессе, – что с мастером сделают…
Я встал, засмеялся и громко сказал:
– Наш капитан – большой шутник. Это, конечно нравится нашей кают-компании. Любопытно, что он имел в виду? – повернулся я к мастеру.
– А вам жилось бы хорошо? Вот, посмотрите. Мы были в рейсе, далеко от дома. И получаю я радиограмму от жены: “У нас украли машину”. Ну, каково? Несколько месяцев назад я купил хорошую машину – “Волгу”. Не успел на ней поездить – ушел в рейс. И тут сюрприз! Разве вам понравилось бы жить в такой стране, где у заслуженного капитана машину воруют?
Знаете, что я ей ответил? “Немедленно пойди и купи новую машину. И смотри, чтобы к моему приходу ее не украли.”
Банкет дружно хохотал. Капитан незаметно кивнул мне благодарно.
…Домой, на корабль мы добирались с некоторыми трудностями. Ресторан находился недалеко от порта, но капитан успел выпить больше, чем мог выдержать его организм. Поэтому большую часть пути он проделал на моей спине. Время от времени оттуда раздавалось бормотание:
– Завтра пойдем к Стоянке…
– Завтра у нас отход, – урезонивал я, – к Стоянке зайдете в следующий раз.
* * *
Цените моменты до того,
Как они станут воспоминаниями.
Владимир Фролов.
Позвонил мне знакомый капитан:
– Через два дня мы уходим в Бразилию. На твою родину, в Рио-де-Жанейро. Везем туда первую в истории выставку о Советском Союзе. Пошли с нами. Увидишь все своими глазами. Может быть, первый и последний раз. Пошли! Место для тебя в судовой роли обеспечим.
Я полетел к шефу, как на крыльях:
– Такой случай! Разрешите сходить в рейс.
– А кто в лавке останется? Кто газету будет делать?
– Как всегда, я буду работать над номером вместе со всеми. Я же каждый раз передаю по радио материалы в номер…
– Нет, я на это пойти не могу.
– Тогда дайте мне отпуск.
– Сколько времени займет рейс?
– Месяца полтора-два…
– А отпуск у тебя – только один месяц.
– Тогда добавьте мне отпуск за мой счет.
– Нет. Кто в лавке останется?
Я понял, что из этой затеи ничего не получится.
Через несколько минут я зашел в кабинет редактора, положил на стол заявление об увольнении по собственному желанию.
– Это серьезно?
– Да, серьезно. Рейс в Рио-де-Жанейро для меня жизненно важен.
…На следующий день я пошел к редактору молодежной газеты:
– Не найдется ли у вас места для журналиста?
– А вы кто?
Я назвал себя. Рассказал о себе, почему ушел из морской газеты.
– Я вас знаю, – сказал редактор. – Читал ваши материалы. Кстати, я сам в прошлом моряк, служил на военном флоте.
Теперь о вас. Не хотели бы потрудиться в отделе рабочей молодежи?
– Что это такое?
– Экономика, производственные проблемы. Желательно с учетом молодежной специфики.
– Почему бы нет? Мне кажется, это интересно.
– Тогда добро пожаловать на борт. С завтрашнего дня вы будете заведующим отделом рабочей молодежи нашей редакции.
Я не подал вида, что шокирован. Так сразу, и заведующим отделом крупной газеты!
Это был новый поворот судьбы.


