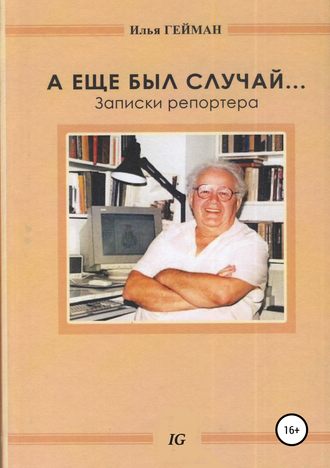
Илья Борисович Гейман
А еще был случай… Записки репортера
Жив остался я.
В Улан-Удэ пересадка. Отсюда нам предстояло на самолете перелететь Байкал и там нас ждала последняя остановка.
Аэропорт сообщил: до следующего дня нашего самолёта не будет. Мы – свободны.
В городе особых достопримечательностей не было. Много пыли и мух. Предстояло скучное время.
К счастью, мы разузнали, что в нескольких десятках километров от Улан-Удэ есть крупнейший в стране дацан – буддийский монастырь.
С буддийской религией мы знакомы не были. Поэтому информация об Иволгинском дацане нас заинтересовала. Тем более, что слово “дацан” я слышал впервые в жизни и не мог себе представить, что это такое.
Теперь я знаю, что это религиозно-философское учение буддизм возникло в первом тысячелетии до нашей эры в древней Индии. Его основатель получил имя Будда Шакьямуни. На нашей планете живет 450–500 миллионов буддистов. Их монахов – один миллион. Немало.
Мы взяли такси и отправились в степь.
А там, окруженный забором, стоял городок. Мы вошли внутрь и нам открылся великолепный храм-дуган – яркий, построенный в восточном стиле. Вдоль забора по всей окружности стояли небольшие строения – очевидно, жилища монахов. Они ходили по дацану в ярких оранжевых одеяниях.
Впервые я увидел буддийских монахов на аэродроме. Они встречали какую-то важную персону. Тот, кто впереди, держал в обеих руках стеклянную банку из-под овощных консервов. В ней несколько блеклых полевых цветов. За ним мелкими шагами двигалось довольно много монахов в оранжевом. На груди одного из них я разглядел медаль за участие в Отечественной войне.
Повсюду в дацане виднелись разные устройства для молитвы. Какие-то вертелки, доски для обращения к Будде, лежа на земле, что-то другое. Мы наблюдали, как буряты переходили от одного к другому и выполняли обряды.
Все они, мужчины и женщины, были кривоноги – от многолетней езды верхом на лошадях. И очень усердны.
Мы тоже пошли по их пути – вертели, притрагивались к молитвенным устройством. Попросили одного бурята рассказать нам о четках – их значении, как ими пользоваться. За несколько лет до этого я купил четки в соборе Парижской Богоматери в Париже, но они так и лежали без дела в письменном столе.
Вошли мы и в храм-дацан. Изнутри он оказался светлым, очень ярким, заполненным множеством предметов поклонения, вознесения молитв. Тут были фигуры Будды, разных зверей с ужасно ощерившейся пастью…
Для того чтобы все увидеть и хоть чуть-чуть понять, нужно было бы задержаться в дацане на несколько дней. Но у нас их не было.
Впереди нас ждал перелет над священным морем – Байкалом.
Древняя легенда, утверждает, будто в давние времена там, где нынче плещутся воды этого озера, жил суровый богатырь по имени Байкал с дочерью Ангарой, краше которой не было на свете.
Было у Байкала 336 сыновей. В черном теле держал их старик. День и ночь заставлял без устали трудиться. Сыновья топили снег и ледники и гнали хрустальную воду с гор в огромную котловину.
То, что они добывали тяжким трудом, проматывала сестра Ангара. Она растрачивала собранные богатства на наряды и разные прихоти.
Однажды прослышала Ангара от странствующих певцов о жившем за горами юном богатыре Енисее, о его красоте и силе. И полюбила его. Но суровый старик прочил ей иную судьбу, решив выдать замуж за старого богатого Иркута. Еще строже стал он стеречь дочь, спрятал ее в хрустальный дворец на дне подводного царства. Безутешно тосковала Ангара, плакала в подводной темнице, просила богов помочь.
Сжалились боги над пленницей, приказали ручьям и рекам размыть стены хрустального дворца, освободить Ангару. Вырвалась девушка на волю и бросилась бежать по узкому проходу в скалах.
Проснулся от шума Байкал, рассердился, бросился в погоню. Но где ему, старому, угнаться за молодой дочкой. Все дальше убегала Ангара от разъяренного отца. Тогда старик схватил каменную глыбу и метнул в беглянку, но не попал. Так и осталась с тех пор лежать эта глыба в месте выхода реки из озера, и зовут ее люди Шаманским Камнем.
Разбушевавшийся старик все кидал и кидал вслед беглянке обломки скал. Но чайки кричали каждый раз: “Обернись, Ангара, обернись!” И девушка ловко уклонялась от смертоносных отцовских посланцев.
Прибежала Ангара к Енисею, обняла его, и потекли они вместе к Студеному морю.
Легенда переплетается с былью. 336 сыновей Байкала – это притоки озера, большие и малые реки, собирающие свои воды с территории более 550 тысяч квадратных километров, что примерно равно площади Франции.
Вытекает же из озера только река Ангара – могучая, шириной около километра.
* * *
Слово стало дряблым. Оторвалось от корня и увяло, как сорванная трава. Раньше человек говорил: “Я тебе голову оторву!” – шел и отрывал. Говорил: “Жизнь за тебя отдам!” – отдавал. А теперь говорит: “Я тебя люблю!”, а нет даже уверенности, что он тебя хотя бы до дома проводит.
Дмитрий Емец.
Наш лагерь располагался поблизости от Байкала на его Северном берегу.
Мы не застали там непроходимую тайгу. Те, кто прибыли сюда раньше нас, успели ее расчистить. Поставили большие солдатские палатки, кровати. Столовую. В общем, для начала обустроились.
Наши ребята тут же принялись налаживать и свой быт. В первую очередь поставили палатки. Они настолько велики, что нуждаются в двух печах-буржуйках. Ночью около них находится обязательный дневальный. Потому что шутки с огнем тут смертельно опасны – палатки сгорают за одиннадцать минут. Поди, спасись.
Нам, временно приезжим, выделили собственный балок. Приличное жилье. Номер люкс.
В лагере сухой закон. Алкоголь купить негде. Тайга. Так что нет и неконтролируемого поведения, и конфуза со старушкой на нижней полке.
Правда, извечные отношения между мужчиной и женщиной никогда не исчезнут. Зарождалась любовь, а с ней и ревность, соперничество, вражда и ненависть. Но решались они известным даже нашим праотцам способом – сунули разок-другой кулаком по физиономии, и успокоились.
В таежном поселке есть и танцы – в специальной палатке. Клубе. Можно не сомневаться, что скоро здесь появятся молодые семьи и потребуется палатка для детских яслей.
В отдалении расположился лагерь харьковских метростроевцев. Это гвардия строителей магистрали. Они – на самом трудном и опасном участке БАМа.
У них уже есть своя медицина, почта.
На их плечи легла одна из сложнейших задач – вместе с горняками из других районов страны они пробивали железнодорожный тоннель через Северомуйский хребет. Когда его пустили в эксплуатацию, он стал самым длинным тоннелем в России. Его протяженность 15343 метра. Строили этот тоннель около пяти тысяч человек. Из них более двух тысяч работали под землёй. На их пути встречались плывуны, токсичные разломы. Из их щелей текла вода, часто горячая, как кипяток. Возникал радиоактивный газ повышенной концентрации.
А горняки продолжали штурмовать хребет с обоих концов. Пока тяжеловесные поезда не пошли напрямик по БАМу.
Наши ребята строили деревянные мосты для инфраструктуры магистрали. Пока тянули железную дорогу, вокруг шла своим чередом жизнь – подвозили по вспомогательным дорогам материалы, питание, воду, доставляли на работу и развозили по домам людей. А чтобы дороги действовали, нужны были мосты, переходы через речки, овраги и другие непроходимые места.
Наши добровольцы валили тайгу, на собственной лесопилке готовили бревна и доски для строительства мостов.
На этой почве произошла одна забавная история.
На севере Байкала, где возникали палаточный поселения, власти решили открыть отделение милиции. Пока суд да дело, туда приехали на жительство два милицейских полковника.
Мы гадали, что они собираются делать, если на сотни километров вокруг нет ни одного стража порядка. Которым можно было бы командовать.
Потом решили: их под предлогом организация отдела милиции прислали на БАМ доживать до пенсии с хорошими окладами жалования.
Но пока ещё доживать было не так просто.
Надвигалась зима. Без дровишек ее не переживешь. А подчиненных, которым можно приказать подвезти дровишек, нет. Приходится всё делать самому. А где силенок набраться? Дело-то предпенсионное.
Дежурные мостовиков засекли такую картину: два пожилых полковника в сумерках электропилой отекают хвосты бревен и закапывают их тут же.
Фишка вот в чём. На пилораме готовят балки, доски для определенных видов строительных работ. На их концах оставляют ровные площадки и пишут на них номер будущей деревянной детали. Для быстрой сборки.
Наши бравые полковники приспособились таскать с лесопилки под покровом темноты готовые бревна. Чтобы замести следы, спиливали разметки и складывали «дровишки» на зиму.
Начальник мостостроительного поезда спросил у нас совета. Ситуация пикантная, что ему делать? Жаловаться?
Мы сказали, что жаловаться на них – себе дороже. Пока эти двое выбивались в полковники, они не одну судьбу сломали. Без труда обеспечат неприятности руководителям мостостроительного поезда. А вот сторожам эту историю рассказать надо. Пусть бдят и при случае стреляют солью в полковничьи задницы.
* * *
Грехи других судить
Вы так усердно рветесь —
Начните со своих
И до чужих не доберетесь.
Уильям Шекспир.
Холод усилился. В палатках начали топить. Но я всё-таки решил искупаться в Байкале – вряд ли когда-нибудь ещё сюда попаду.
Мы спустились с крутого берега. Я разделся, полез в воду. Очень холодно. Но мысль о том что я купаюсь ещё в одном море, согревала. Проплыл несколько метров, поспешил к берегу. Рисковать не стоило – на свете есть еще немало морей и океанов, куда я не нырял.
Ночью лагерь был поднят по тревоге. Невдалеке на взгорье горела тайга. Огонь был виден в городке добровольцев.
– Здесь наш дом, – сказал ребятам начальник мостопоезда. – Наш долг – беречь всё, что нас окружает. Надо идти и тушить тайгу. Кроме нас некому.
Отряд снялся с места и пошел с лопатами, топорами и ломами в руках навстречу огню.
Подоспели военные КрАЗы. Они двинулись, как таран, по мелколесью. Люди за ними. Когда приблизились к огню, рассыпались широким фронтом. К частью, огонь не полыхал, верхового жара ещё не было. Принялись рубить мелкий лес, создавать просеки, чтобы пожар не перекинулся дальше.
Огонь, наконец, увял.
Все пошли по домам.
Строительство мостов для БАМа продолжалось.
А мы уезжали домой. С магистрали, которую начали прокладывать еще до войны. Впрочем, в войне она поучаствовала тоже. Когда под Сталинградом было худо, на БАМе сняли рельсы и проложили из них так называемую рокадную дорогу. По ней в нашем тылу перебрасывали на нужное направление танки, пушки и бойцов. С помощью БАМа враг был разбит в городе на Волге.
На севере Байкала строительство магистрали только ещё разворачивалось, а я уже успел побывать на ее последним стыке. У порта Ванино. Там БАМ уже действовал и я как бы стал пассажиром-первопроходцем.
Теперь мой путь снова лежал в Ригу. К спокойной жизни.
* * *
Жизнь задыхается без цели.
Ф. Достоевский.
Увы, жизнь спокойной не получилась.
Моя младшая сестра Аня засобиралась за границу. Переполох в семье. Борису Григорьевичу жалко было отпускать дочь. И он, с другой стороны, не мог не беспокоиться, как к этому отнесутся в парткоме заводя ВЭФ, где он редактировал многотиражную газету.
Мама жила воспоминаниями о своей молодости. Говорила:
– Ты же пропадешь. Там капиталисты, тайная полиция. Ты будешь на них работать и жить бедно. А они богатеть. В тех странах очень много бедняков. Зачем тебе это надо?
Но дочь стояла на своём.
Мы пошли провожать ее на вокзал. Дело это было небезопасное. Тогда следили не только за теми, кто собирался "за бугор", но и их провожающими. Это считалось, если не преступлением, то уж точно враждебным проступком. В досье появлялась еще одна галочка.
Расставание было тяжким.
У вокзала в машине меня ждали мой друг с женой. Это был с их стороны смелый поступок. Очень смелый.
Помните того, который на всю жизнь зарёкся писать стихи? Так это был он.
Я захлопнул дверцу и разрыдался – тут было единственное место, где я мог отвести душу.
По правилам того времени я должен был рассказать о случившемся секретарю нашей партийной организации.
Тут же собрали партийное собрание, начали меня обсуждать. Хотя, если подумать, что обсуждать? Моя сестра – самостоятельной семейный человек. Я не мог ни разрешить и ни запретить ей что-либо делать. Или какие решения принимать.
Но таковы были тогда глубокомысленные правила.
Уж и не помню, кто о чём говорил, но надавали мне крепко. Как в старину старые большевики на комиссии по персональным делам кричали, что я пособник вражеским шпионам.
Даже промелькнула мысль, что из-за сестры меня надо исключить из партии и выгнать с работы. Но большинства не набрали и я отделался каким-то взысканием.
Но на этом дело не кончилось.
Ещё с комсомольских времён у меня сложились хорошие отношения с одним парнем. Он был секретарем горкома комсомола, а потом двинулся дальше.
Однажды мы поехали с ним на рыбалку на Чудское озеро. Эта забава делалась так. Егерь цеплял к своей лодке одну за другой посудины рыболовов и караван отплывал от берега на несколько километров – настолько велико это озеро. Когда приплывали на место, лодки расцеплялись, расходились в разные стороны и рыболовы принимались удить. Места были рыбные, клёв – отличный. Возвращаться домой не хотелось.
На этот раз мы стали цугом поздно вечером. Поплыли на базу.
Ветер развел чувствительную волну. Быстро потемнело. Караван двигался неторопливо. Вдали за камышами показались огоньки. Где-то там был берег.
И вдруг мы остановились. С лодки в лодку прокричали:
– Мотор сдох…
Ничего не оставалось делать. Только ждать.
Лодка вставала на волне чуть ли не вертикально. Мы цеплялись за неё – боялись оказаться за бортом. К сердцу подступал страх. Я прикидывал, хватит ли у меня сил доплыть до берега.
Человек, о котором я рассказываю, внешне был невозмутим. Он сказал:
– Не надо кукситься. Кто какой анекдот знает?
Начали рассказывать всякие истории. Болтающиеся на крутой волне лодки больше не пугали. Мысли о том, что можем утонуть, испарились.
А тут и караван тронулся. Мотор исправили. Он дотащил нас до базы. Мой товарищ сел за руль машины и мы поехали домой, как будто у водителя не было пережитого страха.
К тому времени, когда меня терзали за сестру, он уже работал первым секретарем райкома партии. И как раз в том районе, где находилась моя редакция.
Наш ретивый парторг, не удовлетворенный итогами собрания, побежал согласовывать в райком. Попал на приём к первому секретарю.
Тот выслушал, посмотрел протокол собрания, сказал:
– Оставьте его в покое. Я знаю Геймана больше, чем вы и ваши ораторы. Этот человек не заслуживает такого обращения. И пусть он спокойно работает.
Но парторгу этого было мало. Он пошёл в КГБ. К моему счастью, там ему сказали то же самое.
Вроде бы от меня отцепились.
В атмосфере носилась какая-то тревога. Всё длиннее становились очереди в магазинах, всё меньше еды.
Люди чаще выражали свое недовольство черт знает чем – то ли властью, то ли КГБшниками, которые всё туже закручивали гайки. То ли чиновниками, у которых пустяковой справки не допросишься.
Позвонил мой хороший знакомый. Генерал. Главный прокурор военного округа.
– Помоги, если можешь…
– Что случилось?
– Вода из крана течёт, не закрывается. Боюсь, соседей залью.
– А домоуправление?
– Звонил. Не идут…
Позвонил в домоуправление я. Пристыдил. А те:
– Нам только разорваться остаётся! Все звонят…
– Так там вода течет…
– У всех течет.
– Смотрите, дело ваше. Он самый главный прокурор. Пришлёт наряд, арестуют и уголовное дело откроют.
Позвонил генерал:
– Спасибо Илья. Пришли. Всё исправили…
…У памятника Свободы в Риге облил себя керосином и поджег студент университета. Он против чего-то протестовал. Мне сказали: очень способный математик. Слава богу, пламя сбили, спасли парня. Позволили ему уехать в Израиль.
Отшумело "самолетное дело" – группа добропорядочных людей купила билеты на один и тот же рейс. Планировали в пути захватить самолет и улететь за границу подальше от всех советских неурядиц. К несчастью, сорвалось. Люди пошли в лагеря.
Закончилась пятилетка великих похорон. Появился новый генсек Михаил Горбачев. Мы, журналисты, с его появлением воспряли: для начала он заметил «Правде», что не обязательно цитировать его по любому поводу. Надо жить своим умом.
Но позже, когда начался словесный понос, борьба с алкоголизмом и людей стали хватать всех подряд и допрашивать, почему они в кинотеатре, а не на работе, мы заметно остыли. Тем более, что в бесконечных речах нового вождя никакой реальной программы для обнищавшей страны не просматривалось.
Я понял, что пора уезжать. Рано или поздно они меня сожрут. Тем более, что наш фотокорреспондент шёпотом рассказал: с ним говорили люди из органов. Спрашивали, не ходят ли ко мне в редакцию военные? И ведь не зря. Был у меня друг – заведующий кафедрой военного училища, полковник. Он нередко приходил в редакцию поговорить за жизнь.
Атмосфера развала государственной системы сгущалась.
Как-то я выглянул в окно, увидел – у входа в Дом печати стояла группа людей с плакатами, явно враждебно настроенная против нас, журналистов. На душе стало муторно.
Пошел на митинг – посмотреть, что происходит. Митинг националистический. Толпа. На сцене в стороне от группы ораторов две девочки 12–13 лет взялись за руки и восторженно подпрыгивают. Чему они радуются?
Я понимаю взрослых. Кто-то из них годами переживал несвободу своей нации, или, как они считали, оккупацию своей страны. Другие, как мой бывший коллега наборщик, не мог простить отнятого многоквартирного дома. Но дети? Им то чего не хватало? Свободы? Возможности получить образование? Танцулек? Любви?
Встретил там, на митинге, хорошую знакомую, ведущего психиатра города.
– А вы что здесь делаете? Русская женщина? – с удивлением спросил я.
– Да вот пришла посмотреть на своих пациентов.
– Здесь?
– Именно здесь. Мои пациенты, если их состояние не угрожает обществу, живут не в клинике, а дома. Обычно это тихие люди. Они не любят обращать на себя внимание.
Но вот в таких ситуациях, как сейчас, когда толпой собираются возбужденные люди, наши пациенты как бы пробуждаются, идут в массы и ведут себя сверхактивно, кричат громче всех.
Я и сейчас их вижу. И их тут немало.
* * *
Чтобы спасти тонущего, недостаточно протянуть руку – надо, чтобы он в ответ подал свою.
Михаил Жванецкий.
Работала у нас в редакции одна девушка. Мы с ней нередко разговаривали на «скользкие» темы, когда рядом не было чужих ушей. На этот раз она спросила:
– Пришёл Горбачёв. Что будет?
– Если судить по его поведению, он болезненно честолюбивый человек. Суетится, выступает где надо и не надо. Говорит общие слова, без целеустремленной программы. Явно хочет вписать себя в историю. Сегодня это очень трудно сделать. Что оставили после себя все последние вожди? Анекдоты?
– Он себя впишет?
– Я думаю, впишет. Кто в России вошел в историю по большому счёту? Петр 1 – он преобразил страну. Ленин – он сокрушил капитализм, передал средства производства народу. Провозгласил социализм.
Как можно вписать себя в историю сегодня? Уничтожить то, что сделал Ленин. Встать рядом с ним с обратным знаком.
Вот чем и занят сейчас Горбачев. Похоже, это ему удастся.
И, действительно, на заседании актива в ЦК я слушал выступление одного из соратников нового генсека. Он прямо сказал: союзные республики должны брать столько свободы, сколько смогут унести.
Это не свобода для пляшущих девочек на митинге. Каждая республика унесет, сколько сможет, и порвет экономические связи, уничтожит структуру современного производства огромной страны. Наступит коллапс экономики, хаос.
Посмотрим как будет на самом деле.
* * *
Молчанье – щит от многих бед,
А болтовня всегда во вред.
Язык у человека мал,
А сколько жизней он сломал.
Омар Хайям.
О том, что надо при первой возможности уезжать из разваливающийся страны, думал не только я.
Пришёл ко мне попрощаться один наш парень. Я ему как-то помог с дипломом – он учился на журфаке Московского университета. Его отъезд представлял собой интерес своим остроумием.
Был у него тесть. Мне кажется, работал он директором комиссионного магазина. Человек при деньгах.
Уезжая, они не стали хитрить. Прятать золото в немыслимых местах, скупать доллары и потом не знать что с ними делать. Директор магазина просто-напросто купил у талантливого химика патент на производство ультрасовременного средства от пота.
Ехали они в Израиль. В страну с горячим климатом. Там очень потеют. Кстати, так же потеют и в окружающих странах Средиземноморья. Так что хорошее средство от пота – бесценная находка.
Через таможню эта семья, ехавшая налегке, прошла свободно. В Израиле они для начала стали использовать патент в домашних примитивных условиях. В дело пошла кухонная посуда. А кончилось все современной фабрикой и заказами на их изделия из стран, где солнце печёт посильнее обычного.
Со времен моей работы в газете для моряков, был у меня знакомый с очень исковерканной судьбой.
Когда началась Отечественная война, его судно стояло в Гамбурге. В соответствии с двумя международными конвенциями команда была интернирована. Подчеркиваю: не взята в плен. Помещена в лагерь для интернированных. Там под контролем Красного Креста им обеспечили сносные условия. Мой знакомый был помещен вместе с французами. За годы изоляции он настолько хорошо изучил их язык, что его принимали за настоящего француза.
Но вот закончилась война. Он вернулся в Латвию. Прошёл всякие проверки, фильтры, но доверия не получил. Помытарился, пока не нашел работу преподавателя в профтехучилище. А море тянуло к себе. Обивал всякие пороги, пока чиновники всех уровней не поняли: он свой, нет у него ничего враждебного.
Получил паспорт моряка, пошёл в море. Дослужился до чина старпома большого корабля. Стал плавать на французской линии.
И всё бы хорошо, да потянуло его семью в Израиль. Благо, в то время многие подались за границу.
Отнесли документы куда надо. Из пароходства его немедленно уволили. На работу нигде не принимали. Ходил моряк, которому не страшны были ни штормы, ни ураганы, как потерянный.
Спасибо доброму человеку – научил его переплетать книги и устроил переплетчиком.
Уехал всё-таки моряк в свой Израиль. Дальнейшую его судьбу я не знал, но был уверен, что он снова вывел в море океанский корабль.
Оговорюсь. Когда судно выходит в море, лебедки, которые используют на грузовых операциях, укладывают на палубу, чтобы их не разворошило во время шторма.
Только моряки двух стран – США и Израиля – не опускают лебедок и лихо ходят в любую погоду. Словно парень, надевший для форса кепку набекрень.
* * *
Вылечив подбитое крыло коршуна, становишься ответственным за его когти.
Виктор Гюго.
Дело было рутинное. Арестовали человека. Завели на него уголовное дело. Открыли следствие. Человек тот был известный хозяйственник. Известный своими делами – бесспорно полезными, но не всегда прозрачными. Для пользы дела он готов был пойти на риск и в этом месте был уязвим. За ним числилось много хорошего, полезного для города и горожан. Но тянулись и претензии ревизоров, которые обвиняли этого человека в слишком дерзких манипуляциях с деньгами, ассигнованными подчиненной ему отрасли. Заметьте, не в воровстве денег, а в слишком смелом обращении с ними.
Таким образом, человек сидел в тюремной камере, следствие двигалось своим чередом, приближался суд. Однако, у коллег, родственников, друзей обвиняемого вызывало сильную тревогу стремление следствия приписать человеку те преступления, которые он не совершал, исказитъ факты – натянуть, как говорится, шкурку на киселе.
Узнал я об этом уголовном деле, заинтересовался. На мою удачу в Риге в те дни находилась адвокатесса – защитница подследственного. Я встретился с ней. Мы оба не пожалели времени, попытались получше разобраться в уголовном деле. После этого я встретился со следователем. Разговор у нас получился долгим, нелегким. Записывался он на мой магнитофон.
В итоге статья была написана. Получилась она достаточно аргументированной, критичной, направленной против прокуратуры, против следователя. Был соблюден и мой личный принцип: при написании критического материала расходовать не всю собранную фактуру. Оставлять ее часть на случай, если последует опровержение и придется выступать в газете по этой теме вторично. Иными словами, за будущее я был спокоен.
Вооруженный до зубов, понес я свой очерк редактору. Волновался, конечно.
Время тогда было неспокойное, на переломе эпох. В Риге проходили митинги, в лифтах Дома печати куда-то ездили люди с автоматами. Я рассказываю об этом, чтобы понятней стало, что происходило позже.
Итак, принес я редактору свой большой по объему очерк. Кстати, редактор был бывшим моим студентом. Он тут же взялся его читать, а я вжался в кресло, ожидая приговора. И не зря. Редактор прочел материал, положил его перед собой, задумался. Потом посмотрел на меня с сожалением и сказал:
– Извини, но печатать это мы не будем.
– Почему? – спросил я. – Достоверность подкреплена документами и магнитофонной записью. Да ты и без того знаешь, как я страхуюсь.
– Дело не в том, – редактор помолчал. – Скажу тебе откровенно: я боюсь. Ты же видишь, какое сейчас время…
Я попытался надавить, но увидел: ничего из этого не выйдет, очерк уйдет в корзину.
Пошел я к себе в кабинет ужасно расстроенный. Беспокоился не за себя, не за свою напрасную работу. Мне стыдно было перед людьми, с которыми я беседовал при подготовке статьи и у которых я пробудил надежды.
Посидел я посидел, и тут неожиданно подумал: надо зайти к Блинову. Если и он откажет – значит, я сделал все от меня зависящее и дальнейшее будет выше моих сил.
К счастью, редактор “Советской молодежи” был на месте. Я откровенно рассказал ему обо всем, что со мной произошло: об очерке, о его герое, об отношении к материалу моего редактора, о его боязни печатать статью.
Блинов взял рукопись, подумал и сказал:
– Я прочту сейчас. Поговорим позже.
Я сидел в своем кабинете, как на раскаленной сковороде. Наконец, мне позвонили:
– Вас просит к себе наш редактор…
Саша держал в руках мою рукопись. Посмотрел на меня, сказал деловито:
– Подумайте, как поделить это на две части. Объем большой в один номер не поместить. – Снова посмотрел на меня – мне показалось лукаво – и добавил:
– Очерк ставим сегодня. Переверстываем номер.
Если кто-то из читателей решил, что наступила, наконец, счастливая развязка, – не спешите закрывать книгу.
…Я проболтался в “молодежке” до ночи, пока не подписали номер в печать – так я обычно “сторожу” прохождение моего материала. Утром по пути на свой этаж заехал в “Советскую молодежь”, развернул свежую газету и внутренне загордился: очерк выглядел солидным куском и, главное, стоял в полосе.
О следующем номере с окончанием моего материала беспокоиться было нечего: решение редактора выполнялось.
Весь день у меня в кабинете трещал телефон. Звонили сослуживцы арестанта, благодарили, спрашивали, о чем будет рассказано во второй части. Звонили мои знакомые, хвалили. Звонили люди, чем-то обиженные, просили защиты. И вдруг среди всех этих звонков раздался один неожиданный:
– Илья Борисович, Блинов просит зайти срочно!
В мозгу щелкнуло: пришло опровержение… В чем-то я все-таки прокололся…
Саша Блинов был спокоен – есть же у людей выдержка!
– У нас проблема, – сказал он. – Звонил прокурор республики. Интересовался, будет ли продолжение очерка. Я сказал, что в верстке следующего номера уже стоит окончание.
– А он?
– Он сказал, что окончания не будет. Он запрещает печатать что-либо из этой статьи.
– А ты? – с трудом выговорил я.
– Я спросил, как мы объясним читателям? Он ответил, что это наше дело объяснять, а не прокуратуры. Мне ничего не оставалось делать, как сказать ему, что указание прокурора будет выполнено.
– Саша, ну как же так? Люди не поймут, что за чушь мы печатаем! Без второй половины статьи бессмыслица получится.
– Не волнуйтесь, я тоже так думаю, – успокоил Блинов. – Я сказал прокурору, что мы снимем вторую часть из полосы, но для этого он должен прислать редакции письменное распоряжение. Материал мы снимем и оставим его пространство пустым. Это очень большое место на газетной странице. Чтобы читатель понял происшедшее, мы напечатаем на пустой, белой части полосы личное распоряжение прокурора.
– А он?
– Он молчал.
– А ты?
– Я сказал, что у нас работа над номером заканчивается в такое-то время. Если к тому сроку письменный запрет не будет получен, окончание статьи останется на своем месте.
– А он?
– А он помолчал и буркнул: “Ничего мы вам посылать не будем.”.
…Как догадывается читатель, верстка газеты нарушена не была, я получил свою порцию приятных телефонных звонков, а Саша Блинов продолжал редактировать “Молодежку” на радость журналистам разных поколений.
* * *
Если вам плюют в спину – значит, вы впереди!
Конфуций.
Встретились мы с приятелем, как договорились. В кафе – подальше от любопытных глаз и ушей. Он рассказал, что собирается уезжать из страны. Разрешение получил. Скоро в путь.
– Хочу посоветоваться, – сказал он. – У меня только одна профессия – журналист. И язык только один – русский. Как ими распорядиться? Не думаю, что там много газет на русском языке и рабочие места в них пустуют.
– Тогда открывай свою газету.
– А деньги? Богатый дядюшка меня там не ждёт.
– У меня на этот счет есть опыт. Для того, чтобы открыть газету, не так уж много денег и требуется.
– Но какие-то капвложения нужны?
– Конечно, нужны. Надо купить два компьютера. Не сверхновые, не накрученные. Один для набора, другой для верстки. Ещё деньги потребуются для типографии и реализации тиража. Но тут уже можно расплачиваться из выручки. Всё зависит от того, как ты изловчишься.
Посмотри, как я крутился. Мы с одним из сыновей тоже решили уезжать. В Америку. К моей младшей сестре. Но денег на подготовку и дорогу не было. Карманы пусты.
А тут как раз запреты сняли – можно открывать собственный бизнес. Газету, например. Правда, цензуру, главлит ещё не ликвидировали. Но он стал намного мягче.
Оставалась одна небольшая неприятность – не было денег. Ни шиша.
Поехал я в один город, там хорошо знал мэра. Попросил поручиться за меня перед местной типографией. Чтобы первый номер моей газеты отпечатали бесплатно на своей бумаге. В долг, конечно.
Потом объездил знакомых хозяйственников – попросил дать в газету рекламу. С ними договариваться было легче. Они видели, как все рушится. Всё превращается в ничто. Уже не надо было дрожать за копейку – она теперь неизвестно чья.
Словом, рекламы с многократным повторением я набрал достаточно. Да еще и с предоплатой.


