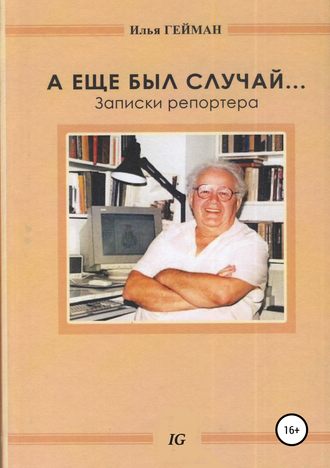
Илья Борисович Гейман
А еще был случай… Записки репортера
На следующий день у нас по программе был Лувр. Многие картины, скульптуры, помещенные здесь, мы видели на репродукциях, книжных иллюстрациях, и восхищались ими. И вдохновлялись. Теперь все это было перед нами в оригинале.
Я прошел анфиладу залов и задержался у Джоконды. Зал был небольшой, как бы созданный только для нее.
Я застыл у портрета, завороженный чуть заметной улыбкой Моны Лизы. Затем вспомнил, что писали о взгляде и стал двигаться, поражаясь, как Джоконда следил за мной неотступно.
Стоя перед, возможно, самым популярным шедевром живописи в мире, я размышлял, почему у этого полотна два имени: Джоконда и Мона Лиза. Лишь потом, через годы, узнал, что это просто две части одного имени. Полное название получится так: "Портрет госпожи Лизы дель Джокондо".
Слово Мона здесь появилось от итальянского ma donna – моя госпожа. А при сокращенном варианте – mona. Это слово есть в полном названии картины на итальянском языке.
Написанная где-то в начале 1500-х годов, она не перестает восхищать нас сегодня, через половину тысячелетия.
– Если будешь баловаться, отдам тебя дяде, – услышал я за спиной русскую речь.
Скосил взгляд. На скамейке среди зала сидела женщина с ребенком.
Я еще немного поманипулировал с Джокондой, потом обернулся, погладил девочку по голове:
– Не бойся. Дядя не злой. Но баловаться в музее не надо. Мама права.
Надо было видеть, как изумилась мать ребенка, неожиданно услышав русские слова в Лувре.
Примерно такая же ситуация случилась со мной несколькими годами раньше.
…Мы с приятелем заблудились в Антверпене. Ходили-ходили и потеряли ориентиры. Помнили: для начала надо найти Итальянский бульвар, затем зоопарк. Оттуда ходил автобус к нашему причалу.
В общем, ходили мы из улицы в улицу и все бестолку. И тут я увидел старушку. Она шла медленно, никуда не торопилась.
– Давай спросим у нее, – предложил я.
– Пошли, догоним.
– Не подскажете, как нам пройти к Итальянскому бульвару?
– Конечно. Вам надо пройти так и так. Там и будет бульвар.
Мы поблагодарили бабушку и поспешили по указанию. Прошли пару кварталов. Я неожиданно остановился и закричал:
– Ты заметил – мы говорили с ней по-русски?
– Давай догоним?
– Извините, мы сообразили, что говорили с вами по-русски. Вы из России?
– Да, из России, но очень давно.
Мы разговорились. Наша новая знакомая оказалась Евгенией Эрастовной Евреиновой. Из знаменитой российской семьи, насчитывавшей 27 дворянских родов.
В ходе русско-польской войны в 1655 году в плен были взяты два брата – Матвей и Федор иудейского происхождения. Позже они получили вольную, их крестили в православие.
Они дали начало знаменитой фамилии. В их роду были Статский советник, обер-прокурор, сенатор, губернатор, Тайный советник, архиепископ, юрист, купцы, шахматист, академик, режиссер и несколько генералов.
Есть любопытная деталь. На гербе клана Евреиновых среди прочего нарисованы шестиконечные звезды. Они ассоциируются с еврейским магендовидом. И тут же приходят на память мараны – испанские евреи, которые под нажимом приняли христианство, но оставались верными иудаизму.
С победой большевиков Евгения Эрастовна – еще ребенок – ушла с семьей в трудную эмиграцию. В итоге они оказались в Париже, где было уже триста тысяч русских. Научилась машинописи и проработала всю жизнь машинисткой.
– Теперь живете в Антверпене?
– Нет. Здесь живет мой знакомый. Он побывал в Санкт-Петербурге, по-вашему в Ленинграде. Я приехала посмотреть фотокарточки, которые он там сделал. Все-таки мое детство прошло в этом городе.
Мы долго прогуливались по улицам Антверпена. Рассказывали ей о своей жизни.
И поди ж ты, я на много десятков лет запомнил ее имя, хотя оно и не очень простое.
* * *
Жизнь слишком коротка, поэтому начинайте с десерта.
Барбра Стрейзенд.
К концу второго дня нас разделили на три группы. Одна поедет на север Франции, другая – на запад, третья – на юг. Я попал в эту группу.
На вокзале чемоданы снова сбились в табун. Мой – великан – гордо высился над своими собратьями. Ко многим чемоданам уже были привязаны пакеты и свертки. Их хозяева с завистью поглядывали на мой, в котором еще было достаточно места для следующих покупок.
…В Каркассоне – крупном городе на юге Франции – нас ожидал очередной прием. Были на нем руководители города, были прочувствованные речи… Но больше всего запал в память фуршет. Я вспоминал Ремарка, французских классиков – не так фабулы их произведений вспоминал, как названия напитков, которые употребляли их герои. Первым делом я поинтересовался у официанта кальвадосом. Напиток оказался неплохим, но наша водка, пожалуй, получше. Ко мне присоединились несколько человек из нашей группы и стали пробовать все подряд. Думаю, французы чрезвычайно поражались нашей застольной лихости.
Утром отоспались, начали собираться на экскурсию. Я вышел из номера и увидел странную картину – наша группа быстрым шагом торопится по своим комнатам. Похоже, чего-то испугались, разбегаются. Остановил одну девицу, спрашиваю:
– Куда все спешат, как на пожар?
– Там журналисты пришли…
– Какие журналисты?
– Французские.
– Ну и что?
– Наш руководитель куда-то ушел.
– Не понимаю…
– Его нет, а они будут задавать вопросы…
– Все равно не понимаю.
– Они будут задавать вопросы, а я боюсь отвечать.
– Почему?
– Они переврут, а меня больше за границу не пустят.
– Не бойся. Где наш толмач?
Нашли переводчицу. У нее, слава богу, крыша не поехала.
– Мы спустились на первый этаж. Из наших там никого не было. Посреди холла стояла группа французов и беспомощно оглядывалась. Мы с переводчицей подошли к ним.
– Нужна помощь, господа?
– Мы не знаем к кому обратиться.
– По какому вопросу?
– Мы журналисты. Хотели бы поговорить с руководителем вашей делегации.
– К сожалению, руководитель делегации сейчас отсутствует. Я компетентен по всем вопросам нашего визита во Францию. Кстати, я ваш коллега. Пойдемте, присядем и если это вас устроит, отвечу на все вопросы.
Когда мы сели в кресла, я сказал:
– Прежде, чем начнем разговор, хочу вас кое о чем попросить. Если вам будет что-то непонятно из моих ответов, спросите еще раз. Я не обижусь, если и десять раз спросите. Главное, чтобы в ваших публикациях сообщенные мною факты были реальные, точные.
А теперь спрашивайте.
Дальше пошли вопросы, обычные для подобных пресс-конференций. Что за делегация? Это правительственный проект? Это пропаганда? Кто в составе делегации? Высокопоставленные функционеры?
К этому времени испуг у многих моих попутчиков прошел. Они тоже пришли в холл. Я по одному начал показывать журналистам на них.
– В делегации молодые люди. Вот студентка, это школьница, старшие классы, вот инженер, доктор, чиновник, директор фабрики игрушек, бухгалтер… Можете с ними поговорить. Мы приехали, чтобы с французскими сверстниками праздновать юбилей нашей революции. Как мы видим, вашей молодежи это нравится.
На следующее утро ребята побежали и скупили свежие номера местных газет. Переводчица принялась пересказывать написанное. Все было точно, без вранья. Правда, они переврали мое имя – не знали, как написать по-французски. Но это не грех.
Впереди нас ждал Перпиньян. Была в нашей группе молоденькая и весьма миловидная девчонка. Этакий симпомпончик. Однажды я обратил внимание на ее фотоаппарат. Необычный и непривычный. Я уже много лет довольствовался ФЭДом с утопающим в корпус тубусом. Вынимал его из футляра, клал в боковой карман пиджака и никто не мог увидеть, что у меня с собой камера.
Я, как мои соотечественники, был набит разными предрассудками. Например, когда иностранец снимал у нас фотоаппаратом, сама собой появлялась тревожная мысль: шпион. И, действительно, на него набрасывались и волокли в кутузку.
Я был уверен, что то же самое происходит в любой стране. Поэтому во время странствий на кораблях по миру всегда возил с собой незаметный ФЭД. Снимал, соблюдая правила конспирации.
Как-то я спросил у девушки, что у нее за камера.
– Очень простая. Для поварихи…
– Почему для поварихи?
– А тут ни выдержку не надо ставить, ни на резкость наводить. Поднес к глазам, нашел натуру, кнопку нажал и готово.
– Напрасно ты про повариху… Очень хорошая камера. Удобная. Заграничная, наверное?
– Да, папка привез.
Я подумал, что наша девочка блатная. В Москве многие пытались затолкнуть в делегацию своих дочек и сынков. Им это удавалось.
"Наверное, папка дипломат", – подумал я.
Был в нашей группе еще один человек – работник Президиума Верховного Совета СССР. Ничем не выделялся, в активистах не ходил. Держался на периферии.
Так вот, этот парень из высоких инстанций завлек девчушку в тамбур и там зажал ее в углу с очевидными намерениями. Девчонка подергалась. У верховной власти силы оказалось побольше. Она пыталась оттолкнуться – бицепсы не те. Она, конечно, сказала ему что он дурак. Не проняло. Тогда она сказала, что сейчас закричит. Не проняло и на этот раз.
– Только попробуй рот открой – сразу на Колыму лес валить поедешь. Я не из Верховного Совета, а из КГБ. Так что давай по-хорошему.
– Это еще лучше. Когда придешь на работу, поднимись на третий этаж в такой-то кабинет. Там увидишь генерал-лейтенанта. Это мой папа. Ему и расскажешь, как ты хотел по-хорошему.
Ухажор слинял. До конца нашего турне он редко попадался нам на глаза.
В Перпиньяне мы попали в объятия этнографов. Этот город находится на самом юге Франции. В 31 километре от франко-испанской границы. Там, за рубежом, ближайший крупный испанский город Барселона. Каталония.
Прямо с колес мы оказались на этническом празднике. Юноши и девушки в национальных костюмах. Взрослые и пожилые тоже принарядились по народному.
– Это традиционная одежда каталанцев, – рассказал гид.
– Каталонцев, – опрометчиво поправил я.
– Нет, каталанцев, – настаивали они.
– Но Каталония находится в Испании. Барселона…
– Мы с ними один народ. Нас разделили в древности, когда каждый тянул в себе свою добычу. Нас, маленький осколок, потянула себе Франция. Но мы бережем свои традиции. У нас есть каталанский язык – диалект каталонского. У нас своя каталанская культура, даже пища каталанская.
И начался многочасовый красивый праздник. Танцы, песни, национальные угощения, рассказы о своих виноградниках, о родственниках, живущих по другую сторону границы.
Хозяева повезли нас на автобусах полюбоваться их цветущим краем, восточными Пиренеями.
– А ведь здесь рядом Испания! – воскликнул кто-то. – Хоть одним глазом взглянуть.
Сопровождающий о чем-то поговорил с водителем и повернулся к пассажирам:
– Сейчас поедем в Испанию.
– Как? – загалдел наш народ, – там же диктатор Франко, фашизм… Нас в тюрьму посадят…
– Не беспокойтесь. Вы генералиссимуса не интересуете. У нас с испанцами есть договор – для туристов льготный проезд.
В первом же небольшом городке мы все разбежались по магазинам и лавкам – покупать испанские сувениры. В первую очередь, конечно, кастаньеты. Их завез из Нового Света еще Христофор Колумб и с его легкой руки ни один танец в этой стране не обходится без кастаньет, отбивающих четкий ритм. Они, кстати, главный сувенир, который увозят с собой туристы.
И еще маракасы. Этот инструмент придумали индейцы на Антильских островах. Он как бы зажигает темперамент у танцоров.
Мы с такой жадностью набросились на эти диковинные поделки, что торговцы, наверное, свой план перевыполнили с лихвой.
Побродили по главной торговой улице городка, зашли в кафе. Там был небольшой зал и лестница на второй этаж.
Бросалась в глаза стена, на фоне которой шла лестница. Вся она была увешана портретами. Можно было полагать – оригиналами.
Я стоял и неторопливо переводил взгляд с портрета на портрет. И вдруг – стоп! Портрет Ильи Эренбурга. Замечательного писателя, книгами которого мы зачитывались в послесталинские годы.
Позвали хозяйку кафе. Она постаралась придти нам на помощь.
– Это портрет писателя Эренбурга?
– Я не знаю, кого пишут художники.
– А кто автор этой работы?
Хозяйка назвала, но или мы не разобрали ее испанский, или имя живописца было незнакомо.
– Вы купили этот портрет?
– Нет, это дар. Сюда любят приезжать художники. Красивая природа. Они тут работают. Когда уезжают, оставляют по традиции одно свое полотно для галереи. Наверное, для того, чтобы вернуться хотя бы еще раз. Такая примета. Портрет вашего писателя в мою коллекцию также передал один из наших гостей.
Взглянув на портрет напоследок, я отправился назад в город, который так любил Илья Эренбург.
* * *
Счастье следует просить у бога,
Мудрость – приобретать самому.
Марк Тулий Цезарь.
Мы снова в Париже. На этот раз в одном из городов Красного пояса нас принимали коммунисты.
В большом зале накрыты столы. За ними много гостей. Я подсел к одному французу. Мы кое-как разговорились. Я рассказал ему, что несколько лет назад был на юге Франции в портовом городе Сан Луи дю Рон. Там меня приняли в Ассоциацию франко-советской дружбы. Не в Советском Союзе приняли, а во Франции. У меня документ об этом есть.
Темпераментный француз похлопал меня радостно по плечу. Потом достал что-то и отдал мне.
– Это тебе от меня. На память.
Я посмотрел. В руках у меня был членский билет французской компартии.
– Это же портбилет! Его надо беречь, – всполошился я.
– Уже кончается год. Мне выдадут новый билет. Бери, это можно…
На обратном пути в гостиницу я разглядывал необычный подарок и вспомнил неприятную историю, которая произошла со мной недавно.
В редакции я имел партийное поручени – собирал членские взносы. У меня была круглая железная коробка из-под конфет. В ней лежали деньги, разменные монеты и маленький штампик. Я принимал взносы, делал отметку в партбилете, расписывался и поверх своей подписи ставил штампик.
Исключительно рутинная работа.
Обычно, когда я дежурил по номеру, брал с собой в кабинет дежурного редактора коробку. И принимался читать полосы.
Коллеги заходили, я брал у них деньги и делал отметки в партбилетах.
Однажды во время дежурства ко мне зашел очередной клиент. Заплатил взносы. Я сделал отметку в билете. Взял коробку, положил в нее деньги. Начал нащупывать штампик, а его нет. Посмотрел вокруг – нет. А ведь я держал его в руках двадцать-тридцать минут назад.
Обыскали весь кабинет, ящики стола, под столом – пропал штампик. Деньги целы, а штампика нет.
Пришлось сообщить в райком партии, попросить выдать новый штампик. Через несколько дней оттуда позвонили:
– Тогда-то Гейман должен прийти на заседание комиссии по персональным делам.
– Какое персональное дело? Кто-то из озорства или по злости утащил штампик. В чем преступление?
– На комиссии выясните.
Это была комиссия старых большевиков. Человек восемь-десять.
Усадили меня на стул и тут же заговорили о бдительности, разгильдяйстве и других неблаговидных делах. Я по наивности воспринимал происходящее несерьезно – подумаешь, штампик!
– Вы понимаете, какое преступление совершили перед партией? – зашелся в крике один старичок.
– Понимаю. Штампик – партийное имущество. Я готов заплатить за него – он стоит полтинник. Или могу сделать новый.
– Как новый? – изумилась член комиссии.
– В детстве я в шутку делал всякие глупые печати. Это нетрудно.
– У вас в детском саду была подпольная фабрика печатей?
– Мой детский сад находился в цехе. Там я научился многому. В том числе и делать печати. У меня большой полиграфический опыт.
– Не уводите нас в сторону. Ваш проступок нельзя оценить полтинниками. Он носит политическую окраску. Понимаете?
– Не понимаю, где здесь политика.
– А если этим штампом воспользуется враг народа, шпион? Это разве не политика?
– Что шпион сделает со штампом?
– Он у другого разгильдяя украдет партбилет и у него в руках окажется очень важный документ. Дорога ему будет открыта в самые важные органы.
– Извините, но я ни разу в жизни не использовал свой партбилет как пропуск. Я хожу в ЦК комсомола, в ЦК партии, МВД, КГБ…
– Товарищи, видите, он ничего не понимает, не осознает. Это закоренелый антипартийной элемент. Предлагаю подумать, место ли ему в партии.
Остальные члены комиссии стали выходить из себя, махать на меня руками, тыкать пальцами. Словом, большинство поддержало старика.
Вынесли решение просить бюро райкома рассмотреть вопрос о моем пребывании в партии.
Я понял, что заигрался.
Пришел к редактору:
– Через несколько дней я буду увольняться.
– Это почему?
– Меня исключат из партии и никто держать меня в газете ЦК комсомола не будет.
– Не придуривайся. Расскажи все по порядку.
Я рассказал. Шеф возмутился:
– Они что, из ума выжили? Иди работай, ни о чем не думай.
Через несколько дней меня вызвали на бюро райкома. Поспрашивали, как пропал штампик. Я подробно ответил. Первый секретарь сказал:
– Вы человек молодой. Вам надо понимать, что у ветеранов нервы испорчены, Да и взгляды не так легко меняются. Надо быть с ними терпимее. Идти на компромисс. Мы примем решение выдать вашей партийной организации новый штамп. А вам, так уж положено, объявим выговор без занесения в учетную карточку.
Члены бюро, кто согласен? Единогласно.
* * *
Лучше пасть в нищету, голодать или красть,
Чем в число блюдолизов презренных попасть.
Лучше кости глодать, чем прельститься сластями
За столом у мерзавцев, имеющих власть.
Омар Хайям.
Заключением нашей программы во Франции было посещение кладбища Пер-Лашез. Это – одно из знаменательных мест в Париже. В первую очередь, оно известно тем, что здесь находится Стена коммунаров. Когда армия контрреволюционного правительства, сбежавшего в Версаль, подавляла Парижскую коммуну, последние кровопролитные бои шли здесь, на Пер-Лашез. Революция была задушена. У кладбищенской стены были расстреляны 147 коммунаров. Их похоронили на этой земле.
Примечательно, что и Адольф Тьер, отдавший приказ об убийстве, сам похоронен тут же, поблизости от Стены коммунаров.
Пер-Лашез – самое большое кладбище в Париже. Оно занимает около 48 гектаров земли. Тут похоронен миллион человек, не считая тех, кто был кремирован и чей прах покоится в колумбарии.
Пер-Лашез – великолепное собрание искусно созданных надгробных памятников. Посмотреть на них, отдать дань уважения людям, похороненным здесь, на кладбище ежегодно приходит два миллиона человек. Знаменательно, что на Пер-Лашез находится могила Ф. Шопена, написавшего "Похоронный марш". Под эту мелодию было предано земле большинство тех, кто покоится на Пер-Лашез.
Тут похоронено много знаменитых и великих людей: Россини, Бальзак, Бомарше, Сара Бернар, Мольер, Ив Монтан, Эдит Пиаф. И даже батько Махно.
Я стоял у могилы маленькой Парижской певицы, которая дорога мне и сейчас. Меня издали позвали.
Оказалось, к группе наших ребят подошла молодая женщина и спросила, не из Советского Союза ли они. Те ответили утвердительно.
– Откуда вы?
– Из разных городов и республик.
– А из Риги есть?
– Есть. Мы сейчас позовем.
Я подошел и глазам своим не поверил. Передо мной стояла одна из моих крестниц. Мы обнялись…
Однажды зашла ко мне в кабинет незнакомая девушка. Невысокого роста. Круглолицая, симпатичная.
– Пришла к вам за помощью, – слегка помявшись, сказала она. – Я – журналист. Работала в районной газете. Вышла замуж за военного. Его перевели служить в Ригу. Живем в офицерском общежитии на небольшую лейтенантскую зарплату. Я не работаю, и из-за этого мы начинаем ссориться. Может разрушиться семья.
Мне посоветовали обратиться к вам. Помогите мне устроиться куда-нибудь на работу. Хорошо бы по специальности.
Девушка разволновалась. Ее щеки зарделись. Из глаз вот-вот потекут слезы.
– Успокойтесь. Задача непростая. В нашей профессии вакантных мест нет. Приходите завтра. За это время постараюсь придумать, как вам помочь.
Пошел к шефу, рассказал ее историю. Предложил:
– Давай возьмем ее ко мне в отдел. Если не потянет, поищу ей место в какой-нибудь многотиражке. Почти ребенок, а уже семья рушится.
Мы не прогадали. Она сравнительно неплохо писала, была настоящим трудоголикам, взяла на себя всю текущую работу.
Но, к сожалению, пробыла в нашей редакции недолго – ее мужа перевели куда-то в другое место. Мы снабдили ее лучшими характеристиками.
… – Как дела? – спросил я. – Работа?
– Мы попали в один небольшой город. Там – городская газета. Ваши отзывы очень помогли. Меня взяли в штат. Все хорошо. Вот поощрили поездкой во Францию. Нас в группе пять журналисток.
– Как семья? Ссоритесь?
– Нет, нет. Живем очень дружно. Муж уже старший лейтенант. На хорошем счету. Квартиру получили.
– Дети?
– Не успели. Но планируем.
– Рад тебя видеть. Не думал, что когда-нибудь встретимся. Скажи мужу, чтобы к следующему разу был генералом.
– И я рада. Часто вспоминаю, коллегам рассказываю…
* * *
Мир открывает двери перед теми, кто знает, куда идет.
Ральф У. Эмерсон.
В аэропорту ле Бурже наши сто чемоданов снова собрались во внушительный табун. Среди пигмеев по-прежнему выделялся мой великан, не обвешанный свертками и пакетами. Мои попутчики говорили:
– Теперь видим – ты был прав.
… Мы возвращались домой. К папкам и мамкам. К своей работе. Туда, откуда начинаются наши дороги в большой мир.
Дороги за горизонт.


