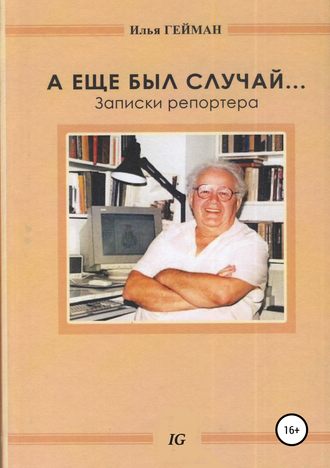
Илья Борисович Гейман
А еще был случай… Записки репортера
Дальше – просто. Сложили рассыпанные строчки столбиком, в гранки. Сделали оттиски. Затем взяли у корректоров оттиски бывшей полосы. И начали искать место каждой строчке. Пока мы занимались сизифовым трудом, отошедший от нервного приступа Майзель набрал заголовки статей, приготовился к верстке.
А тут и у нас получилось. Собралась первая статья, за ней и остальные.
Газета вышла. Может быть, и не совсем в срок, но в тот же самый день. Люди не остались без последней информации.
Если случалась пауза в работе, каждый норовил где-нибудь приспособиться поспать, хотя цех наш никак не мог сойти за уютную спальню. Он был закопчен, в воздухе стоял неистребимый запах гари. И вот почему.
Линотип сконструирован так, что в котле с металлом, из которого отливаются строчки, есть специальная грелка. У нее и форма подходящая, и отрегулирована она на нужную температуру. Но беда – во время войны грелки на машинах пришли в негодность, а новые получить было неоткуда.
Известно, что голь на выдумки хитра. Умельцы додумались использовать вместо электрической грелки… обыкновенный примус.
Сегодня уже немногие знают, что это такое. Расскажу. Представьте себе герметичную круглую медную емкость размером с тарелку. С насосом. К ней приделаны ножки. В верхней части эти ножки изогнуты так, чтобы на них можно было поставить кастрюлю, сковороду, чайник или, если понадобится, таз. Там же, в верхней части, есть устройство с множеством отверстий по окружности. Горелка. Она-то и давала тепло тем кастрюле, чайнику, сковороде.
Это и есть примус. В него наливался керосин, насосом создавалось давление, к головке подносилась горящая спичка и появлялся хороший, плотный огонь. Чтобы он не слабел, примус приходилось время от времени подкачивать, усиливать давление.
Таким образом, умельцы решили приспособить примус вместо грелки линотипа. Но мешала им разница в росте: его горелка находилась сантиметрах в двадцати от пола, а дно котла наборной машины – около метра.
Выход был найден: горелку сняли с примуса и укрепили на конце длинной медной трубки. Другой конец прикрепили к примусу. Получился “жираф” с очень длинной шеей. Новую грелку разожгли и подвели под котел. Через некоторое время пошевелили металл – жидкий. Фокус удался. Но для полноты картины потребовались два, иногда и три примуса на одну машину. Впрочем, как бы там ни было, до конца войны линотипам тепла хватало.
А нам с лихвой хватало угара. Коптили они нещадно. За несколько лет потолок цеха стал черным. Однажды из озорства я взял длинную щетку и написал на нем: “При входе снимайте галоши”. Что после этого было! Как меня песочили! Кто только мог – начальники и не начальники. Шуток в то время не понимали – время было слишком суровое. Люди изливали на меня всю накопившуюся досаду. Слава богу, хоть не уволили.
Много позже, когда война уже подходила к концу, мы узнали, что под нашим городом возник лагерь военнопленных.
Удивились: лагерь немецких военнопленных. За десять тысяч километров от заканчивавшейся войны. И даже больше: немецких военнопленных, не просто солдат и офицеров, а специалистов, мастеров.
Решили съездить туда на разведку – авось, помогут нам с грелками для линотипов?
Лагерь оказался просторным, аккуратным и хорошо ухоженным – как немецкие городки, в которых я побывал через десятки лет. Своими делами там занимались настоящие, живые немцы – все еще наши заклятые враги. На нас, дальневосточников, знавших о войне только по сводкам Совинформбюро, они произвели большое впечатление.
Но еще больше мы удивились тому, что в том же лагере были и японцы – союзники встретились под одной крышей. Правда, жизнь их здесь беззастенчиво разделила: немцы, специалисты оказались в положении господ, а японцы – в роли их прислуги.
Вернусь к цели нашего визита. Знатоков-электриков для нас нашли. Мы рассказали о своей проблеме. Как могли, начертили котел линотипа с параметрами. Они о чем-то между собой поговорили и спросили, сможем ли мы взять их с собой в типографию?
Начальство лагеря пошло нам навстречу. Не буду рассказывать, какими глазами смотрели немцы на наши закопченные стены и потолок, на мятые газеты, разложенные на подоконниках вместо простыней, на измазанных типографской краской мальчишек-рабочих, шнырявших под ногами. Тут эти люди поняли, какую цену заплатили мы за то, чтобы сами гитлеровцы коротали дни в нашем концентрационном лагере.
Немцы оказались настоящими специалистами. Через несколько дней администрация лагеря передала нам новые грелки. Мы поставили их в котлы линотипов и торжественно потушили примусы.
Война закончилась.
Еще раз я убедился в этом, когда через несколько дней случайно повернулся к окну и увидел там солдата. Он стоял и рассматривал сквозь стекло что-то в цехе.
“Смотрит, наверное, как машина крутится”, – подумал я и продолжал работать. Через некоторое время повернулся снова – солдат попрежнему стоял на месте.
Я открыл окно:
– Тебя что-то интересует?
– Знаешь, я шофер. Только на один день приехал с командиром в штаб и тут вижу – типография. А у меня как раз дело есть по этой части. Мы стоим сейчас в Манчжурии…
– Воюете?
– Уже отвоевались. Япошек кого побили, а кто сам в плен сдался.
– Так что ты хотел сказать?
– Ну, вот, в Манчжурии все машины иностранные. Мы себе в часть взяли несколько, а ездить на них нельзя. Патруль остановит, потребует разрешение управлять заграничным автомобилем, а его нет… Не мог бы сделать мне такое разрешение? Ты же типография…
– Я бы рад, да закон не разрешает.
– Какой тебе закон? Я уеду в Манчжурию к китайцам… Да я даже не знаю, как твой город называется. Если поймают с твоим документом, я же не расскажу, где взял… Не трусь, помоги.
– Хорошо, давай образец.
– Нет у меня никакого образца. Если бы был, я бы по нему и без тебя ездил.
– Тогда найди у своих ребят и приезжай завтра.
– Какой завтра? Я через несколько часов уезжаю в часть…
– Значит, ничего не получится.
– Слушай, напиши, что мне разрешено водить иностранные машины и сойдет.
Я махнул рукой, пошел к линотипу, набрал, что такой-то (пустое место для фамилии) сдал экзамен на право водить автомобиль иностранного производства. На месте подписи – выдуманная фамилия.
С виду получилось, как казенная справка. Сделал на ручном станке несколько оттисков, отдал солдату.
– Если патруль один отберет, достанешь другой…
На лице парня было столько счастья, будто он лично только что самого Гитлера в плен взял. И я еще раз понял, что на дворе действительно мир и по законам мирного времени мне простится это невиное мошенничество.
Я вернулся к прерванной работе. Вскоре в окне снова показался мой “клиент” и замахал рукой. Я подошел. Солдат протянул что-то завернутое в бумагу и сказал:
– Это мое спасибо. Ты хороший парень. Поеду в Манчжурию машину менять…
Мне не терпелось развернуть сверток. В нем был кинжал в ножнах – наверное, трофейный. И что может быть лучше такого подарка для подростка!
* * *
Не бойтесь дарить согревающих слов
И добрые делать дела.
Чем больше в огонь вы положите дров,
Тем больше вернется тепла.
Омар Хайям.
Войну с Японией мы как-то и не считали за войну. В нашем городе разместился штаб армии, которая где-то там перешла через реку Амур и гнала японцев из Манчжурии. Мы с интересом наблюдали, как воинские эшелоны шли с европейского фронта на восток одновременно по обеим колеям транссибирской железной дороги. Из Манчжурии к нам стали приходить грузовики с китайскими продуктами. За копеечную цену или бутылку водки можно было купить пару мешков чумизы, фасоли или сои. Голод отошел на второй план.
Да и работать стало веселее. Цех освободился от копоти, примусы убрали на склад. В газете стало больше собственных материалов и мы уже меньше были привязаны к передачам ТАСС. Ну, и к счастью, к ночному сну мы стали возвращаться в свои постели в родном доме, к вкусной мамкиной стряпне.
Во дворе, в другом торце здания размещалась военная типография той армии, которая была на постое в нашем городе. Однажды к нам в вестибюль зашел генерал в очень больших чинах. С ним другие генералы – свита. Один из сопровождавших суетливо забежал вперед:
– Пройдемте сюда… Потом направо, во двор…
Генерал шагнул к проходной, но тут на его пути возник Гуревич – невысоконький, обрюзгший за последнее время, со своим нескладным животом.
– Извините, пожалуйста, – сказал он, – покажите ваш пропуск.
Генерал грозно посмотрел на нашего невзрачного вахтера с высоты своего гренадерского роста:
– Какой еще пропуск? Да ты знаешь, кто я? Я командующий армией…
Думается, после Петлюры наш Гуревич уже ничего в жизни не боялся. В том числе и командующих армиями.
– Извините, – сказал он и показал на открытую дверь – там, через улицу, виднелось здание штаба армии. – Вы командующий в том доме. А здесь командует наш директор. По его распоряжению я никого не должен пускать без пропуска.
Генерал грозно посмотрел на свиту:
– Где директор? Давайте его немедленно сюда!
Бориса Григорьевича нашли тут же, привели к генералу.
– Что за порядки в вашем хозяйстве! – набросился он на директора. Почему меня не пускают? Кто тут придумал пропуска для генералов?
– Не надо горячиться, – успокоил его Борис Григорьевич. – У вас в армии свои порядки, у нас – свои. Вахтер прав. Здесь режимное предприятие. Без разрешения не может пройти даже маршал.
Мы сделаем для вас исключение. Вы сейчас пройдете в армейскую типографию с одним сопровождающим. Остальные пусть подождут вас в вестибюле. Но в следующий раз позаботьтесь, пожалуйста, о пропуске заранее.
Замечательным финалом моих военных приключений стал день, когда нас наградили медалями “За доблестный труд в Великой Отечественной войне”. Потом, через годы и десятилетия я получал разные награды, но эта медаль была главной – ее я по-настоящему выстрадал потом и кровью.
Я надел свою награду и целый день ходил по городу очень гордый с выпяченной грудью и все норовил попасть в самые людные места: пусть все знают, что и я воевал. На особом фронте, но воевал.
Ну, а что с мальчишки возьмешь – он ведь честно заслужил право гордиться собой.
Кто ты, мой двойник?
Даже самое трудное время проходит и растворяется в прошлом. Пережитое, если даже и забывается, все равно остается ничего не значащим тусклым воспоминанием.
В тот день, когда я обзавелся трофейным японским кинжалом, мне пришлось пережить, как говаривали в цирке, настоящий смертельный номер. Он, как и многое другое, забылся, и сейчас пришел на память только потому, что принялся писать эти записки.
В тот вечер ко мне в типографию пришли соседские мальчишки. Мы стояли у входа, рассматривали подаренный тесак, болтали, смеялись. К нам подошел подвыпивший офицер.
– Чего столпились? А ну, разойдись! – закричал он.
– Тротуар широкий, идите своей дорогой. Места всем хватит, – ответил я довольно резко, подбадриваемый собственным оружием – оно висело у меня на животе на брючном ремне.
– А ну, пошли отсюда! – еще громче закричал офицер и вынул из кобуры пистолет.
– Сказали тебе – иди своей дорогой, а то наваляем…
Офицер шагнул ко мне, приставил наган к груди:
– Я сказал – проваливайте…
– Тоже мне раскомандовался в нашем городе, – подал голос кто-то из ребят.
– Ну, тогда смотри, – процедил офицер и нажал на спусковой крючок.
Щелчок отозвался в моей груди, но я был абсолютно спокоен. Не осознавал, что происходит, чем я только что рисковал.
К нему бросились его приятели, скрутили руки, оттащили в сторону. И только тогда я почувствовал, что ноги мои стали ватными. Что я только что мог получить пулю в грудь. Был на волосок от смерти. Да и мои ребята тоже едва в штаны не наклали.
Позже стало известно, что в тот день закончилась война с Японией и все, у кого было оружие, палили из него куда попало.
В меня, к счастью, не попало.
Ну, это дело минувших дней. Страшное происшествие скоро забылось. Жизнь потекла туда, куда ей и положено было течь.
* * *
Глупо умирать от страха перед смертью.
Сенека.
Жизнь стала мирной. И теперь уже приходить надо было точно к началу смены. Да и уходить на обед следовало. когда положено. Военную вольницу нужно было забыть. Верх взяла дисциплина, к которой мы, мальчишки, не были приучены.
В типографию стали возвращаться с фронта взрослые мужчины. Мы само собой, отодвинулись на задний план. Да какие мы пацаны! За годы войны успели подрасти, стали специалистами каждый в своем деле. А я и вообще не успел оглянуться, как пришло время получать паспорт. Я ждал его с большим нетерпением. Без паспорта меня не пускали на вечерние сеансы в кино и девчонки смотрели на меня из-за этого, как на сопляка.
Стал я собирать документы для милиции. В первую очередь, свидетельство о рождении.
Метрика у меня была знатная. На большом листе толстой бумаги. Потертая на сгибах. По ней можно было изучить всю мою родословную. Вплоть до того, какой цвет кожи был у моих дедушек и бабушек по отцовской и материнской линии.
Этот документ вместе с другими бумагами я отнес в милицию, в паспортный отдел. Офицер перебрал их и стал внимательно рассматривать метрику. Поднял на меня глаза:
– Что здесь написано?
– Это свидетельство о рождении…
– На каком языке?
– Португальском…
– Ты что, португалец?
– Нет…
– Ты чей? Где отец работает?
– В редакции газеты.
– Фамилия?
– Чья?
– Его, отца?
– Гейман.
– А твоя?
– Пятигорский.
– Ничего не пойму. Приходи через неделю, оформим.
Пришел через неделю.
– Еще не готово. Давай, заходи через полмесяца.
Потом мне говорили – паспорт будет готов через месяц, через два, а я все заходил и заходил…
Можно было бы терпеть еще больше – на кой ляд мне тот паспорт! Но так не терпелось почувствовать себя взрослым! Показать в кинотеатре, что имею полное право ходить на вечерние сеансы…
Поплакался отцу.
– Завтра пойдем в милицию вместе. Надо узнать, почему тебя маринуют.
На следующий день пришлось изрядно походили по кабинетам. Никто не мог объяснить, что у них случилось. Всюду говорили одно и то же:
– У нас случились трудности. Надо еще с месяц подождать.
И только когда Борис Григорьевич добрался до самого верха, там сообщили:
– Метрика на португальском языке. Ее не только в Биробиджане, но и в Хабаровске никому не перевести. Отправили в Москву, в министерство. А оттуда нет ответа. Послали несколько запросов. Отвечают: в ближайшие дни пришлем. Но не шлют. И вот лишь сейчас все, наконец, прояснилось: ваша метрика где-то затерялась. Там организовали целое следствие, но концов найти не могут.
– А что нам делать? – спросил отец.
– Ждать…
– Но если даже в министерстве концов найти не могут…
– Есть один выход из этого запутанного дела. Не уверен, захотите ли вы им воспользоваться…
– Объясните.
– У вас с мальчиком разные фамилии. Он ваш пасынок?
– Да.
– Если бы вы его усыновили, он получил бы другую фамилию и ваше отчество. Ему и вам выдали бы соответствующие документы. Тогда их было бы достаточно для получения паспорта. Без затерявшегося свидетельства о рождении.
Как вы к этому отнесетесь?
– Я должен посоветоваться с сыном…
В коридоре Борис Григорьевич рассказал мне о предложении милиционеров и спросил:
– Ну, как?
– Конечно, я согласен.
Через пару дней я пришел получать паспорт. Раскрыл его, начал читать и бросился к окошку;
– Здесь грубая ошибка. Я написал в анкете: мое имя Ильич. Его дали мне родители при рождении. А вы написали: Илья.
– Успокойся. У нас в стране так никого не зовут – это отчество. А настоящее имя – Илья. Мы посоветовались и решили, что и ты станешь Ильей. Все равно же фамилию поменял. Будешь теперь, как новенький.
* * *
Надеяться всегда лучше, чем отчаиваться.
Иоганн В. Гете.
Как бы там ни было, история эта на новеньком паспорте не закончилась.
Лет через двадцать получил я повестку: такого-то числа я должен явиться в ОВИР. Это отдел милиции, или госбезопасности? который занимался визами за рубеж, работой с иностранцами и всякими такими делами.
Я слегка оробел. Хотя в то время я никакого отношения к заграничным визам не имел, да и иностранцем я перестал числиться в начале тридцатых годов прошлого века. Но, как мне было известно, взаимоотношения с ОВИРом к добру не приводили. Многие люди натерпелись горя, теряли работу, бросали профессию, карьеру, становились безработными, с которыми в отделах кадров и разговаривать не хотели. Многих из них я знал, о некоторых писал до того, как с ними случилось такое несчастье.
Тем не менее, собрался с духом и пошел по повестке, не переставая думать, где я мог проколоться.
Человек в штатском встретил меня несурово. Задал несколько вопросов о моей жизни, семье, работе. Потом спросил:
– У вас когда-то были сложности с получением паспорта?
– Да, моего первого паспорта.
– И что же случилось?
Я рассказал историю о метрике, которую никто не мог перевести с португальского. О том, как мое свидетельство о рождении потерялось в Москве и поэтому я долго был без паспорта.
– И как все-таки вы оказались с паспортом?
Мне пришлось рассказать мою историю. Об отце Маркусе Пятигорском, который умер. О втором замужестве мамы и о том, что у меня появился новый отец.
– В милиции ему посоветовали усыновить меня, дать мне свою фамилию и отчество. Это позволило милиции выдать мне паспорт без потерявшейся метрики.
Хозяин кабинета улыбнулся, пожал мне руку:
– Спасибо, вы свободны.
Я оторопел. Не мог понять, зачем меня вызывали в ОВИР.
– Это все?
– Да, все.
– Извините, не могу ли я задать вам вопрос?
– Пожалуйста…
– Вы знаете, я журналист. Профессиональный журналист. Получаю гонорар за конкретную работу, которую выполняю. Сейчас я сделал работу для вас: перенес свои дела, пришел сюда, добросовестно ответил на ваши вопросы. Теперь скажите: вы можете заплатить мне за это гонорар?
Собеседник молча смотрел на меня. Он, наверное, прикидывал в уме – я сумасшедший или просто придурок.
– Я вас не понимаю, – произнес он наконец.
– Объясню. Не могли бы вы в качестве гонорара рассказать мне, зачем я к вам пришел?
Хозяин кабинета облегченно улыбнулся:
– Эти сведения не для разглашения, но вам скажу. Человек, который владел вашей метрикой, найден. Теперь она в безопасном месте. А вас я пригласил, чтобы понять, как ваш документ попал к постороннему человеку.
– Значит, у меня был двойник?
– Да, с вашей необычной историей жизни, с вашим именем Ильич и фамилией Пятигорский. Это все, что я мог вам сказать…
Я понял, что спрашивать больше услышанного бессмысленно. Мне оставалось только долгие годы моей жизни пребывать в неведении о загадочном приключении с моим паспортом.
Вы может смеяться, но это еще не финал запутанной истории свидетельства о рождении.
Лет через шестьдесят после моего хождения за паспортом поехал я в Рио-де-Жанейро к своим родственникам. Кто-то из них поинтересовался, почему я не Пятигорский и почему не Ильич. Пришлось рассказать о злоключениях с метрикой и обо всем, что после этого произошло.
Кармен – она вдова моего двоюродного брата – поохала, посокрушалась по поводу непрофессиональной русской милиции. На том дело и кончилось.
Прошло после этого года полтора. Я снова прилетел в Бразилию. По дороге из аэропорта Кармен сказала, что меня ждет занятный сюрприз.
Дома она протянула мне большой лист бумаги.
– Что это?
– Посмотри…
Я посмотрел и обомлел: моя метрика!
– Откуда она у тебя?
Кармен рассказала.
Ей было известно, что мои родители до депортации из Бразилии жили в пансионате в районе Капокабана. Это знаменитое место в Рио-де-Жанейро. Там кварталы богатых домов и известный на весь мир пляж Капокабана.
Так вот, Кармен решила, что я должен был родиться по месту жительства родителей на Капокабане. Пошла в местную мэрию и ей без всякой волокиты выдали копию моей метрики.
Сейчас она лежит у меня в архиве, как напоминание о страстях, которые вились вокруг нее десятки лет.
* * *
С людьми ты тайной не делись своей.
Ведь ты не знаешь, кто из них подлей.
Как сам ты поступаешь с божьей тварью,
Того же жди себе и от людей.
Омар Хайям.
В один прекрасный день Борису Григорьевичу позвонил из Хабаровска начальник краевого управления полиграфии.
– Борис, у нас тут сложная ситуация образовалась. Некому набирать краевую газету “Тихоокеанская звезда”. Положение настолько тяжелое, что я, наверное, не выберусь из него здоровым и невредимым.
– Сочувствую. Но чем я могу помочь?
– Срочно пришли сюда в командировку одного линотиписта.
– Но у нас же тоже газета. А линотипистов раз-два и обчелся.
– Не прибедняйся. У тебя вон какой орел есть, москвич. Всю войну на себе вынес. И сынок твой крепко подрос. Его и пришли в Хабаровск. Пусть в большом городе, в столице пооботрется. И людям поможет, и себя покажет.
Борис Григорьевич заколебался. С одной стороны, своя рубашка как бы ближе к телу. С другой, этот человек не раз во время войны сильно выручал нашу типографию…
– На сколько дней командировка?
– Скажу честно – не знаю. Набирать некому. Вопрос на контроле на самом верху. Пусть приезжает и садится за линотип. Дадут ему учеников. Выучит, и вернется домой.
– Может, мне с ним приехать?
– Зачем?
– Сын все-таки…
– Не паникуй. Он уже не ребенок. Иди, собирай вещи в дорогу.
В тот день кончилось мое детство. Началась взрослая жизнь.


