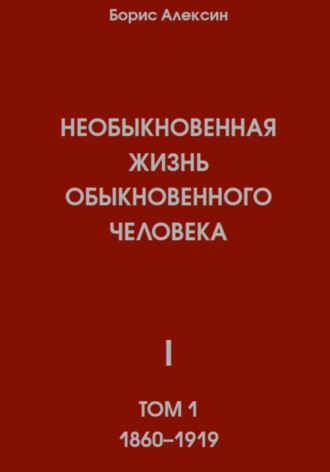
Борис Яковлевич Алексин
Необыкновенная жизнь обыкновенного человека. Книга 1. Том 1
Приближался к концу 1918 год. Регулярные занятия в новых школах решено было начать с нового года, а до тех пор при Наробразе проводились бесконечные совещания и занятия, на которых обсуждались новые программы и новые порядки, заводившиеся в советских трудовых школах, как отныне стали называться все учебные заведения.
Ещё будучи запасной, Мария Александровна принимала участие во всех этих совещаниях, а получив назначение, с ещё большим энтузиазмом включилась в эту работу. Новые задачи, новые условия труда, новые, более расширенные возможности для преподавания, её, как истинного педагога, горячо любящего своё дело, очень заинтересовали. Теперь во всех школах категорически запрещалось применять какие-либо телесные наказания. В программах появились новые предметы, значительно расширились программы по естествознанию, по географии, и даже её любимый предмет – родной язык, освободившись от пут царской цензуры, получил возможность давать ученикам для изучения произведения Некрасова, Успенского, Короленко, Горького, Толстого. За одно только знакомство с некоторыми из их произведений в прошлом и педагог, и его ученики полетели бы из гимназии.
И эта больная женщина, несмотря на свой возраст и всё ухудшающееся самочувствие, отдалась любимому труду с новой страстью и силой. А её должность требовала этих сил немало. Прежде всего, ей досталась одна из худших школ в городе – бывшее Саровское училище, содержавшееся на средства Саровского монастыря. Являясь чем-то средним между духовной семинарией и гражданской школой, оно готовило будущих дьячков и псаломщиков. Преподавали там монахи, основными предметами были Закон Божий, правила ведения церковных служб и начала грамоты и счёта. Ученики школы жили тут же, поэтому при школе находилась и столовая, и церковь. Когда к концу 1918 года это училище было окончательно закрыто, все ученики распущены по домам, а жившим здесь же преподавателям-монахам предложили занимаемые ими помещения освободить, то здания некоторое время оставались беспризорными. Уходившие ученики, да, может быть, и учителя постарались утащить не только всё, что попало под руку, но и испортить в зданиях всё, что только удалось.
Педагоги, назначенные для работы в эту школу, придя в помещения, захламленные обломками школьной мебели и разным мусором, с выбитыми стёклами в окнах, разбросанными учебниками и невероятной грязью всюду, приходили в ужас от этого вида и пытались при первом же удобном случае из неё удрать. Между прочим, то же сделал и первый назначенный в неё заведующий, и может быть, именно поэтому Марии Александровне Пигуте и «посчастливилось» получить это место.
Однако храбрая женщина не испугалась, не растерялась, а собрав всех учителей, сумела воодушевить их, и они вместе с жившими во дворе школы и оставшимися на месте сторожами и другими служителями привели в порядок учительскую, собрали учебные пособия, кое-как исправили что смогли, забили разбитые окна фанерой и досками. Одновременно решили, что окончательным приведением в порядок классов займутся сами ученики.
Положительными моментами в этой школе было то, что во дворе лежал солидный запас дров, а в кладовой оставалось много керосина, что в то время для Темникова являлось большой ценностью. Известным достоинством оказалось существование кухни и столовой, а по распоряжению Наробраза, начиная с этого учебного года, во всех школах вводились горячие завтраки-обеды. Для многих школ отсутствие специальных помещений как для приготовления, так и для приёма пищи оказалось серьёзным препятствием в решении этого вопроса.
С середины января 1919 года и в Саровской, а ныне 3-й советской трудовой Темниковской школе можно было начинать занятия. Составлены и объявлены списки учеников, зачисленных в эту школу, среди них оказался и Боря Алёшкин. Почему он попал в число учеников этой школы, тогда как все его друзья оказались в школе первой ступени, размещавшейся в здании бывшей женской гимназии, сказать трудно, но так уже получилось.
Такая «несправедливость» очень огорчила Алёшкина, и только то, что заведующей этой школой оказалась бабуся, понявшая его обиду и объяснившая ему, что его пребывание в школе, в которой ей приходится быть заведующей, поможет ей лучше освоиться с новой должностью, его успокоило.
Бабуся сказала внуку:
– Будет среди новых людей хоть один свой человек…
Все ученики должны были явиться в школу 12 января: предполагалось, что пока будет заканчиваться учительский съезд, они приведут в порядок классы и с 15 января можно будет начать нормальные занятия.
Обегав все помещения школы, увидев разрушения и хаос, который мы описали выше, все ребята страшно возмутились. Одним из организаторов этого возмущения был Алёшкин. Первое, что они сделали, и это были в основном ученики четвёртого класса, в который зачислили и Борю Алёшкина, – явились в Наробраз и потребовали, чтобы их оставили в прежних школах, а услышав категорический отказ, также категорически заявили, что объявляют забастовку и в эту «саровскую иезуитню» ходить не будут.
Прошло несколько дней. «Забастовщики» увидели, что никто им уступать не собирается, а ученики других классов уже заканчивают уборку своих классов, и у них начался разброд, и уже многие стали поговаривать о том, как бы попочётнее сдаться. А тут ещё и бабуся, поймав Борю и компанию его ближайших соратников, пристыдила их и припугнула, что если они из-за своих фокусов не смогут начать занятия вместе со всеми, то их, вероятно, в будущем году не переведут в следующий класс, придётся лишний год пробыть в этой же Саровской школе. Это сломило упрямых ребят, и уже на следующий день они с азартом принялись приводить в порядок свой класс.
Глава двадцать первая
5 января 1919 года Мария Александровна Пигута писала сыну: «Милый Митя! Спешу поблагодарить за присылку денег (1700 руб.), но очень боюсь, что ты этим ограничиваешь себя. Тебе при твоём здоровье тоже бы нужно хорошее питание, а у вас там с продуктами ещё хуже, чем здесь. Здесь мы теперь бьёмся из-за керосина, уже не говоря о дровах и других продуктах, цена на которые всё растет. Впрочем, местные деятели не унывают: всячески поощряют всевозможные виды увеселений, устраивают грандиозный съезд учителей для выслушивания докладов делегатов, ездивших в Тамбов, в Москву с информационными целями. В данную минуту съезд в полном разгаре, учительство, распустив учеников, проводит на нём целые дни, а с 7 января нов. стиля начнутся лекции московских лекторов для ознакомления учительства с новыми взглядами и приёмами преподавания и воспитания. Всё это очень интересно, но утомительно. Не знаю, сколько времени продлятся лекции-курсы и скоро ли возобновятся занятия в школах. Впрочем, мы теперь живём в такое волшебное время, когда не знаем, что будем делать через неделю и что с нами будет. <…> На съезде часто упоминалось о богатстве Демидовской библиотеки, поступившей в местный Пролеткульт. <…> По-прежнему лучшими моими друзьями всё-таки остаются Стасевичи, у них, кроме Юры, прелестная маленькая дочка Ванда, ровесница твоему Косте. Обнимаю тебя крепко, мама».
Выдержки из письма Марии Александровны показывают, как старательно она бережёт своего сына, ни словом не обмолвится ни о продолжающихся распрях с Еленой, ни о развитии своего заболевания. А она в это время чувствовала себя уже совсем плохо. При сравнении этого её письма с предыдущими уже видно, что даже почерк у неё изменился. Однако она продолжает писать обо всём, не упоминает лишь о себе. Чувствуется, что она переживает за растущих у неё ребят. Видит, как они не получают даже самого необходимого, и это ещё больше угнетает её и ухудшает её самочувствие.
Вместе с тем, несмотря на некоторую иронию в отношении вводимых в школах новшеств и вообще новаций, появившихся в жизни после революции, видно, что она по-настоящему заинтересована этим новым.
Ничего не написала Мария Александровна сыну и про «бунт» учеников, организованный её внуком, хотя это происшествие отняло у неё немало сил и нервов.
Так или иначе, занятия в 3-й советской трудовой школе 1-й ступени в Темникове в 1919 году начались одновременно со всеми другими школами города. Следует отметить, что в этой школе, как, впрочем, и во всех других, плата за обучение не взималась. Вообще-то, в тот учебный год занятия в школах проходили очень неорганизованно. Преподаватели, наслушавшись разных лекций, не имели, однако, конкретных новых программ; они строили свои уроки и ломали старые программы кому как заблагорассудится, увязки между разными предметами не искали или не находили, и каждый тянул кто во что горазд. Мария Александровна старалась создать в своей школе какое-то единое мнение, единый подход к перестройке старых программ (об этом свидетельствуют сохранившиеся её записки), но это ей удавалось плохо, хотя она и отдавала этому массу сил и времени, чуть ли не ежедневно проводя различные совещания своих учителей.
Многие преподаватели никак не могли найти верного подхода к ученикам и иногда просто не знали, как себя с ними держать. А последние, соединённые из различных школ, значительно отличаясь друг от друга как по возрасту, так и по уровню знаний, представляли для педагогов очень сложный материал. При составлении списков ученики соединялись в классы чисто механически, и к тем, кто учился регулярно, теперь добавились и ранее исключённые второгодники, и те, кто не учился, не имея возможности вносить плату за обучение, и в результате был вынужден пропустить несколько лет. Поэтому в 4-м классе 1-й ступени, где учился Боря Алёшкин, одновременно с его товарищами по гимназии, его одногодками (11–12-летними мальчишками) оказались и ребята в возрасте 14–15 лет. Конечно, это создавало дополнительные трудности в управлении учебным процессом, и многие, особенно молодые педагоги, а таких было большинство, просто терялись. На их уроках творилось иногда нечто невообразимое. Нередко они срывались. Ученики, возглавляемые кем-либо из наиболее отчаянных великовозрастных заправил, демонстративно уходили из школы. Такое положение имелось и в других школах, и даже во второй ступени.
Против этих нарушений дисциплины и порядка такие учителя, как Мария Александровна, боролись всеми доступными им способами, помогали молодым учителям, беседовали с учениками, пытались собирать и родителей; на всё это уходило много времени и сил. Кроме того, Наробраз, стараясь помочь педагогам, собирал их на различные лекции и семинары, отрывая их от учебного процесса на несколько дней. В эти дни ученики предоставлялись самим себе и, пользуясь свободой, переворачивали в классах всё вверх дном.
В 3-й школе, в бывшем Саровском училище, где учился Боря, кроме основного здания, имелось много подсобных помещений: столовая, кельи монахов-учителей, здание бывшей церкви, сараи, амбары и т. п. Было где разгуляться ребятам, и, оставаясь одни, они затевали игры в этих помещениях, ломая при этом всё и вся, что им мешало; в числе заводил был и наш герой. Часто игры сопровождались или заканчивались драками и побоищами с разбиванием носов, голов и раздиранием и так ветхой у всех одежонки.
Поводом для таких драк мог служить самый пустяковый инцидент, но один наиболее частый – совместное обучение мальчиков и девочек. Ведь до этого они учились раздельно, а в городское училище девочек вообще не принимали, а тут вдруг их соединили. Причём вместе стали учиться не только маленькие, но и ребята в возрасте 11–14 лет.
Такое непривычное объединение, причём девочек оказалось значительно меньше, чем мальчиков, вызвало появление многочисленных романов, ухаживаний, а вместе с тем и зависти к счастливчикам, обретшим даму сердца, обид и целый ряд других проблем, чаще всего разрешаемых юными рыцарями в обыкновенной драке. В то время, как завистник стремился показать свою силу, рыцарь тоже старался блеснуть ею перед своей дамой, которая часто присутствовала при поединке и даже гордилась тем, что драка происходит из-за неё.
В 4-м классе этой же школы училась весёлая, курчавая, голубоглазая, белокурая девочка, Шура Александрова. Она понравилась сразу двоим мальчишкам, сидевшим за одной партой: Борису Алёшкину и Алексею Бобкову. Заметив их внимание, эта двенадцатилетняя довольно-таки кокетливая девчушка проявляла симпатию то к одному, то к другому, посылая и получая записочки, и назначая им по очереди встречи при выходе из здания школы. Это привело к ссоре между приятелями, закончившейся отчаянной дракой, после которой почти две недели один ходил с подбитым глазом, а другой – с раздутой губой.
Однако после того, как Шурка перенесла свою благосклонность на одного из более взрослых учеников, мальчишки, возмутившись вероломством своей избранницы и решив, что все девчонки таковы, помирились и больше соблазну влюблённости не поддавались.
В начале 1919 года во всех школах были введены бесплатные завтраки, обеды. Всё ухудшающееся положение с питанием как во всей стране, так и в захолустном Темникове привело к голоданию во многих семьях. Советская власть, стремясь поддержать силы прежде всего детей, решила организовать бесплатное питание в школах. Кажется, это сделалось по личному распоряжению Владимира Ильича Ленина, о чём, конечно, никто из наших знакомых не подозревал. В большую перемену, которая удлинялась до часа, все школьники получали бесплатный горячий завтрак-обед. Состоял он обыкновенно из похлёбки или жидкой кашицы, иногда сваренной на костях или низкосортном мясе, а иногда заправленной постным, чаще всего конопляным маслом. Изредка случалось, что похлёбка из пшенной крупы, гороха или чечевицы заправлялась картошкой. Для её чистки в помощь кухарке, единственной на всю школу, выделялись дежурные ученики старших классов, человек пять-шесть, которые после помощи на кухне разносили по столам миски, а после еды мыли их. Работа дежурных была довольно трудна и вознаграждалась только тем, что они могли обгладывать варившиеся в супе кости – мослы.
Другая группа дежурных школьников с утра отправлялась в «булочную» (мы взяли это слово в кавычки потому, что булок в ней давно не было, а выпекался ржаной хлеб, но ребята часто и такого хлеба дома не имели вдоволь). Хлебопёки дежурным всегда давали довесок на дорожку, да и при резке все крошки доставались этим же ребятам. Кроме того, при переноске хлеба можно было и пощипать немного от караваев. Поэтому, если дежурить на кухню шли без большого желания, то ходить за хлебом вызывались многие, в их числе был и Боря Алёшкин.
* * *
А бабуся, жалея несуразную дочь, частенько воюя с нею, заботясь о внуках, беспокоилась ещё и о своих родственниках, живущих в промышленных губерниях, где, по слухам, положение с продовольствием было намного хуже, чем в таких городках, как Темников. И она решается собрать им продовольственную посылку.
Такие посылки в последнее время стали принимать для Москвы, Петрограда и других промышленных центров. После одной из таких посылок она написала сыну: «Милый Митя! Вчера я отправила посылку по почте на имя брата Александра Александровича; в посылку вложены две индейки – одна для брата, другая для тебя. Мне очень хотелось положить в ящик хоть два фунта сливочного масла, которое мне предлагали, но оказалось, что на почте не разрешено пересылать даже и сало. Нельзя посылать ни муки, ни пшена, ни масла. Ящик оказался настолько велик, что я попыталась положить хотя бы полфунта чаю, который у меня оказался лишним, но на почте сказали, что и чай посылать нельзя, и я принуждена была, к величайшей досаде своей, его вынуть.
Пересылка мне обошлась в 10 руб., каждая индюшка в 100 рублей. Пусть дядя мне вышлет, когда поправится с финансами, 110 руб., а тебе я посылаю эту индюшку в подарок; ты и так много мне помог нынче, мне хочется и тебе услужить чем-нибудь. Без твоих денег я не знаю, как бы я справилась с отоплением: дрова нынче обходятся с доставкой на дом 196 руб. за сажень, за пилку-колку платили еще 30–40 руб. за сажень.
Дети пока здоровы, оба ходят в школу; Боря учится в моей группе, соответствующей второму классу гимназии, а Женя – ещё в приготовительном отделении, но зато ей близко, в здании бывшей женской гимназии, и попала она к прекрасной учительнице. Я очень рада, что она наконец поступила в школу, а то мать всё не хотела определять её, и она училась у разных учительниц, находившихся без места, это учение только портило её.
Очень давно не имею сведений о тебе. Напиши немножко о себе и своём мальчугане…»
И в этом письме, проникнутом заботами о сыне, брате и живущих с нею внуках, Мария Александровна опять ничего не пишет о своём здоровье, а оно становилось всё хуже. К болям в животе присоединилась почти ежедневная рвота. Она, однако, продолжала тщательно скрывать свой недуг, опасаясь, что её могут уволить с работы. В Темникове имелось достаточно и молодых учительниц без места.
В письме от 30 марта 1919 года она сообщает сыну о расстройстве своего здоровья, но очень неясно и только вскользь: «Милый мой Митя! Твоё письмо от 8 марта я получила 15-го, и, к своему стыду, только сегодня на него отвечаю. Правда, что по вечерам лень одолевает, да к тому же прихворнула я немного: снимая на морозе с носа очки, положила их мимо кармана, а придя из школы и пообедав, вместо того, чтобы отдохнуть и посидеть дома, узнав, что очки подобрал один из учеников, отправилась его разыскивать: сперва узнавать адрес, потом на дом к ученику, на край города, и добегалась до того, что свалилась и просидела дома три дня, всё больше валялась. Если же я веду себя, как следует солидной даме, и не позволяю себе резвиться, то чувствую себя сносно и работаю не хуже молодых.
Рада, что ты стал мне писать иногда. Мне не надо длинных писем, но страшно дорого получить иногда несколько слов от тебя.
Писала мне Мирнова, что жена покойного Николая Геннадиевича привезла к ней бедного Славу и оставила у неё. Ужасно мне жаль этого бедного ребёнка! Сколько ему пришлось вынести после смерти матери! Я уже подумываю взять его к себе, когда Борю возьмут в Сибирь…»
Письмо это, как и предыдущие, дышит бодростью и оптимизмом и совсем не похоже на то, что его писала старая и совсем больная женщина. А ведь это было её последнее письмо к сыну.
* * *
Мелочные, будничные заботы, о которых пишет в своих письмах Мария Александровна, такие же заботы и у младшего поколения её семьи – у её внуков, поглощённых всякими школьными происшествиями и делами, заслоняли от них то огромное, что свершалось в это время в стране. Ведь описанное нами было зимой и весной 1919 года.
Где-то там, за пределами Темникова, происходило множество важнейших событий: шла Гражданская война, советская власть, окружённая кольцом блокады и пылающих фронтов, проводила в жизнь свои первые важнейшие декреты и постановления, организовывались новые учреждения, реорганизовывались и упразднялись многие старые, жизнь в стране кипела, как в котле. В Темникове все эти события отражались как-то глухо, и, по крайней мере, для тех лиц, жизнь которых мы взялись показать, малозаметно.
Было, например, известно, что все помещичьи и монастырские земли заняты крестьянами окружающих деревень и поделены между ними. Брошенные хозяевами, сбежавшими большей частью неизвестно куда, поместья и усадьбы, сады, оранжереи, скотные дворы, несмотря на организуемую местными советами охрану, подвергаются разграблению, причём растаскивается всё: не только скот или сельскохозяйственные орудия, но и мебель, и оставшаяся одежда. Некоторые усадьбы были подожжены. Кто это сделал, темниковским властям установить так и не удалось. Чтобы спасти кое-какие культурные ценности этих поместий, особенно библиотеки, Темниковский Пролеткульт (было создано и такое учреждение, хотя никто толком и не знал, что оно должно делать) постарался вывезти в город книги из усадеб Демидовых и Новосильцевых. Привезённое сваливали в различных помещениях, в том числе, на чердаке городской библиотеки, а полностью заполнив его, – и в доме, в котором до революции размещался детский сад, содержавшийся на средства Новосильцевой. Через год или два именно в этом доме открылась вторая городская библиотека, укомплектованная в основном помещичьими книгами.
Часть монахов и монашек из ближайших монастырей покинули их и разбрелись кто куда. За теми же, кто остался, сохранили землю, занятую огородами, садами и пасеками, и потому они продолжали существовать пока ещё безбедно.
Говорили, что в Саровском монастыре обосновалась какая-то банда, и красноармейским отрядам, отправлявшимся туда, выгнать её пока не удавалось.
Пуштинское лесничество находилось между Саровским монастырем и Темниковым, а так как ходили слухи, что банда намеревается идти в город, то Стасевичи весной в лесничество почти не ездили. Янина Владимировна, преподавая в школах второй ступени и будучи единственным школьным врачом города, была так занята, что не могла уехать, а отправлять детей с прислугой не решалась. В лесничестве бывал только один Иосиф Альфонсович.
С потеплением занятия в школе, где учился Алёшкин, как-то сами собою почти прекратились, и ученики приходили только позавтракать да побегать по двору и огромному саду, имевшемуся при бывшем Саровском училище. Объясняется такая расхлябанность тем, что школа опять осталась без заведующего. К Пасхе Мария Александровна Пигута так расхворалась, что, несмотря на всё своё мужество и желание, работать уже не смогла. Всё ухудшающиеся материальные условия, постоянное недоедание, огромное нервное напряжение на работе и чрезвычайно тяжёлая домашняя обстановка окончательно подорвали силы бедной женщины.
Её приятельницы и друзья давно и категорически настаивали на том, чтобы она бросила работу и занялась своим здоровьем. Особенно этого добивались Маргарита Макаровна Армаш, Анна Захаровна Замошникова и Янина Владимировна Стасевич.
Не замечали ухудшения состояния здоровья Марии Александровны только её домашние: внуки – по своему малолетству и свойственному детям легкомыслию, а дочь Елена Болеславовна просто не обращала внимания на страдания своей матери. Её безразличие и чёрствость по отношению к родной матери не поддавалась никакому объяснению.
Словно не видя значительного ухудшения материального положения семьи, капризная Лёля продолжала требовать за обедом для себя и своей дочери любимых блюд и кушаний. Тётя Лёля, не стесняясь, забирала себе львиную долю продуктов, добываемых матерью и Полей, не обращая внимания на то, что остаётся матери и племяннику.
Видели это и Мария Александровна, и Боря. И если первая такой грабёж сносила без ропота, ограничиваясь вздохами и укоризненными взглядами, то второй всегда бурно протестовал, чем вызывал очередной скандал.
После одного из таких скандалов Мария Александровна наконец не выдержала и объявила своё решение:
– Хорошо, Лёля, не шуми. Ты знаешь, что у нас сейчас очень плохо с сахаром, доставать его негде, а то, что мне всё-таки удаётся покупать, ты почти целиком забираешь себе и Жене. Это несправедливо. Вот я добыла на следующий месяц пять фунтов сахара. Нас, включая Полю, пять человек. Пожалуйста, не протестуй: Полю я считаю полноправным членом нашей семьи, она уже много месяцев никакого жалования не получает, а между тем, если бы не она, мы бы сидели совсем голодные, да и ходили бы во всём грязном, так что я решила твёрдо. Так вот, сахар мы разделим поровну на всех, и пусть каждый ест свою долю.
Елена спорить не стала. Сахар был пилёный рафинад. Каждому досталось по несколько десятков кусочков. И если Мария Александровна, Поля, а глядя на них, и Боря бережно относились к своему сладкому сокровищу и старались расходовать его экономно, прекрасно понимая, что на следующий месяц можно и вовсе сахара не получить, то и Елена Болеславовна, и Женя, не желая ни о чём думать, съели свой сахар за неделю. После этого, к великому возмущению Бори, обе они стали бессовестно, как он считал, поедать сахар бабуси и даже Поли так, что последним сахара не досталось почти совсем. Всё это происходило ещё тогда, когда бабуся работала, собирая остатки своих сил.
А с весны 1919 года служащим исполкома, где работала Елена Болеславовна, стали давать паёк. Боясь, что на этот паёк будет покушаться мать с племянником и Полей, Неаскина стала питаться отдельно, не отказываясь, впрочем, от приглашений на обед, которые ей передавала по просьбе бабуси Поля. Своих продуктов, как ещё раньше и жалования, Елена в общий котёл не отдавала. Поставила в своей комнате керосинку, привезённую из Петрограда, и несмотря на очень трудное положение с керосином, забираемым опять же из запасов матери, готовила на ней из своего пайка отдельно для себя и Жени.
С апреля 1919 года Мария Александровна Пигута почувствовала себя уже настолько плохо, что была вынуждена согласиться с доводами Стасевич, и попросила отпуск на две недели. Такой отпуск полагался шкрабам (школьным работникам – прим. ред.), как стали называть учителей. Но чуть ли не на второй день этого отпуска внезапно в её здоровье наступило резкое ухудшение. Утром 10 апреля во время приступа рвоты выделилось большое количество алой крови.
Первым, кто увидел тяжёлое состояние бабуси, был Боря. Уже почти ежедневно по утрам у бабуси бывали приступы рвоты, и внук привык, что, просыпаясь (а спали они в разных углах одной комнаты, бывшей столовой), он слышал, как бабуся, нагнувшись над тазом, тихо стонет, стараясь никого не потревожить. В этот день он тоже не особенно удивился, услышав обычные стоны бабуси. Однако, поднявшись, увидел, что бабуся не сидит на своей кровати, склонившись над тазом, а стоит на коленях прямо на полу, голова её лежит на краешке кровати, а на полу около таза очень много крови. Глаза у бабуси закрыты, лицо бледное, как голубое.
Мальчишка испугался и бросился на кухню к Поле. Поля пришла, уложила Марию Александровну на кровать, прибрала в комнате, увела и накормила на кухне Борю, выпроводила его в школу, сообщила о том, что с Марией Александровной, плохо Елене Болеславовне, и убежала к Стасевичам, чтобы позвать Янину Владимировну.
На слова Поли Елена Болеславовна, торопясь на службу, даже не заглянув к матери, пробурчала:
– Ничего не случится, полежит денька два, и всё пройдёт.
Поля, между тем, по требованию Янины Владимировны помчалась в больницу, чтобы передать о случившемся с Пигутой доктору Рудянскому.
Вскоре в квартире Марии Александровны находились уже оба врача. Осмотр больной, опрос, общий вид и известные обоим её предыдущие заболевания постановку диагноза не затруднили – оба согласились на одном: кровотечение из желудка вызвано распавшейся опухолью – раком. Да она и сама, видевшая страдания дочери Нины, ещё гораздо раньше поняла, что её заболевание носит тот же характер, и только никому об этом не говорила. Сегодняшнее ухудшение, к тому же наступившее так внезапно, напугало её. Но боялась она не за себя, а главным образом, за оставляемую ею семью, и в особенности за несчастных детей Нины.
Попросив друзей пока ничего не говорить Елене о её болезни, а также и не сообщать сыну, она дала твёрдое слово, что все врачебные предписания будет выполнять беспрекословно.
Рудянский и Стасевич оказались в очень трудном положении: больная была настолько исхудавшей, что оба они просто поразились, как такая ослабленная и истощённая женщина ещё совсем недавно могла с таким напряжением работать?! Конечно, ей они этого не сказали. Но видели ясно и то, что о каком-нибудь активном лечении, об операции или даже о переводе в больницу невозможно и думать!
Посовещавшись, договорились, что все заботы о больной возьмёт на себя Стасевич, будет её ежедневно навещать, следить за питанием, прописывать необходимые лекарства, а Алексей Михайлович будет являться по её вызову тогда, когда в этом возникнет необходимость.
Рудянский ушёл, а Янина Владимировна, поняв, что единственное, что можно сейчас сделать, это как-то подкрепить организм больной, выяснила у Поли, что в доме, кроме картошки, небольшого количества ржаной муки, постного масла и двух фунтов мяса, продуктов нет, а также нет и денег. Она решила помочь своей старшей, очень уважаемой и близкой приятельнице, чем только возможно. И не обращая внимания на протесты Марии Александровны, Стасевич приказала Поле идти с ней и отправила из дома для больной яйца, сливочное масло, молоко, курицу, сахар и белую муку. Она велела Поле сварить куриный бульон и дать немного Марии Александровне.
Однако все эти яства помочь уже не могли. После нескольких ложек бульона и сваренного всмятку яйца у больной опять открылась рвота, закончившаяся, как и утром, выделением большого количества крови.
Вечером Янина Владимировна принесла приготовленное в аптеке лекарство и объяснила, как его нужно принимать. Два дня больная ничего не ела, пила чай, прописанные лекарства и очень сильно ослабла.
На третий день как будто наступило некоторое улучшение, больная смогла выпить полчашки бульона, съесть одно яичко всмятку. Приём пищи рвоту не вызвал, не было и кровотечения. Больная и врач воспрянули духом. Янина Владимировна ежедневно присылала пациентке свежие продукты: молоко, яйца, масло и, по существу, помимо лечения взяла на себя и все заботы о питании больной.
С болезнью бабуси как-то сразу развалился весь порядок в доме, и внук очутился в положении полного безнадзорья. Поля была настолько занята хозяйством и хлопотами по уходу за больной, что не могла уделять ему внимания и, лишь наскоро чем-нибудь покормив, торопилась выпроводить его в школу.
В школе же с уходом Марии Александровны тоже многое пошло вразброд. Замену ей найти не смогли. Многие педагоги стали пропускать занятия без каких-либо причин, да и ученики, особенно той группы, которая была ранее под её наблюдением и где учился Боря, стали с уроков убегать иногда всей группой. Глядя на них, стали делать это и другие группы.
Оставленный Наробразом временным заместителем заведующего школой учитель рисования не чаял, когда наступит конец учебного года, так как справиться ни с учениками, ни с учителями не мог.
Елена Болеславовна на племянника никакого внимания не обращала. Да и к больной матери она заходила раз в несколько дней, всегда торопясь как можно скорее от неё уйти. Женю к больной бабушке она не допускала совсем. Боря, наоборот, бывал у бабуси часто, хотя и не очень долго. По её просьбе он читал ей вслух рассказы Чехова, Гоголя и стихи Некрасова, которые она очень любила. Но с наступлением тепла и возможностью проведения игр на воздухе ему пребывание с больной тоже наскучило, и он стал забегать к бабусе всё реже и проводить у неё всё меньше времени.







