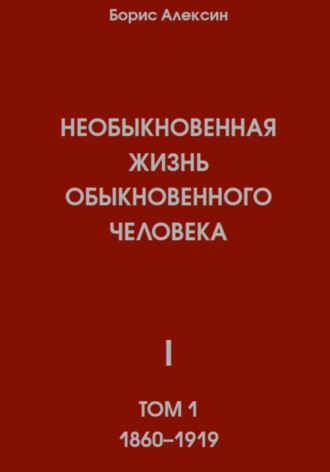
Борис Яковлевич Алексин
Необыкновенная жизнь обыкновенного человека. Книга 1. Том 1
Глава вторая
Контора, в которой служила машинисткой Елена Болеславовна Неаскина (урожд. Пигута), принадлежала французской фирме, торговавшей различными предметами женского туалета и имевшей в Петербурге свои магазины. После 1906 года в обеих столицах появились магазины и других фирм: английских, бельгийских и немецких. Все они торговали такими же товарами. Конкуренция привела к значительному снижению доходов французской фирмы. Стремясь сохранить их, а при возможности и увеличить, руководители конторы стали принимать меры к привлечению покупателей в провинции. Однако открывать магазины в небольших городах фирме было невыгодно, поэтому решили вести реализацию своих товаров через местных торговцев.
Для оформления комиссионных договоров с владельцами мелких магазинов набрали штат специальных агентов, развозивших образцы товаров и заключавших договоры на их продажу. На должность таких агентов набирались молодые разбитные люди, обычно младшие сынки петербургских купцов, которые с охотой шли на эти должности. Надежд на наследство у этих купеческих отпрысков было маловато, всё доставалось старшим. Дома их заставляли работать приказчиками в лавках отцов, держали под строгим контролем и суровым домашним присмотром, а тут получалась полная свобода и неплохой заработок. Были это молодые люди, умевшие красиво говорить, выглядевшие весьма презентабельно и довольно элегантно, так как подбирались и по внешнему облику.
Вот в одного такого агента-коммивояжёра и влюбилась тридцатилетняя Елена Болеславовна, жившая уже почти два года в одиночестве. Ваня (так звали этого молодца) был хорош собой: высок, строен, с чёрными, всегда подвитыми и надушенными усами, с красивыми вьющимися чёрными кудрями и большими карими глазами. Заметив склонность, проявляемую к нему старой девой, как между собой звали эти шалопаи машинистку конторы, он не преминул использовать своё положение.
Через два месяца после знакомства Ваня поселился в комнате Неаскиной, и они зажили как муж и жена. На оформлении брака она не настаивала по той причине, что была уже замужем, а официального развода не имела и даже не знала, где находится её законный муж.
А Ванечке это было на руку. Сожительствовать с молодой, ещё красивой, всегда очень элегантно одетой, образованной и сравнительно неплохо обеспеченной женщиной и не быть формально ничем с нею связанным – для людей такого рода, как этот вертопрах, было чуть ли не идеалом жизни.
Ванечка – младший сынок одного из небольших петербургских купцов, не сумевший из-за лени и бесконечных кутежей и гулянок окончить даже коммерческое училище. Он был легкомысленным и довольно пустым человеком. Под его красивой внешностью и некоторым лоском скрывалась неприглядная натура. Елена ничего этого не замечала и считала, что она наконец-таки обрела своё счастье. Они и на самом деле первое время были как будто счастливы. Так длилось около года.
Но вот в конце 1907 года Елена забеременела, а летом 1908 года и родила. Появился третий член семьи – маленькая дочка Женя. Молодая мать вынуждена была оставить службу. Материальное положение семьи резко ухудшилось, пришлось продавать остававшиеся вещи, но бедность неумолимо надвигалась. Ваня вытерпел около года, а затем в один далеко не прекрасный день он, смотревший на связь с Еленой как на нечто временное, заявил, что ещё слишком молод, чтобы обзаводиться детьми, собрал свои вещички и был таков.
Об этой связи ни отцу, ни матери до сих пор Лёля ничего не сообщала, заранее зная, что одобрения за этот поступок она не получит ни от одного, ни от другого. С отцом она совсем не переписывалась, а матери посылала короткие открыточки, главным образом, к праздникам. Более или менее регулярную переписку она поддерживала с братом Митей, но и ему подробностей о своей связи не открыла. И только забеременев, сообщила, что, кажется, нашла своё счастье и ждёт ребёнка.
После ухода Вани у Неаскиной сложилось такое безвыходное положение, что она решилась обратиться за помощью к отцу. В сентябре 1909 года Дмитрий Болеславович Пигута получил письмо от отца, к которому прилагалась и отчаянная просьба о помощи от Лёли. Она признавалась отцу, что сошлась с молодым человеком, от которого у неё родилась дочь. Сообщала она также, что её второй муж, с которым она жила, не венчавшись, её бросил. Она просила отца приютить её с дочерью хотя бы на год, пока дочка подрастёт, и она сможет идти работать.
Не отвечая дочери, Болеслав Павлович написал сыну: «Дорогой Митя! Посылаю тебе письмо Лёли. Уведомь её, что потакать её развратному поведению я не намерен. Денег ей не вышлю и приезжать в Рябково не разрешаю. Папа. 15 сент. 1909 г. Рябково».
Прочитав письмо отца, и Митя, и Анюта были очень удивлены. Особенно таким отношением к родной дочери была возмущена Анюта, однако, когда её муж предложил взять на время Лёлю к себе, она также решительно запротестовала. Переубедить жену Дмитрий не сумел и решил сделать по-другому. Он взял за месяц вперёд жалование, перевёл деньги сестре. Сообщая о переводе, он рекомендовал Лёле поехать с дочкой к матери в Темников, обещая помогать им обеим материально.
Давая такой совет, он ничего не сказал жене, чем ещё больше вооружил её против них. Кроме того, он недостаточно взвешивал и свои ресурсы. Дело в том, что, относясь к своей профессии санитарного врача несколько идеалистически, он считал, что только высокая принципиальность, серьёзная требовательность к выполнению всех правил и положений санитарного надзора в состоянии обеспечить действительное оздоровление населения.
Он, однако, совершенно не учитывал, что его деятельность происходила в условиях бюрократически-чиновничьего царского строя и что даже самые ближайшие начальники его этой принципиальности не понимают и не одобряют, а те, от кого он требовал безукоризненного выполнения санитарных правил, вообще смотрят на него как на чудака. Все эти гласные городской думы, почётные и именитые граждане города Медынь, в большинстве своём лавочники, владельцы всевозможных кустарных мастерских и предприятий считали, что должность санитарного врача – это должность чиновника при земстве, который должен шуметь по поводу невыполнения каких-то там не очень известных правил, но должен и немедленно прекращать всякие разговоры на эту тему, как только ему сунут на лапу. Поэтому стоило только Дмитрию Болеславовичу обнаружить у кого-либо из этих хозяйчиков какой-либо непорядок, как ему предлагалось солидное угощение, а то и просто совали барашка в бумажке, как тогда ласково называли взятку. Когда же санитарный врач с гневом отвергал это подношение и всё-таки составлял соответствующий протокол, по которому приятели этих хозяйчиков, заседавшие в городской управе, скрепя сердце вынуждены были их штрафовать, причём иногда на крупную сумму, то в лице такого хозяйчика и его друзей он приобретал серьёзных врагов.
За свою недолгую бытность в Медыни он врагов нажил немало. Земское жалование санитарному врачу было, видимо, в своё время и определено, исходя из учёта порядочных побочных доходов, потому оно было невелико. Лечебной практикой Пигута не занимался, Анна Николаевна не работала, так как Медынь был слишком маленьким городком, и для сестры милосердия места не было. Все ранее полученные деньги ушли на всевозможные приобретения, связанные с поселением на новом месте, так что даже при большом хозяйственном умении Анюты, заложенном в ней с детства, они едва сводили концы с концами. Между прочим, именно это положение и заставило её так категорично протестовать против приезда Лёли к ним.
Получив телеграмму Мити, а вслед за нею и деньги, Елена Неаскина быстро собралась и, даже не уведомив предварительно мать, выехала в Темников. Первого октября 1909 года она вместе со своей годовалой дочкой явилась к Марии Александровне. Мать очень обрадовалась приезду дочери с внучкой и встретила их с распростёртыми объятиями. Дорогим гостям она отдала свою спальню, сама переселилась в комнату Даши, а Даша стала спать в столовой.
Всё это делалось в расчёте на то, что Лёля приехала в гости, и что через две–три недели уедет в Петербург. Мария Александровна и не предполагала, что дочь брошена и вторым своим мужем и что в данный момент она без работы, а ребёнок её фактически без отца. По существовавшим законам дочь Елены Болеславовны формально считалась дочерью её первого мужа, носила его фамилию и отчество. В свою очередь, Елена, видя, что мать о её положении ничего не знает, не торопилась рассказывать о своём несчастье, надеясь, что всё это потом как-нибудь утрясётся.
Но через неделю всё раскрылось: пришло письмо от Мити. В этом письме он описывал всё происшедшее с Лёлей, рассказал о её неудачной попытке просить помощи у отца и сообщил так же, что это новое безрассудное увлечение старшей дочери и его последствия рассердили Болеслава Павловича и привели его в такое большое душевное расстройство, что он заболел и настолько сильно, что вынужден был слечь в постель.
Сетовал Митя и на то, что возле больного отца нет никого из близких. Сам он не может оставить работу, а отец нуждается в заботливом уходе. Ведь ему уже более шестидесяти лет, добавлял он. Возвращаясь в конце письма снова к положению сестры, Митя просил мать оставить Лёлю пока у себя, обещая оказывать кое-какую материальную помощь.
Получив письмо сына, Мария Александровна и взволновалась, и очень рассердилась. Особенно её огорчило то, что дочь, живущая у неё уже более недели, о своих затруднениях матери ничего не рассказала до сих пор и не обратилась к ней за помощью сама, а старалась переложить тяжесть этих объяснений на брата. Обеспокоило её и сообщение о болезни мужа.
В тот же вечер у Марии Александровны и Даши состоялся долгий задушевный разговор, и утром следующего дня последняя уже усаживалась в большой тарантас, вызванный с ямской станции Каримовых, а затем ехала по грязной осенней дороге в Торбеево, чтобы сесть на поезд, добраться до Костромы, а оттуда и в Рябково. Через несколько дней она туда благополучно прибыла и сразу же принялась там хозяйничать, как будто никуда и не уезжала.
К её приезду Болеслав Павлович поправился, начал свои обычные амбулаторные приёмы и обходы в больнице, но ещё не выезжал с визитами. Приезд Даши он воспринял как что-то само собой разумеющееся, радости не показывал. Но в глубине души считал, что это первый шаг к примирению, а следующим, может быть, будет возвращение и самой Марии Александровны. Однако Дашу он ни о чём не расспрашивал.
Забегая вперёд, скажем, что Даша, вернувшись в Рябково, так и прожила в нём до самой своей смерти на положении экономки Болеслава Павловича, самоотверженно ухаживая за ним и регулярно сообщая Марии Александровне обо всех рябковских событиях.
В день отъезда Даши между матерью и дочерью произошёл неприятный и трудный для обеих разговор. Вернувшись из гимназии и застав дочь только что поднявшейся с постели, что, между прочим, стало обыденным с первого же дня приезда Елены, Мария Александровна отправила Аню Шалину с Борей гулять, а дочь позвала в гостиную. Там она откровенно высказала ей своё мнение о её поведении, рассказала о том, как этот поступок повлиял на Болеслава Павловича, и, в конце концов, заявила следующее:
– Вот что, Лёля, я не виню тебя в том, что ты полюбила во второй раз и сошлась с человеком, не проверив его. Сердцу не прикажешь. А легкомысленные поступки совершают люди и постарше тебя. Мне обидно другое. Мне обидно, что ты мне, матери, сама ничего не рассказала, надеясь на Митю. Это показывает, что ты меня не уважаешь, и это для меня и больно, и горько. Ну да Бог с тобой, в конце концов, это дело твоей совести. Я если и обижена тобой, то эту свою обиду на твою дочь, а на мою внучку, конечно, не перенесу. Законная она или незаконная в глазах общества – для меня она всё равно внучка. Как бы ты ко мне ни относилась, Женю я всё равно буду любить. Теперь другое. Должна же ты понять, что жить, бездельничая, нельзя, моего жалования на всех не хватит. Обирать Митю я не хочу, от отца, как ты уже знаешь, тебе ждать нечего, поэтому я тебе ставлю условие: хочешь у меня жить – живи, на улицу ни тебя, ни твою дочь не выгоню, но изволь немедленно устраиваться служить!
Елена пыталась оправдаться, затем расплакалась и, как у неё бывало обычно, стала обвинять всех и вся, и прежде всего своих ближайших родных в бездушии и чёрствости.
Мария Александровна на истеричные крики Лёли особого внимания не обратила, а довольно строго заметила:
– Замолчи! Нечего обвинять кого-то. Прежде всего во всем виновата ты сама. Перестань рыдать, выпей воды, успокойся. Потом, ты ведь знаешь, что и в детстве вашем на меня такие слёзы впечатления не производили, так что и сейчас не думай, что ими меня разжалобишь. Сколько бы ты ни плакала, а я всё равно сидеть тебе без дела не позволю. И если ты останешься в Темникове, то будешь работать. Я не требую, чтобы ты завтра же бежала наниматься куда попало, но думать об устройстве на службу и принимать к этому соответствующие меры ты должна. Пойди умойся! Да выйди погулять, а то целыми днями сидишь дома.
А Лёля и на самом деле жила как затворница. Ни Стасевичи, ни учительницы из гимназии, с которыми её познакомила Мария Александровна, ей не нравились: все они говорили о каких-то своих, совершенно ей неинтересных, скучных делах или о мелких событиях Темникова, что её совсем не интересовало. Поэтому большую часть своего времени она проводила за чтением различных книг, в большинстве своём лёгких переводных романов из библиотеки Травиной.
Да, пожалуй, и винить-то Елену Болеславовну в стремлении к уединению было трудно. В течение последних трёх лет она перенесла две тяжёлые трагедии в своей личной жизни и потому смотрела на всех людей с неприязнью и недоверием. Видеть же чью-либо счастливую семейную жизнь она просто не могла.
Странные отношения, между прочим, сложились у неё с племянником Борей. Было ему в эту пору немногим больше двух лет, и он, как все дети этого возраста, будучи ласковым и общительным ребёнком, беспрестанно лез ко всем взрослым, в том числе и к тёте Лёле. Ведь весь день, пока Мария Александровна и Аня Шалина были в гимназии, тётя Лёля находилась дома, и было бы вполне естественно, если бы она возилась с обоими детьми. Но этого не случалось.
С первых же дней своего пребывания в Темникове Елена оттолкнула от себя племянника и не только не пыталась чем-либо занять его или поиграть с ним, но и не приласкала никогда. Это вызвало ответную реакцию мальчика, и если вначале он доверчиво подходил к тёте Лёле (как её звала бабуся), то после того, как она несколько раз грубо прогнала его от себя, он уже к ней ни за чем не обращался. Очевидно, привыкнув к ласковому и внимательному отношению к себе со стороны всех окружающих взрослых, он был серьёзно обижен.
Между прочим, и со своей дочерью, которую она как будто любила, Елена Болеславовна тоже почти не нянчилась. Приехав, она сразу же сдала её на полное попечение няни Марьи. Купала Женю бабуся, а всё остальное делала няня.
Марья не раз говорила кухарке Поле:
– И что это, прости Господи, за мать. Ведь даже и не посмотрит на своего ребёнка-то. Иногда возьмётся кормить её, сунет ложку каши и уткнётся в книжку. А меня не замечает, как будто я и не человек вовсе. Вон Мария Александровна, та всегда и поговорит, и пошутит, и побранит когда, так чувствуешь, что ты для неё такой же человек, как и она. А эта? Не дай Господь у такой в прислугах быть. Только вот Женюрку-то и жалко: девочка растёт такая спокойная, уже всё понимать начинает.
– Оставь, Марьюшка, эти пересуды, – рассудительно отвечала Поля, – Бог с ними, пусть уж сами разбираются, что к чему. У них, у господ-то, видно, всё не по-людски. Вон посмотришь на Борю – ведь словно сиротинка растёт, это при живых-то отце и матери! Кабы не Анюта наша, так ему бы и ласки настоящей не видать, а она ему как всё равно родная мать, ну да что и говорить: ведь из простых сама-то, вот и понимает. Правда, бабуся-то наша тоже в нём души не чает, тоже его ласкает, а всё не то, не материнские эти ласки-то.
Днём, когда дома оставалась только прислуга и Елена Болеславовна, Боря часто околачивался, как говорила Поля, на кухне, и потому многие из этих разговоров слышал, запоминал и позднее, когда научился говорить, кое-что из услышанного выбалтывал иногда в совсем неподходящий момент, чем вызывал возмущение взрослых и, конечно, суровый нагоняй прислуге.
Прошло около месяца, все попытки Елены Болеславовны найти службу по специальности успехом не увенчались.
В самом деле, в то время в Темникове найти работу машинистки было невозможно хотя бы только потому, что ни в одном из темниковских учреждений пишущих машинок не было. Многие даже и не представляли, что это такое. Делать же что-либо иное, кроме печатанья на машинке, она не умела, да и не хотела. Вообще, пребывание в Темникове начало тяготить молодую женщину. Она привыкла к шумному весёлому Петербургу, к частым посещениям театров, концертов, ресторанов. А в последнее время в Петербурге появился и ещё один вид зрелищных развлечений – «иллюзион». В Темникове ничего похожего не было и в помине.
Единственные развлечения – гастроли каких-либо заезжих третьеразрядных артистов, выступавших изредка в дворянском клубе при уездной управе, или любительские спектакли, устраиваемые с благотворительной целью гимназистами и гимназистками старших классов, посещаемые с большим интересом темниковскими жителями, Неаскину удовлетворить не могли. Поэтому она всё чаще и чаще стала подумывать об отъезде из этого города обратно в столицу. Но ехать в Петербург с незаконной дочерью было невозможно. Ей было бы очень трудно найти достаточно удобную и недорогую квартиру, ещё труднее было бы найти няньку, которую, кстати сказать, было не на что содержать. Да и наконец, её просто ни в одну порядочную контору не взяли бы, узнав, что у неё есть незаконный ребёнок.
Так она и сказала матери. А та уж и сама видела, что со службой в Темникове у Лёли ничего не получится. Прекрасно понимала она, что и в Петербурге Лёля с дочкой прожить не сумеет.
Мария Александровна уже успела привязаться к Женюре, кроме того, она думала: Борю Нина скоро заберёт, и опять ей придётся остаться одной. А если останется Женя, то и самой будет веселее, и девочка останется под хорошим присмотром. И она решила оставить внучку у себя, пока Лёля не наладит свою семейную жизнь или не устроится как следует в Петербурге.
Через месяц Елена Болеславовна уехала в Петербург.
* * *
В конце 1909 года Яков Матвеевич Алёшкин должен был закончить Виленскую унтер-офицерскую школу, а так как он имел хорошую специальность и остаться на кадровой службе в армии не собирался, то начал готовиться к возвращению домой. Хотя, собственно, дома-то у него ещё и не было. Его взяли в армию сразу после окончания курсов, он не успел получить назначение от Главного переселенческого управления и не имел ни малейшего представления о своём будущем местожительстве.
«А в самом деле, куда-то меня назначат? – думал он длинными зимними вечерами, сидя где-нибудь в карауле. – Ну, да ладно, куда ни пошлют, хуже, чем в солдатах, не будет. Теперь уж недолго осталось. Через каких-нибудь полгода всё разрешится, я смогу забрать своих – Нину и Борьку, отправиться в какой-нибудь, пусть самый отдалённый город и обосновать там свой дом. Трудно будет, конечно, на первых порах, ну да ничего: мы с Ниной молоды, оба имеем профессию, будем работать. Всё будет хорошо».
О жизни своего сына Алёшкин имел самые подробные сведения. Почти еженедельно он получал письма из Темникова, в которых описывался чуть ли не каждый день жизни Бори: и как он начал ходить, и как он произнёс первое слово «мама», и как он научился говорить «папа» и «бабуся».
Писали Якову Матвеевичу о приключении со змеем. Одним словом, Боря был почти что с ним, и это – благодаря письмам Марии Александровны Пигуты или, как он теперь её называл, бабуси и Анны Николаевны Шалиной, которая довольно часто писала ему вместо бабуси, как она подчеркивала, по её просьбе.
Вот с Ниной стало твориться что-то неладное. Она и раньше писала довольно редко, а в последнее время совсем замолчала. Уже почти полгода прошло, а от неё не было ни одной весточки. Нет ответа уже на три его письма. Может быть, заболела, но тогда бы тем более должна написать.
Своё беспокойство Алёшкин выразил в очередном письме тёще, а та не преминула сейчас же попенять Нине. И каково же было её удивление, огорчение и даже гнев, когда она получила от Нины ответ, в котором, между прочим, было сказано: «Милая мама, я убедилась, что моё замужество было ошибкой. Я не люблю Якова и, к сожалению, поняла это слишком поздно. Сейчас я встретила другого человека, которого действительно полюбила и который, я уверена в этом, будет моим мужем до конца моей жизни. Я уже живу с ним как с мужем. Всё не решаюсь написать об этом Якову. Мне жаль его, но мы ошиблись, и теперь надо эту ошибку исправлять. Буду просить его о разводе. Само собой разумеется, что Борю я не отдам ему ни при каких условиях…»
В течение долгой бессонной ночи, проведённой Марией Александровной после получения такого послания, она много передумала. Плакала, принималась снова перечитывать письмо, как будто надеясь найти в нём что-нибудь новое или непонятое ею раньше. К сожалению, письмо, будучи до предела кратким, сообщало тяжёлые вести таким простым и ясным языком, что думать о какой-либо ошибке было невозможно.
– Господи! За какие же грехи мои ты посылаешь мне такие тяжкие испытания? Ты наказал меня саму, но теперь ты продолжаешь наказывать меня в моих детях. За что, Господи? – так шептала сквозь слёзы бедная старушка. – Сперва развалилась семья у Лёли, потом это опрометчивое сожительство с другим, видимо, очень плохим человеком. Вероятно, теперь у неё никогда уже семьи не получится. А сейчас ещё одно испытание: точно такое же положение и у Нины. Серьёзно ли её увлечение? Что это за новый человек? Яша, по-моему, такой добрый и хороший. О чём же Нина думала раньше? А о ребёнке она подумала? Бедный Боря, помоги ему, Господи! – так молилась в своей тёмной спальне, глядя на кроватки ребят, Мария Александровна.
Конечно, она не могла скрыть содержание этого письма от Ани Шалиной, которая жила в её доме на правах члена семьи, а через некоторое время рассказала об этом и Стасевичам.
Аня отнеслась к поступку Нины с ещё более суровым осуждением, хотя, конечно, вслух ничего не говорила. Хорошо узнав по часто получаемым письмам Якова Алёшкина, Аня видела, что он душевный, развитой и интересный человек. Что, несмотря на свою молодость, он очень серьёзен и в то же время добр. Переписываясь с ним о его сыне, она втайне очень завидовала Нине и, привязавшись к Боре и к его отцу, очень бы хотела быть на её месте. Эти сокровенные мысли, однако, были такой глубокой тайной, что девушка не только никогда и никому не открылась бы, но даже и самой себе не решалась и стыдилась в них признаться.
Но ведь она была молода, даже очень молода, и потому нет ничего удивительного, что в глубине души она даже обрадовалась тому, что произошло. Конечно, и эти свои мысли она не доверила бы никому.
Долго думала Мария Александровна над тем, что и как ответить Нине, несколько раз принималась за письмо, рвала его и писала новое. Она бранила Нину за легкомыслие, но в то же время не могла и не согласиться с ней, что жизнь с нелюбимым человеком до добра не доведёт, и может быть, Нина и хорошо поступила, что порвала с Яковом вот так сразу, не унижая себя до роли любовницы.
Но ведь она ещё не порвала, она ему ничего не написала до сих пор, необходимо ей посоветовать, чтобы она ему скорее всё сообщила. Но… Так и не сумев написать Нине толковое письмо, Мария Александровна решила промолчать.
Прошёл 1909 год. В январе 1910 г. Марии Александровна получила письмо от Якова. Начиналось оно так: «Дорогая бабуся, если вы ещё позволите мне так вас называть! Сообщаю вам, что я получил от Нины Болеславовны ужасное письмо…» Далее он писал, что Нина, уведомляя его о своём желании расторгнуть брак, который, по её словам, был ошибкой, просит его дать своё согласие на развод, так как она хочет выйти замуж за другого человека. Он, конечно, согласился на развод, хотя и сама просьба, и то, как она была сделана, глубоко его оскорбили. «Но, – писал он, – насильно мил не будешь! Однако я считаю, что так как я пока жениться не собираюсь, то сын должен остаться у меня. Я все свои силы отдам на его воспитание, а у неё другие дети пойдут, и ей будет не до Бори. Я не хочу, чтобы мой сын при живом отце воспитывался чужим человеком».
В заключение письма он просил разрешения о том, чтобы после своей демобилизации, которая должна скоро произойти, заехать перед отправкой к месту своей службы в Темников, чтобы взять Борю, которого он, кстати сказать, до сих пор ещё вообще не видел. Мария Александровна немедленно отправила ему ответ и не только разрешила заехать, но даже просила его об этом, уговаривая также погостить у неё, сколько он сможет.
Через некоторое время после отправки ответа Алёшкину бабуся показала его письмо Ане и рассказала содержание своего ответа. Та отчего-то смутилась, покраснела и тихо проговорила:
– Я, бабуся, конечно, найду себе комнату и немедленно, как только приедет Яков Матвеевич, перееду от вас.
Мария Александровна внимательно посмотрела на неё.
– Это ещё почему? Места всем хватит, не передерёмся. Да я без тебя и с Борей-то не справлюсь. Нет-нет, и говорить не о чем! Будешь жить, как жила. Не бойся, к тебе в комнату его не поселю.
Но заметив, как Аня покраснела ещё сильнее и из её голубых глаз вот-вот брызнут слезы, она встревоженно спросила:
– Да что с тобой, Анюта? Отчего ты так покраснела-то? Что такое? Может быть, я тебя обидела чем-нибудь? Так скажи.
Но Анюта ничего не ответила, лишь быстро выскочила из комнаты и помчалась в детскую, где играли дети. А через несколько минут из детской донёсся заливистый хохот Бори, которого девушка подбрасывала высоко к потолку и приговаривала:
– Ну вот, ну вот, скоро своего папу увидишь! Эх ты, не понимаешь ничего, папа скоро приедет!
А мальчик действительно ничего ещё не понимал, его просто радовали эти сильные, ласковые руки, которые умели так высоко подбрасывать его маленькое тельце и так бережно ловить его. И он заливисто хохотал, в то время как маленькая Женя, уцепившись за юбку тёти Ани, канючила:
– И меня, и меня!
У неё, правда, пока ещё это получалось так:
– И-м-я-я, и-м-я-я!
Мария Александровна задумчиво смотрела в открытое окно, вдыхая аромат жасмина, который распространял огромный куст, росший у самой стены дома. Она улыбнулась и тихо сказала:
– А может, так будет и лучше? Господи, Господи, тебе лучше знать, помоги им всем, пусть они найдут своё счастье, кто и как сможет!
* * *
Когда осенью 1908 года Нина Болеславовна Алёшкина вернулась в Петербург и приступила к работе в клинике профессора Фёдорова в качестве хирурга-ординатора, вначале она была так загружена своими новыми обязанностями, что времени оставалось только на сон. Но вскоре она освоилась, у неё появилось свободное время. Материальное положение тоже стало лучше. Как ни мало было жалованье ординатора, его всё-таки хватало не только на еду, квартиру и приличную одежду, но оставалось кое-что и на развлечения. Тем более, что бабуся ей категорически запретила присылать деньги на содержание Бори.
Теперь Нина получила возможность посещать театры, бывать на вечерах с танцами, устраиваемых разными клубами и высшими учебными заведениями. Кроме того, Нина ещё с детства очень любила кататься на коньках и довольно часто посещала катки. На одном из них она и встретила своего нового мужа.
Это был высокий, стройный молодой человек, с карими глазами и красивыми тёмно-каштановыми волосами. Он был, конечно, гораздо красивее её Якова.
Познакомившись с Ниной, Николай Геннадиевич Мирнов, так звали его, проводил её до дома. При расставании договорились о новой встрече на катке.
Постепенно Нина узнала, что Мирнов родом из Костромы, значит, почти земляк; а он, узнав, что она дочка Болеслава Павловича Пигуты, известного в Костромской губернии врача, заявил, что уверен – она станет таким же отличным врачом.
Встречи их становились всё чаще и продолжительнее. После катка или после концерта, зайдя в какой-нибудь недорогой ресторан, за скромным ужином они продолжали рассказывать каждый про себя. Вряд ли бы они смогли объяснить, чем была вызвана эта потребность, это стремление всё рассказать о себе. Возможно, их зарождавшаяся склонность друг к другу, а может быть, и просто молодость, всегда стремящаяся открыться вся. Ведь им обоим было всего по двадцать пять лет.
Как бы то там ни было, а через месяц они знали друг о друге всё. Николай Геннадиевич узнал, что Нина замужем, что у неё есть ребёнок – сын Боря, который живёт у мамы в г. Темникове, что её муж находится на действительной службе в армии в городе Вильно, и что он окончит срок службы к началу 1910 года.
Рассказывая про мужа, Нина почему-то про свои чувства к нему ничего не сказала. В свою очередь, она узнала, что Николай холост, что его отец (акцизный чиновник) умер два года тому назад, что первый год после его смерти им пришлось очень трудно, так как мать из-за каких-то формальностей долго не могла получить причитающейся за отца пенсии. Теперь же Анна Петровна Мирнова, так звали его мать, сама служит сидельцем (устар. Лавочник, торгующий в лавке по доверенности купца – прим. ред.) в винной лавке – как их тогда называли, казёнке (устар. Казённая винная лавка – прим. ред.) или монопольке (простореч. устар. Казённая винная лавка – прим. ред.). Теперь она получает и жалование, и пенсию, и в состоянии содержать сыновей: его и брата Юрия – гимназиста шестого класса.
Сам Николай окончил в 1906 году гимназию и в этом же году, приехав в Петербург, поступил на курсы инструкторов-пчеловодов, подготавливаемых для уездных земств, которые должен был закончить в 1909 году. Первое время жить ему в Петербурге было очень трудно, это совпало со смертью отца, и чтобы заработать на пропитание, пришлось по ночам работать официантом в одном из петербургских клубов. Но теперь он нигде не работает, а только учится: мать высылает достаточно.
Они подружились. Она давно уже звала его Колей, как и он её Ниной. А через несколько месяцев молодые люди поняли, что они друг друга любят. С Колей это случилось в первый раз. Нина же, как впоследствии говорила матери, только теперь поняла, что она никогда и не любила Алёшкина, что её брак был ошибкой и что углублять эту ошибку преступно.







