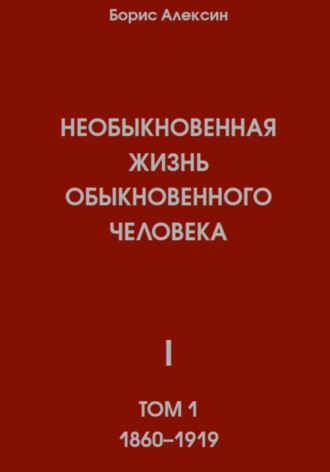
Борис Яковлевич Алексин
Необыкновенная жизнь обыкновенного человека. Книга 1. Том 1
Приехав, Дмитрий Болеславович побывал в клинике Петрова и выяснил, что операция перенесена на 21 января. Мать он застал в очень плохом состоянии. От пережитых волнений, связанных с болезнью дочери и внука, у неё обострилось собственное заболевание. Она бодрилась, но было видно, что держится из последних сил. В этот же день вечером Дмитрий получил телеграмму из Кинешмы, в которой сообщалось о начавшихся родах у его жены и о том, что идут они не совсем благополучно. Показав телеграмму матери, он ночью выехал домой.
Отдохнув несколько дней, Мария Александровна почувствовала себя лучше и снова стала дежурить у постели больной дочери. Пока она отсутствовала, её заменяла Анна Константиновна, жившая с ней в гостинице.
Марию Александровну уже давно звала к себе Варвара Павловна Шипова (дочь старшего брата Павла), жившая в Москве в собственном домике на Плющихе. Ранее Пигута отказывалась от этого приглашения, считая неудобным стеснять малознакомую родственницу, но тут решила воспользоваться им: проживание в гостинице стоило очень дорого – это, во-первых, а во-вторых, Анна Константиновна, у которой кончался отпуск, должна была возвращаться в Темников, и Мария Александровна просто боялась оставаться в гостинице одна.
Из её письма сыну от 17 января 1916 года мы видим, как это всё происходило: «Варвара Павловна Шипова, с которой я наконец-то увиделась и смогла о многом поговорить, мне много помогает. Я решила перебраться к ним, у них как раз освобождается комната на двоих – кровать и кушетка; мы обе (тут подразумевалась она и Нина после выписки из больницы) там и поместимся. Нину меньше тошнит, она хорошо переносит молоко. Сегодня съела немного икры. <…> Без совета с тобой я не решусь Нину никуда перевозить».
Последняя фраза была вызвана тем, что перед отъездом из Москвы Дмитрий стал уже подумывать, чтобы взять Нину из клиники Петрова при Московском медицинском институте и поместить её в какую-нибудь частную лечебницу. Это настоятельно советовали ему многие знакомые, в частности, и Околовы, обещая, если нужно, помочь и средствами. Естественно, что пребывание в частной лечебнице стоило бы в несколько раз дороже. Но он пока на перевод сестры не решился.
Это письмо было отправлено вечером 17 января 1916 года, а уже вечером 18 января Мария Александровна получила известие от Дмитрия, сообщавшего о рождении у него сына и о том, что Анна Николаевна после родов чувствует себя плохо, подхватив в больнице какую-то простуду. Он сообщал также, что в ближайшие дни приехать не сможет.
В этот же день Мария Александровна вновь пишет сыну. Извещая его о том, что письмо его получила, одновременно она ставит его в известность и о тех расходах, которые ей пришлось произвести: «Заплатила ночной специальной сиделке за 14 дней по 1 руб. 50 коп., то есть 21 рубль. Заплатила в контору больницы с 30/XII по 30/I по 4 руб. 50 коп. за день – 135 рублей и перевела в Николо-Берёзовец 30 рублей на имя С. А. Тихомирова. <…> Нина хорошо пьёт молоко и ест понемногу икры. Вместо льда теперь часто полощет рот кипячёной водой. <…> Сегодня Рейн разрешил Нине посидеть, усадили её в подушках, но после ей было очень нехорошо, жаловалась, что ей дурно, и на боль в животе. <…> Напиши, пожалуйста, что у тебя дома, как здоровье Анны Николаевны и малютки. <…> Я думаю, Нине можно сказать, что к детям поехала Анна Петровна Мирнова, а то она беспокоится. Мама».
Как видно из приведённых отрывков письма Марии Александровны, все её мысли были поглощены в это время состоянием дочери, даже известие о рождении у сына долгожданного ребёнка она восприняла как-то между прочим. Это, очевидно, можно было объяснить тем, что Нина со своими страданиями была тут, рядом, а Митя и его ребёнок – где-то вдали. Кроме того, и письмо сына почти всё было занято советами и вопросами, касающимися Нины и её лечения, а о жене и ребёнке он сообщал очень мало.
Впоследствии, когда Анна Николаевна нашла у мужа это письмо матери, в котором в такой трудный для себя момент она не нашла ни одного ласкового слова, обращённого к ней или её сыну, кроме простых банальных фраз о здоровье, она не смогла понять состояния Марии Александровны и возненавидела уже не только её, но и Нину вместе с её детьми. Это было, конечно, несправедливо, но такой эмоциональный и самолюбивый человек, каким была Анна Николаевна, видимо, иначе и не мог чувствовать.
Наконец, день операции Нины Болеславовны был окончательно определён – 22 января 1916 года.
При последнем обходе Николай Николаевич Петров пришёл к выводу, что дальнейшее промедление уже невозможно, и решился произвести операцию, несмотря на то, что больная была очень слаба.
Мария Александровна немедленно телеграфировала сыну, но тот приехал только через два дня после операции. В беседе с профессором Дмитрий Пигута выяснил, что опухоль желудка оказалась значительно больших размеров, чем предполагалось при наружном осмотре, что отдельные узлы её прощупывались и в печени, и в поджелудочной железе. Практически при таком состоянии больной операция была уже бесполезной. При подобном распространении заболевания надеяться на благополучный исход было невозможно. Однако Петров решился всё-таки на удаление части желудка (резекцию) с опухолью, и эту операцию произвёл.
Больная, несмотря на большую слабость и истощение, операцию перенесла удовлетворительно. Сравнительно легко прошли и последствия наркоза. Однако, как и предполагал Петров, улучшения общего состояния не произошло. Разрушение печени и других жизненно важных органов было велико и после операции стало прогрессировать настолько быстро, что очень скоро наступила общая интоксикация всего организма. Состояние Нины с каждым днём, с каждым часом становилось хуже.
В день операции, а также и на следующий день Марию Александровну к дочери не пускали. А затем доктор Рейн, дав разрешение на посещение больной, предупредил, что положение Нины Болеславовны безнадёжно.
Это сообщение, а также и вид дочери, так потрясли мать, что она, вернувшись из больницы, слегла сама. Одновременно с общим нервным расстройством у неё обострилась старая, непонятная болезнь желудка. В результате и её пришлось поместить в больницу.
Дмитрий Пигута, всё-таки приехавший к тому времени в Москву, сумел устроить мать в знаменитый в то время Цандеровский институт, где она и начала лечение.
Между тем состояние Нины Алёшкиной продолжало быстро ухудшаться, и 1 февраля 1916 года (по ст. стилю) она скончалась, дожив всего до 33 лет. Её брат Дмитрий присутствовал при её кончине. Последние часы перед смертью Нина была без сознания и никого не узнавала. Лишь в самый последний момент она как будто очнулась и, обращаясь к брату, которого она наконец узнала, успела произнести всего одну фразу, запомнившуюся ему на всю жизнь:
– Где мои дети? Митя, позаботься о них!..
Дмитрий организовал похороны Нины Болеславовны, взяв на себя все расходы и хлопоты, связанные с ними. Через Александра Александровича Шипова он известил о смерти Нины её мужа Николая Геннадиевича Мирнова, и тому удалось получить отпуск на два дня. Он смог приехать на похороны жены и принять в них участие, присутствовал на похоронах и сам Шипов. Провожали в последний путь Нину Болеславовну члены семей Околовых и Шиповых, бывшие в Москве. Похоронили её на Новодевичьем кладбище.
На другой день Александр Александрович навестил больную сестру и взял с неё обещание, что как только она немного поправится и будет выписана из больницы, то приедет отдохнуть к нему.
Дмитрий, а также и все другие родственники, первые дни скрывали от Марии Александровны смерть Нины, но она каждый день ждала этого страшного события, собрала все свои силы и внутренне уже приготовилась к нему, поэтому после похорон Нины, когда ей всё рассказали, перенесла это известие относительно спокойно.
Благодаря огромной силе воли и мужественности Мария Александровна сравнительно быстро сумела справиться со своим горем, и так называемая нервная горячка благополучно завершилась. Но её старое заболевание желудка всё ещё давало себя знать, хотя и оно постепенно ослабевало. Дмитрий опасался, что у неё тоже может быть опухоль, но пока эти опасения не подтвердились.
В Цандеровском институте ей провели самые тщательные исследования, вплоть до весьма редких тогда рентгеновских снимков. Все эти исследования опухоли не обнаружили. Ей оставалось сделать ещё два контрольных снимка, и после этого она могла быть выписана. На скорейшей выписке она настаивала, зная, что пребывание в институте обходится очень дорого и что платят за всё Митя и её брат. Все деньги, имевшиеся у неё, были израсходованы на лечение Нины.
Глава десятая
Похоронив жену, Николай Геннадиевич Мирнов должен был немедленно возвратиться в часть. В самое ближайшее время его полк подлежал отправке на фронт, поэтому более длительного отпуска ему и не дали. По дороге во Владимир, ожидая поезда на станции Александров, он простудился и, приехав в полк совсем больным, был помещён в полковой лазарет. Предполагали, что у него воспаление лёгких, но, к счастью, этот диагноз не подтвердился – оказалась простая инфлюэнция. Тем не менее пришлось проваляться в лазарете почти десять дней.
Ещё находясь в лазарете, Николай Геннадиевич отправил матери второе письмо, умоляя её поехать в Николо-Берёзовец, распорядиться оставшимся имуществом и взять, пусть на короткое время, детей к себе или, хотя бы недолго, побыть с ними в Берёзовце. Только после этого отчаянного письма Анна Петровна Мирнова наконец-таки собралась ехать в Николо-Берёзовец, о чём и известила сына. Однако она предупредила его, что детей взять не сможет, не сможет также и задерживаться в Берёзовце, и потому требовала его скорейшего приезда туда.
* * *
Анна Николаевна Пигута и её сын всё ещё были не совсем здоровы, их состояние требовало присутствия Дмитрия дома, он торопился скорее выехать из Москвы. В то же время он не мог забыть последних слов Нины и всё время думал о том, как быть с её детьми. Ведь они находились в глухом, отдалённом от всяких дорог, селе, на руках совершенно чужих людей, без всяких средств к существованию.
Кроме того, как узнал Дмитрий из последнего письма, полученного из Берёзовца, Боря заболел после скарлатины тяжёлым осложнением, и неизвестно даже, жив ли он сейчас. А ведь он был самым старшим из троих детей – ему восемь лет, Слава же и Нина совсем маленькие: одному шёл четвёртый год, а другой исполнился только год. Видя, что сам он никак не сумеет поехать в Николо-Берёзовец в ближайшие дни, Дмитрий написал ещё одно письмо Мирнову и просил его любым способом добиться отпуска, поехать за детьми и перевезти их к своей матери, обещая помогать последней материально.
Одновременно он отправил письмо и дяде, Александру Александровичу Шипову, прося его посодействовать Мирнову в получении отпуска. Сообщал он дяде также и о том, что хотя здоровье Марии Александровны и улучшилось, боли её оставили, но всё-таки не на столько, чтобы ей можно было отправиться в Николо-Берёзовец, куда она уже собиралась ехать.
Не зная о болезни Николая, в душе Дмитрий негодовал на него за то, что он не смог добиться более длительного отпуска и поехать к детям. Возмущался и действиями матери Мирнова.
Вскоре Дмитрий Болеславович получил от своего дяди нижеследующее письмо:
«Владимир. 23 февраля 1916 года.
Дорогой Митя! Спасибо тебе за твоё подробное письмо от 19/II. Из него я вижу, что сестра Маша благодаря твоим заботам находится в хороших руках. Хочу сообщить тебе о детях Нины и о намерениях Н. Г. Мирнова. Он выздоровел, вернулся в батальон и вчера приходил ко мне. Он мне сообщил, что земство назначило его двум детям 20 руб. в месяц и его матери – 10 руб., покуда он в армии. Он мне читал письмо своей матери уже из Берёзовца. Она тяготится лишним ребёнком и желала бы иметь у себя одного – старшего (Славу). Относительно Бори, сына Нины от первого брака, он ничего не упоминает. Я не допытываюсь, не желая вмешиваться в его дела, но из слов его ещё в начале нашего знакомства я понял так, что Борю возьмёт кто-нибудь из вас, то есть ты или твоя мама.
Будь сестра Маша здорова, то, конечно, она бы с радостью его взяла опять к себе. Теперь вследствие её болезни это, во всяком случае, должно быть отложено. Между тем, надо же выручать детей из Берёзовца, и не только двух детей Мирнова, но и Борю.
Завтра я попытаюсь выхлопотать у батальонного командира отпуск для Н. Г. Мирнова, чтобы он мог поехать, ликвидировать имущество Нины и перевезти детей. Относительно Бори (кажется, я правильно называю старшего ребёнка Нины?) я выясню его намерения, если он получит отпуск и поедет.
А если отпуск ему не дадут? Это трудный вопрос. Мать Мирнова, по его словам, не внушает доверия: она и от двоих отказывается, а надо хоть временно взять троих. Да и перевозка в зимнее время затруднительна. Мне неприятно писать тебе про эти затруднения, которые разом на тебя свалились, но надо же тебе знать о них.
Я колеблюсь, куда посылать это письмо – в Кинешму или в Москву. Пошлю в Москву Вареньке Шиповой, чтобы она передала тебе, но без ведома сестры Маши, чтобы не волновать её.
Крепко тебя целую, твой А. Шипов».
Двадцать девятого февраля Мария Александровна выписалась из больницы и переехала на квартиру Варвары Павловны Шиповой, где рассчитывала пробыть несколько дней. На другой же день она написала письмо сыну, уже уехавшему в Кинешму.
«Вторник, 1 марта 1916 г.
Милый мой Митя! Пишу тебе из квартиры Шиповых, куда я переехала с разрешения врачей, хотя снимок сделать вчера ещё не удалось. Не удалось сделать снимок потому, что Гаусманн, уезжая в Орёл, никому не оставил точных инструкций, а с возвращением запоздал. В воскресенье вечером Вайнштейн ему звонил на квартиру, но слуга отвечал, что он ещё не вернулся, вернётся завтра. В понедельник во втором часу дня они, наконец, сговорились и решили, что меня можно отпустить с тем, что для снимка я могу явиться в Цандеровский, когда мне будет назначено.
Вчера вечером я говорила по телефону с Гаусманном, он говорит, что эти два дня (вторник и среда) для них неудобны, что, вероятно, снимок придётся делать в четверг. Назначил, чтобы я явилась к нему на дом в среду к шести часам, и тогда он мне скажет окончательно.
Я себя чувствую очень хорошо, болей нет. Кушать буду всё самое деликатное. У меня прекратился волчий аппетит, я вошла в норму и вознаградила убыль тканей. Из Цандеровского уехала вчера после обеда, расплатилась за всё и за четыре снимка, которые, однако, не могла получить, так как не захватила Вайнштейна. Возьму их вместе с последним (пятым), за который тогда же и внесу.
Я слышала от племянницы, что Николай Геннадиевич получил отпуск и едет в Берёзовец. Думаю, что он с тобой списался и что вы поедете вместе. Надеюсь, что перед поездкой ты мне об этом напишешь, и жду от тебя вестей. Не забудь на почте в Берёзовце справиться о посылке на имя Нины: журнал «Золотое Детство». Крепко тебя обнимаю. Мама».
Это письмо опять показывает, что Мария Александровна была занята своим здоровьем, думами о Нининых детях и совершенно не интересовалась положением в семье сына. Конечно, это обидело и его, но ещё больше – его жену.
Все свои дела в Москве Мария Александровна закончила в течение нескольких дней. Провела окончательные медицинские обследования и, получив заверения от лечивших её врачей, что при соблюдении определённой диеты и режима питания её здоровью ничего не угрожает, и, рассчитавшись с ними, выехала во Владимир, в гости к брату. Чувствовала в это время она себя хорошо.
Поездку к брату она совершила потому, что, отказавшись от приглашения, очень бы обидела его. Кроме того, она считала необходимым перед дорогой в Темников немного отдохнуть в спокойной обстановке, не думая ни о чём – так она, по крайней мере, говорила племяннице Варваре Павловне.
На самом же деле основной причиной, побудившей её поехать во Владимир, было желание увидеть возвращающегося из Николо-Берёзовца Мирнова, лично от него узнать о судьбе детей и, главным образом, старшего сына покойной дочери. Одновременно она хотела просить его отдать ей Борю на воспитание, по крайней мере, на время войны.
Вскоре она уже была во Владимире, в огромной казённой квартире брата, где он жил один. От брата она узнала, что Николай Геннадиевич пока ещё находится в Берёзовце. Она решила дождаться его возвращения.
* * *
А в это время в Николо-Берёзовце происходило вот что.
Как мы уже говорили, 10 февраля Боря вернулся из больницы. В школу он ходить ещё не мог и проводил время дома в играх со Славой и Ниной.
Деньги, оставленные Ксюше матерью ребят, подходили к концу, полученных через Тихомирова тридцати рублей, переведённых Марией Александровной, хватило ненадолго. Что делать дальше, Ксюша не знала; не знали, чем ей помочь, и Тихомиров, и тётя Сима.
Вестей из Москвы ни от барыни, ни от кого-нибудь другого не было. В письме, сопровождавшем перевод, полученном ещё в январе, кратко сообщалось, что Нина Болеславовна в больнице, что ей предстоит операция. После этого прошёл месяц, а никаких новых сообщений не поступало.
Вдруг неожиданно дня через два после возвращения Бори из больницы в Николо-Берёзовец приехала пожилая женщина, заявившая, что она мать мужа умершей Нины Болеславовны, что звать её Анной Петровной и что теперь она временно будет здесь хозяйкой. Сказала она всё это доктору Тихомирову, так как полагала, что семья оставлена на него. Когда же она узнала, что хозяйничала, и притом совершенно самостоятельно, прислуга – Ксюша, удивлению её не было границ. В присутствии Ксюши она заявила, что только по одному этому узнала бы всегдашнее легкомыслие и беспечность невестки.
– Они тут, наверно, всё растащили, – возмущалась она.
Сергей Андреевич пытался её успокоить, доказывая, что Ксюша живёт в этой семье уже несколько лет и заслуживает полного доверия, что такие подозрения несправедливо обижают хорошую женщину, заботившуюся о детях, но старая чиновница, привыкшая чуть ли не во всех видеть жуликов и проходимцев, продолжала стоять на своём.
Она потребовала от Ксюши полного отчёта в израсходованных деньгах, скрупулёзно проверила расчёты и обрушилась на неё с бранью за траты, которые Ксюша позволила себе, покупая больному Боре сравнительно дорогостоящие продукты, фрукты и прочее.
Этих упрёков Ксюша не выдержала и заплакала. Ревизия происходила в присутствии детей, и если маленькие ещё ничего не понимали, то Боря уже кое в чём разбирался. Он вспомнил свою первую встречу с этой бабушкой в Костроме. Уже тогда ему стало ясно, что они друг другу не понравились, ведь он её и бабушкой называть не хотел. А сейчас мальчишка понял, что одного из близких ему людей, а Ксюшу он привык считать как бы своей, близкой, обижают, и, кажется, понапрасну.
Он ринулся на защиту:
– Зачем ты обижаешь Ксюшу? Она хорошая! Чего ты всё здесь считаешь, это ведь не твоё, а наше, мамино. Как приехала, так всё и кричишь, уезжай в свою Кострому!
Вмешательство мальчишки рассердило Анну Петровну до невозможности.
– И они ещё хотят, чтобы я воспитывала этого сорванца? Да ни за что на свете! На него никаких нервов не хватит! Ступай сейчас же в детскую и сиди там, пока тебя не позовут, раз не умеешь вести себя как следует, – прикрикнула она на Борю.
Плачущая Ксюша, около которой он стоял, готовый защищать её всем своим существом, тоже подтвердила:
– Ступай, ступай, не серди бабушку.
Боря, нахмурившись, ушёл в детскую, сел там в уголке около своих книжек и задумался: «Эх, хорошо бы сейчас превратиться в принца или хоть бы в Робинзона, вот бы показал этой сердитой старухе. Тоже, подумаешь, бабушка! Да разве это бабушка? Вот в Темникове бабуся – так это на самом деле бабушка. Лучше бы она приехала сюда, пока мама болеет. И зачем это хотят, чтобы она меня воспитывала? Вот мама поправится, Ксюша сказала, что она скоро приедет, пусть она уж и воспитывает. А хорошо бы в Темников к бабусе съездить, мама ведь обещала нас как-нибудь свозить…»
Вечером Анна Петровна долго беседовала с соседкой, акушеркой тётей Симой. Она обсуждала сложившиеся события, жаловалась на скудность хозяйства покойной невестки и на те трудности, которые создала её несвоевременная смерть. Затем она написала письмо сыну, в котором категорически заявляла, что согласна взять только одного ребёнка – мальчика Славу или, уж только в крайнем случае, девочку – маленькую Ниночку. О Боре в своём письме она совсем не упоминала, как будто его и вовсе не было.
Далее она писала, что без сына не знает, как распорядиться имуществом семьи, не знает даже, что из вещей принадлежит им, а что больнице. Высказывала неудовольствие прислугой, выражала недоверие и Ксюше, и няне, предполагала, что они могут присвоить часть вещей себе. Жаловалась также и на то, что семья в настоящий момент совсем без средств, что запасы продуктов подходят к концу, а чем расплатиться с прислугой, которой не уплачено жалование за три месяца, она и вовсе не представляет. В заключение она категорически требовала, чтобы сын любым способом добился отпуска хотя бы на несколько дней и приехал распорядиться сам.
А её сын Николай в это время лежал в лазарете больной и потому ответить матери не мог. Поправившись, он при поддержке Шипова принялся за хлопоты об отпуске, сумел его добиться и немедленно выехал в Берёзовец.
Анна Петровна подождала ответа сына с неделю, а так как выхода из трудного финансового положения не находилось, то, посоветовавшись с тётей Симой, решила уволить хотя бы одну из прислуг. Охотно она бы уволила Ксюшу, которую почему-то невзлюбила сразу, но на ней держалось не только всё хозяйство, но и кредит у местных лавочников, которые, зная её, отпускали необходимые продукты в долг.
Пришлось Анне Петровне рассчитать няню Васю и самой нянчиться с Ниной. Она решила и другое: выехать с Ниночкой в Кострому, оставив мальчиков с Ксюшей в Берёзовце. Ксюша согласилась, считая, что с двумя детьми она сможет продержаться до тепла, а там что-нибудь прояснится. Анна Петровна полагала, что за это время вопрос с отпуском сыну удастся разрешить.
В конце февраля бабушка Мирнова, взяв Ниночку и кое-что из наиболее ценных вещей семьи сына, отбыла в Кострому. А через день после её отъезда в Берёзовец приехал и Николай Геннадиевич. Все обрадовались ему, а ребята особенно. И хотя они узнали, что папа пробудет недолго, и скоро они все отсюда уедут, и что мама всё ещё болеет, они не горевали: «Раз папа с нами, значит, всё будет хорошо».
Борю очень привлекала папина военная форма, и невольно он вспомнил другого папу, которого видел когда-то очень давно, и помнил не его, а его такую же солдатскую одежду.
Времени у Мирнова было в обрез, поэтому в течение трёх дней он расправился со всем небогатым имуществом, расплатился с долгами, рассчитал Ксюшу (небольшую сумму дал ему Шипов), отправил часть вещей, главным образом одежду – свою, жены и Ниночки, которую Анна Петровна не взяла, в Кострому, сложил в небольшие плетёные корзинки, купленные на базаре, весь немудрёный багаж мальчишек, разрешил им положить туда же свои самые любимые игрушки и книги и выехал с сыновьями в Ярославль.
Расставание Ксюши с ребятишками было тяжёлым. Эта женщина, ранее не очень-то любившая детей, к этим, выросшим на её глазах, привязалась крепко и, прощаясь с ними, плакала так, как будто провожала своих кровных.
В Ярославле жил дядя Николая (брат отца), служивший кем-то в канцелярии воинского начальника. Он получал приличное жалование и считался сравнительно обеспеченным человеком. Ему-то и решил отдать на воспитание своего сына Славу овдовевший отец. Ещё из Владимира он списался с дядей, просил его взять ребёнка на время войны, теперь и вёз мальчика к нему.
Если никто из родственников Мирнова взять его пасынка не согласится, то ему оставалось одно: привезти мальчика во Владимир и оставить его у Шипова, которому Боря приходился внучатым племянником, до тех пор, пока ребёнка не возьмёт кто-либо из родственников покойной жены. Об этом, выезжая в Николо-Берёзовец, Николай Геннадиевич и договорился с Александром Александровичем.
В Ярославль приехали поздно вечером, затратив на дорогу два дня. Дядя и тётка встретили Николая приветливо, накормили и уложили спать детей, а после ужина приступили к переговорам. После некоторого колебания они согласились взять Славу и воспитывать его, пока отец не вернётся из армии. Что же касается Бори, о котором заикнулся было Николай, то его, как совершенно чужого ребёнка, оставлять у себя даже на краткий срок не согласились. Таким образом, мальчика никто из родственников взять не захотел.
Оставив родного сына в Ярославле, Мирнов с Борей отправились в дальнейшее путешествие. Всё это время отчим относился к пасынку ласково и внимательно, очень жалел его. За эти годы он привык считать Борю своим и чувствовал себя обязанным заботиться о нём, как о собственном сыне. Он полагал, что раз Нина не отдала ребёнка родному отцу, то он, Николай, должен выполнить её волю и оставить ребёнка на дальнейшее воспитание у себя. Его огорчил отказ матери и дяди, но в то же время он и понимал их: брать на себя ответственность за совершенно чужого ребёнка никто не хотел. Теперь Мирнов надеялся уговорить Дмитрия Болеславовича Пигуту подержать Борю у себя до конца войны. А пока на несколько дней мальчика приютит Шипов.
Переезд из Ярославля во Владимир занял всего один день, но этот день Боре запомнился: он был с папой, который на него не сердился, а наоборот, был очень заботлив; сама поездка в поезде впервые в его коротенькой сознательной жизни оказалась весьма интересной.
Вагон третьего класса, в котором они ехали, был переполнен самыми разнообразными пассажирами. Тут были и крестьяне, и фабричные, и солдаты, возвращающиеся из госпиталей на фронт, и торговки разными продуктами, ехавшие домой с Ярославского базара. Теснота и давка ужасные, но папа сумел устроить Борю на верхней полке у окна, и тот всё время смотрел на медленно проползавшие деревья, кусты, домики и деревни. Он без конца свешивал голову вниз и спрашивал отца, примостившегося на чьём-то узле под ним, обо всём, что успевал увидеть через окошко. Ему отвечал не только папа, но и многие окружавшие его люди. Ребятишек в вагоне не было (вообще, в то время с детьми мало кто ездил), а ехавшие рядом солдаты и мастеровые, видно, соскучились по своим детям, и потому охотно удовлетворяли Борино любопытство.
На одной из станций, где поезд стоял почему-то особенно долго, папа купил чёрствую-пречёрствую булку и целый круг твёрдой копчёной колбасы. Такую твёрдую и такую солёную колбасу Боря ел впервые, но он хотел есть, и потому с удовольствием жевал её. Один из попутчиков дал мальчику полную жестяную кружку горячей кипячёной воды, принесённой им в жестяном большом чайнике со станции.
Особенно большое удовольствие от этой еды Боря получил и потому, что ведь он долго лежал в больнице, и его всё время кормили разными кашками да супчиками, а тут вдруг такая замечательная колбаса, и, главное, ешь, сколько душа желает.
Наконец, они приехали во Владимир, день склонялся к вечеру. Отпуск Мирнова заканчивался в этот день, и ему обязательно до вечера нужно было успеть явиться в казарму. Хоть и плохо у него обстояло с деньгами, но всё-таки пришлось взять извозчика, чтобы поскорее добраться до квартиры Шипова.
Когда они приехали, Александра Александровича не оказалось дома, их встретил камердинер Иван. Не имея возможности задерживаться, Николай Геннадиевич завёл в прихожую Борю, внёс его корзинку и сказал Ивану, что он зайдёт завтра, а сейчас очень торопится и просит приютить мальчика. При этом он заметил, что его превосходительство всё знает, поцеловал ребёнка и быстро вышел к ожидавшему его извозчику.
Камердинер помнил Николая Геннадиевича, часто в последнее время бывавшего у его барина, но всё-таки сомневался, нужно ли брать мальчика, ведь в этом доме никогда прежде детей не было. Но всё совершилось так быстро, что он не успел и опомниться, как Мирнов уже уехал. Иван остановился посреди прихожей, посмотрел на испуганного беспомощного ребёнка, и ему стало жаль его. Он отодвинул корзину в угол, снял с Бори шапку, пальто и отвёл его в гостиную, где и зажёг свет. Усадив мальчика на огромный диван, дал ему несколько номеров журнала «Нива».
– Сиди вот тут, только тихо, никуда не ходи и ничего не трогай, смотри картинки, – и ушёл поделиться новостью с другими слугами.
Боря остался один. Прежде чем взяться за журналы, он осмотрелся. Комната, в которой он находился, была такой величины, что, пожалуй, в ней уместилась бы вся их николо-берёзовецкая квартира, а потолки были высокими, как в церкви. На стенах висели огромные картины в толстых золотых рамах, на них изображались какие-то животные, горы и море. Тут же висело несколько больших портретов, написанных масляными красками, один из них Боря узнал, он видел такой же ещё в Темникове – это была бабуся, только совсем молодая.
Здесь же стоял большой рояль. Высокие полукруглые вверху окна были завешены толстыми шторами, вдоль стен – кресла, стулья и диван, на котором сидел Боря, по углам – маленькие столики, на некоторых из них лежали книги. На стенах висели в красивых стеклянных цветках лампочки, одна из них – прямо над Борей, зажжённая Иваном, горела. Боря знал, что это электрические лампочки, давно ещё он видел похожие в Темниковской гимназии, куда не раз ходил с бабусей. Посреди потолка висела большая люстра, «такая же, как в церкви», – опять подумал Боря. Очень удивил его пол, такого он раньше не видел: весь пол состоял из маленьких дощечек, а не из больших половиц, как у них дома, и он не был покрашен краской, а блестел, как зеркало.
Боря вообще был склонен к фантазированию, а тут, попав в такую роскошную обстановку, о которой до сих пор и понятия не имел, а лишь читал в книжках, он сразу вообразил, что это какой-то дворец, а сам он – не иначе как тот самый нищий, про которого он столько читал, вдруг очутившийся на месте принца. С этими приятными мыслями Боря и погрузился в рассматривание картинок в журналах, поданных ему Иваном.
Вернувшийся в гостиную камердинер, увидев, что мальчик с увлечением разглядывает журналы и не шалит, успокоился. Решил, что приедет барин и сам разберётся во всём.
Сегодня, когда вспоминаются эти события более чем шестидесятилетней давности, может быть, довольно трудно понять, почему все эти люди – родственники Мирнова и Алёшкиной так жестоко поступили с маленькими детьми: разлучив их друг с другом, разбросав по новым, незнакомым людям. Чтобы понять этих, в общем-то, неплохих людей, надо встать на их точку зрения, знать их материальные возможности и ту моральную установку, которая господствовала тогда в обывательско-мещанской среде царской России.







