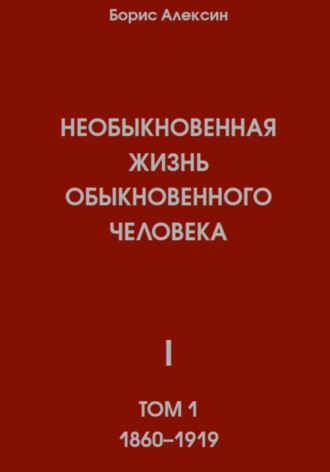
Борис Яковлевич Алексин
Необыкновенная жизнь обыкновенного человека. Книга 1. Том 1
Когда Аня пришла из гимназии и увидела на столе своей комнаты конверт, она сразу догадалась, от кого оно. Она долго не решалась разорвать конверт и прочитать письмо. А когда прочла, то до позднего вечера просидела в своей комнате, не выйдя ни к обеду, ни к ужину. Когда в доме все улеглись и в гостиной осталась одна Мария Александровна, погружённая в ежедневную проверку тетрадей, девушка вышла, опустилась на пол около бабусиных ног и, уткнувшись в её колени, протянула полученное письмо.
Мария Александровна прочитала письмо, достала папиросу и закурила, задумчиво глядя в окно. Алешкин сетовал на излишнюю резкость, допущенную им в предыдущем письме, адресованном бабусе, упрекал себя в том, что им он причинил такому хорошему человеку ненужное огорчение и расстройство, просил Аню извиниться за него перед бабусей и передать ей, что он её по-прежнему любит и уважает как мать.
«Дорогая Анюта, – писал он далее. – Ты видишь, я теперь совсем, совсем один. Меня оставила жена, очевидно, она никогда и не любила меня. Раздумывая об этом, я сейчас уж не знаю, любил ли и я её. Во всяком случае, в настоящее время у меня к ней даже и ненависти нет, просто презрение и безразличие. <…> До сих пор я надеялся найти утешение в сыне, но теперь она отняла и его. Не думаю, что Боря там будет счастлив, но отнять его силой, как я грозился, я, конечно, не смогу. Я всё-таки думаю, что родную мать ему никто не заменит. Итак, я один. Из твоего последнего письма я понял, что я для тебя не совсем безразличен, и вот после долгого раздумья и колебаний решаюсь обратиться к тебе. За твою любовь к моему сыну, за твои прекрасные письма, за твоё замечательное огромное сердце и чистую душу я тебя полюбил, ты для меня сейчас самый дорогой и близкий человек на свете. И если ты захочешь разделить мою судьбу, я буду счастлив и сделаю всё, чтобы и ты была со мной счастлива.
Дорогая Анюта, ты ещё очень молода, подумай, прежде чем дать мне какой-либо ответ. Посоветуйся со старшими, прежде всего с бабусей и своими родителями. Мне почему-то кажется, что особенно необходим и важен именно бабусин совет. Я рано лишился матери и к бабусе отношусь так, как мог бы относиться к матери.
Имей в виду также и то, что на расторжение брака с Ниной Болеславовной я теперь согласия дать не могу. Я всегда был твёрд в своём слове – это, во-первых, а во-вторых, я хочу сохранить за собой право на Борю. Мне почему-то кажется, что долго в том семействе он не проживёт. А если развод будет оформлен, и Боря останется у матери, то у меня уж никакой возможности взять его не будет. Следовательно, мы, Анюта, с тобой обвенчаться не можем, и если ты приедешь ко мне, то будем жить в гражданском браке, а это будет причинять некоторые неудобства.
Вот, решай свою и мою судьбы. Я жду! Целую тебя, твой Яков.
Р.S. Передай мой нижайший поклон твоим родителям и бабусе.
15/11 1912 года».
Помолчав минут десять, Мария Александровна подняла голову Ани, поцеловала её в заплаканные глаза и сказала:
– Анюта, поговори с отцом и матерью. Я думаю, что вы с Яковом будете счастливы.
Тут она не выдержала, слёзы полились по её морщинистым щекам, она быстро встала с кресла, прошептала на ходу:
– Бедный, бедный Боря, – и скрылась в своей комнате.
В ту ночь долго ещё горел свет в комнатах обеих женщин. Каждая из них думала о своём, но иногда их мысли сталкивались на одном, это когда они вспоминали о Боре. Об этом маленьком человечке, ставшим лишним не только в семье своей матери, но, как видно, терявшим и отца. Так, по крайней мере, думала Мария Александровна.
К утру Аня твёрдо решила:
– Еду! А Борю мы к себе возьмём, для меня он как родной сын. И когда ещё у меня будут свои дети…
Прежде чем дать ответ Якову Матвеевичу, она всё-таки решила сходить домой и поговорить с матерью и отцом. В этот день, к счастью, отец был трезв. Когда он и Анна Никифоровна услышали о намерении Ани ехать в Сибирь и даже ещё дальше, к бывшему мужу Нины Болеславовны, и жить с ним будет пока просто так, без венца, их возмущению и негодованию не было конца. Мнения обоих Шалиных на этот раз полностью совпали. Они оба категорически заявили, что пока они живы, этого не будет. Что, может, по-господски так сейчас и принято, однако они люди простые, бедные, но честные, и пустить свою дочь в такое распутство не могут.
Отец сейчас же вновь принялся уговаривать Аню выйти замуж здесь в Темникове «по-хорошему», по-порядочному, стал ей предлагать различных женихов, которые будто бы только и мечтали, чтобы сочетаться с ней законным браком.
Разговор этот ни к чему хорошему не привёл. Отец, обещая проклясть дочь, если она ослушается его воли, ушёл из дому, хлопнув дверью. И мать, и дочь знали, что через полчаса он явится пьяный, и тогда Ане может прийтись плохо. Она поспешила покинуть дом.
Придя к Марии Александровне, она рассказала про всё и Поле, и няне Мане, думая найти в них поддержку. Оказалось – наоборот: обе они встали на сторону её родителей с такой горячностью, что девушка невольно заколебалась. И, может быть, никогда бы и не было такой дружной и счастливой семьи, какая впоследствии образовалась у Якова Матвеевича Алёшкина и Анны Николаевны Шалиной, если бы в это дело не вмешалась Мария Александровна.
Когда и ей Аня рассказала о возражении родителей, то старушка воскликнула:
– Слушай, Аня! Ты образованный человек. Ты должна быть выше всех этих предрассудков. Разве в венце дело? Посмотри вокруг. Разве венец делает людей счастливыми? Я прожила долгую жизнь под венцом, а была ли я счастлива? Посмотри на свою мать: она венчана, живёт по закону, а разве её жизнь можно назвать счастливой? И наконец, вспомни Нину и Якова: разве венчание смогло удержать их вместе? Нет! И если этого не могут понять некоторые тёмные люди, преклоняющиеся перед святостью церковных обрядов, то ты, образованная женщина, так рассуждать не можешь! Я верю в Бога. Верю искренне и сильно, но считать святыми и нерушимыми все премудрости, написанные в церковных книгах, и глупые обряды, придуманные Его служителями – большею частью нерадивыми и нечестными служителями, себе на выгоду, – не могу. Люди имеют право и должны жить друг с другом, если они любят и уважают один другого, и если наши церковные законы, часто несправедливые и неумные, этого не позволяют, то тем хуже для законов. Прежде, чем принимать какое-либо решение, подумай, как следует, над своим чувством, и если ты уверена в себе, если ты действительно любишь Якова и думаешь, что он любит тебя, плюнь на все формальности и поезжай к нему, – так закончила Мария Александровна свою взволнованную речь.
Конечно, начальнице женской гимназии такие слова были совсем не к лицу, и не дай Бог, если бы их услышал кто-нибудь из начальства. Слова, прямо скажем, по тому времени были крамольные, преступные. Но говорила их в данный момент не начальница гимназии, а простая русская женщина, перенёсшая много личного горя и видевшая такое же горе и несчастье у своих детей.
Надо не забывать и того, что благодаря большой начитанности, высокой эрудиции и прогрессивным взглядам, Мария Александровна Пигута значительно отличалась от людей того же класса и от людей, занимающих такое же служебное положение, по своим взглядам и убеждениям.
– Ты вот что, пригласи-ка к нам в гости Анну Никифоровну, я с ней поговорю, – предложила Мария Александровна.
И она поговорила, но встречаться им пришлось не один раз. Лишь после многочисленных уговоров и разъяснений, подкреплённых множеством доводов и доказательств, приведённых Марией Александровной Пигутой, удалось ей убедить Анну Никифоровну не препятствовать дочери. Скрепя сердце эта старая религиозная женщина дала своё согласие на отъезд Ани. Отцу об отъезде дочери так и не сказали, узнал он об этом только тогда, когда дочь была уже далеко.
Долго потом ещё Николай Осипович на всякий лад клял и дочь, и её соблазнителя, и благодетельницу, поддержавшую, с его точки зрения, самый позорный поступок девушки. И лишь только тогда, когда от Алёшкина и дочери стали поступать хорошие письма, обычно сопровождаемые денежными переводами, Анна Никифоровна совсем примирилась с этим незаконным браком, а сам Шалин перестал устраивать скандалы перед женской гимназией.
В конце мая 1912 года, как только закончились уроки в гимназии, Аня Шалина выехала в Верхнеудинск. Деньги на дорогу Яков Матвеевич выслал ей сразу же по получении её согласия.
Мария Александровна, как начальница гимназии, снабдила свою воспитанницу блестящим отзывом о работе, а как бабуся – надавала ей множество советов, указаний и наставлений. Послала с Аней она письмо и Алёшкину, в нём она просила считать её по-прежнему бабусей, родной бабушкой его сына, и так к ней и относиться, просила писать ей об их жизни и помнить, что она к ним обоим относится как к своим детям.
В июле 1912 года Мария Александровна получила письмо от своей воспитанницы. Аня писала, что доехала благополучно, что город Верхнеудинск гораздо больше Темникова, что он красив, что квартира хорошая, что Яков – замечательный человек, и что она, Аня, безгранично счастлива, что отцу очень хочется привезти к себе Борю, и что она также хочет скорее увидеть мальчика и назвать его сыном уже по праву. Писала она также и то, что Алёшкин не решится взять сына силой, а потому очень просит бабусю воздействовать на Нину, чтобы та отдала Борю добровольно. Она, Аня, присоединяется к этой просьбе. Она ещё раз благодарила бабусю за все её заботы о ней и за тот отзыв, который помог ей сразу же устроиться учительницей на хорошее место в городское Верхнеудинское училище, где она и будет служить с начала учебного года.
Написала Аня и своим родителям. Это первое письмо от дочери Анна Никифоровна мужу показать не решилась, а принесла его к Марии Александровне, ещё и поплакала над ним, пока та его ей читала. Хотя плакать-то было и не о чем, так как из письма было видно, что Аня живёт счастливо и очень довольна своей судьбой.
Глава пятая
Но вот наступила Пасха. Боря в сопровождении Ксюши и новой няни Нади ходил к заутрене, затем они втроём разговлялись на кухне. Мама, папа и Слава ещё спали, когда Боря вернулся из церкви, их будить не стали, а после разговения заснул и он.
Проснулся поздно и обнаружил на стуле у своей кровати две огромные, очень красивые книги: «Сказки братьев Гримм» – подарок от папы и «Сказки Андерсена» – подарок от мамы. А ещё через неделю пришёл подарок и от бабуси, тоже книга – годовой комплект журнала «Светлячок», переплетённый в красивую обложку. Подарки очень обрадовали мальчугана.
Вообще, по его мнению, Пасха – праздник более приятный, чем, скажем, Рождество, хотя тогда и устраивали ёлку, и тоже дарили разные подарки. Но на Пасху пекли куличи, делали творожную пасху, а Боря считал, что вкуснее этих вещей ничего не может быть.
Получив книги, мальчик долго не мог решить, с какой начать. Наконец остановил свой выбор на «Сказках братьев Гримм», и эта книга, несмотря на её толщину, была прочитана им за неделю. Она ему показалась самой лучшей на свете, а приключения героев настолько правдоподобными, что он даже особенно и не удивлялся им.
В мае 1913 года отчим почему-то не работал и решил поучить Борю грамоте. Мать пыталась его от этой затеи отговорить, ссылаясь на то, что сын ещё слишком мал, но Николай Геннадиевич настоял на своём. Были приобретены букварь, грифельная доска, тетради, пропись, книжка с задачами по арифметике и Часослов. Учение началось.
Продолжалось оно недолго, но запомнилось Боре на всю его жизнь. Отчим был не злым человеком, но очень вспыльчивым, несдержанным, а о педагогике имел самое смутное понятие. Он полагал, что обучение ребёнка – дело несложное. Припоминая, как лупили в церковно-приходской школе его самого, Мирнов считал необходимым применять такие же методы воздействия и к Боре. Всякие неудачи мальчика в учении он относил за счёт его лености, нежелания и упрямства. А неудач было много.
Если с букварём дело обстояло отлично, и с первых же дней мальчик легко читал маленькие рассказики, помещённые в конце книги, если он с удовольствием решал на грифельной доске примеры на сложение и вычитание уже двузначных чисел и затруднялся лишь при умножении и делении, то с остальными предметами дело обстояло из рук вон плохо.
В то время в начальных школах почти самым главным предметом было чистописание. Учили не столько правильному написанию слов, хотя и это требовалось на более поздних стадиях обучения, но в большей степени – выработке красивого почерка. Требовалось соблюдать не только правильные размеры и положение букв, но и точный ровный нажим, тонкие волосные линии, где это требовалось. И уж, конечно, не допускалось никаких помарок или клякс.
У Бори же кляксы и грязные пятна от пальцев появлялись на первых же строчках, а все эти палочки и крючочки, с которых начиналось чистописание, были такими уродливыми и так страшно глядели в разные стороны, что учитель только за голову хватался да отвешивал ученику подзатыльник. После этого приходилось начинать всё сначала, и так длилось несколько часов. Сам Мирнов обладал очень красивым почерком и никак не мог понять, почему у мальчика не получается.
Подзатыльники сыпались всё чаще, в тетрадке становилось всё грязнее, к кляксам от чернил, падавших с пера, прибавлялись пятна от Бориных слёз. Дело заканчивалось тем, что учитель, окончательно выведенный из себя, выволакивал за ухо незадачливого ученика из-за стола и отправлял умываться.
Возвратившись, Боря принимался за следующий, пожалуй, ещё более трудный урок – церковнославянское чтение. Изучение церковнославянского языка в то время считалось обязательным, ведь на нём писались все церковные книги, а их читать обязан был каждый грамотный человек. Первый учебник по этому языку – Часослов начинался с азбуки. Но это была особенная азбука: если буквы в ней немного и походили на обыкновенные, то читать их приходилось совсем по-чудному: вместо «а» надо говорить «аз», вместо б – «буки», в – «веди», г – «глаголь», д – «добро» и т. д. Но зато при чтении слов все эти «буки» и «азы» опять превращались в обыкновенные «а» и «б», и соединённые вместе читались как «ба» или «аб».
И это бы ещё ничего, а то ведь над некоторыми слогами ставилась черточка – титло, и тогда читалось то, что совсем не написано, например, «Гдь» читалось как Господь. С этим уроком Боря доходил до седьмого пота, но разобраться в мудрёных правилах не мог и поэтому часто путался. Да, наверное, и педагог в церковнославянском был не очень силён, объяснить мальчику всё как следует не умел и от этого сердился и кричал на ученика ещё сильнее. В результате количество подзатыльников увеличивалось, и Борины всхлипывания превращались в настоящий рёв, разносящийся по всей квартире.
Если в это время мама была дома (она на время занятий обычно уходила со Славой в спальню), то, услышав громкий плач сына, приходила и требовала прекращения занятий; если же её не было, то после короткого перерыва его мучения продолжались. Няня со Славой сидели на кухне у Ксюши и обычно обсуждали ход занятий. Надя жалела Борю:
– Такого маленького уже учат и бьют ещё!
– А если бить не будут, так разве чему выучат? Да и что взять: отец-то ведь неродной…
Так длилось недели три. Наконец, однажды, когда после одного, особенно сильного подзатыльника, Боря так стукнулся носом о стол, что потекла кровь, которую довольно долго не могли остановить, мать категорически потребовала прекращения всяких занятий. Отчим быстро согласился: ему уже и самому надоела эта канитель. Удовлетворив вспышку своего педагогического пыла и, видимо, поняв, что обучение ребёнка – не такая простая вещь, как ему казалось вначале, он обрадовался первому предлогу, чтобы от своей затеи отказаться. Кроме того, наступало лето – самая горячая пора в его работе, предстояло проводить большую часть времени в разъездах. И кто был больше рад прекращению занятий – ученик или учитель – сказать трудно.
Однако, хоть недолгой и трудной для ребёнка была эта учеба, она пошла ему на пользу, кое-какие навыки и понятия, полученные от неё, в будущем пригодились.
Летом в Плёсе бывало очень хорошо. В городе много зелени, особенно в том районе, где жили Нина Болеславовна с семьёй. С полянки на вершине обрыва, спускавшегося к реке, открывался чудесный вид на Волгу, по которой то и дело плыли какие-либо суда: то красивые белые и высокие двухпалубные, с красной полосой на трубе, пароходы общества «Кавказ и Меркурий», гудки у них толстые, как говорил Боря, то есть низкие, приятного тембра; то такие же красавцы с голубой полосой на трубе – «Доброхотовы», у них гудок потоньше и позвонче; то маленькие, как букашки, буксиры с высокими чёрными трубами, надсадно шлёпавшие колёсами, тащили за собой большую баржу или плот, их гудки были какими-то хриплыми и жалобными. По реке плыло много лодок под парусами и без парусов. Мальчик мог часами сидеть на краю этой поляны и, не отрываясь, смотреть на оживлённую реку. На это время он даже забывал про свои книги, от которых обычно его трудно бывало оторвать. А когда стало совсем тепло, Ксюша и Надя, отправляясь купаться, брали с собой и Борю.
Сбежав по узенькой извивающейся тропинке с высокого крутого берега вниз в сторону, противоположную городской площади и пристани, они оказывались у маленького заливчика, окруженного берёзами, спускавшими свои ветви почти к самой воде. Дно в этой бухточке было песчаное, течения почти не было. Это неглубокое пустынное местечко, наверное, больше никто не знал. Иногда на это же место Боря ходил купаться и с папой.
Его обида на отца за строгость во время уроков давно прошла, и он при первом же позволении с радостью всюду сопровождал его. Во время купания ребёнок с удивлением и даже страхом смотрел, как папа – отличный пловец, урождённый волжанин, заплывал чуть ли не на середину реки, почти совсем пропадая из виду.
В это лето отчим научил плавать и пасынка, здесь его преподавание оказалось более успешным, и к концу лета Боря уже умел держаться на воде, хотя пока ещё предпочитал барахтаться у берега, доставая дно руками.
Лето пролетело незаметно.
Рос и Слава, ему шёл шестой месяц, и он уже умел сидеть на ковре на полу, обложенный подушками. Всё чаще Боре позволяли играть с братом, и ему это очень нравилось. Обида на маленького, в первое время своего появления почти совсем отнявшего у Бори мать, сгладилась, он полюбил братишку и готов был играть с ним часами. В свою очередь, Слава тоже любил играть со старшим братом, и их теперь нередко оставляли вдвоём.
Однажды они, как всегда, сидели в спальне на ковре. Мама находилась в столовой, няни с детьми не было. Мальчики одновременно ухватились за одну и ту же игрушку: Боря тянул её к себе, а Слава к себе. Тянули оба старательно, Слава начал похныкивать, и старший брат решил уступить. Он отпустил игрушку. Слава этого не ожидал, а так как он сидел ещё не очень твёрдо, то, продолжая тянуть с той же силой, откинулся назад и упал. Ребёнок сидел на самом краю ковра и потому, упав, так сильно ударился затылком об пол, что на мгновение потерял сознание, а затем разразился громким плачем.
Боря испугался и, желая поднять брата, подполз к нему и нагнулся над ним. Услыхав плач Славы, в комнату вбежала мать, увидев закатившего глаза мальчика и склонившегося над ним старшего брата, она подумала, что Борька бьёт малыша.
Нагнувшись и схватив Славу на руки, она в злости ногой оттолкнула Борю. Одновременно с этим крикнула:
– Вот негодный мальчишка, маленького обижаешь, скажу отцу, чтобы он тебя выпорол!
Толчок был так силён, что мальчик, не ожидавший его, кубарем откатился к противоположной стене. Он не причинил большой боли, но злобный крик и, главное, ненавидящий взгляд, которым на него посмотрела мать, так ошеломили его, что он, не помня себя от ужаса и обиды, выскочил из спальни, забрался в детскую и там, в уголке, залился горючими слезами.
После этого случая Боря уже никогда не испытывал к матери такой нежности и доверия, какие у него были до сих пор. Ведь он был так грубо, несправедливо и незаслуженно обижен. И кем?! Его родной мамой!
Конечно, они помирились. Нина приласкала Борю, поцеловала его, но перед ним нет-нет да и вставали её гневное лицо и злые, почти ненавидящие глаза. И ему казалось, что мама его совсем-совсем не любит.
Осенью этого же года с Борей произошло и другое, ещё большее несчастье.
Как-то в субботу отчим разукрашивал большое блюдо, предназначавшееся в подарок матери ко дню её рождения. Вошедшая Нина напомнила ему, что они приглашены в гости и что надо торопиться. Он оставил свою работу на столе, оставил там же и краски.
Дети остались дома. Няня Надя и Славик были в спальне, а Боря сидел в детской. Читать ему надоело, на улицу не пускали, недавно прошёл дождь, и во дворе было грязно, Боря заскучал.
Посмотрев немного в окошко на прыгающих около луж воробьёв, мальчик направился в спальню к няне и Славе, а заметив приоткрытую дверь папиного кабинета, завернул туда. Вообще-то, ему входить в кабинет не запрещалось, разрешалось даже брать папины красивые книжки и читать их. Требовалось только книжки не пачкать и обязательно класть на место.
Подойдя к столу, он увидел папины краски. В мгновение ока Боря уже был на стуле, открыл коробку и стал с любопытством рассматривать блестящие трубочки. Затем он несмело вынул одну из них, снял колпачок и надавил пальцами. Сейчас же из трубки поползла красивая жёлтая колбаска. Чтобы она не упала на стол, он пододвинул лежавшее невдалеке блюдо и опустил колбаску на него. Лиха беда начало!
За первой трубочкой пошла вторая, выпустившая из себя синюю колбаску, за ней третья – с красной, а там следующая, и ещё, и ещё, и через каких-нибудь полчаса всё блюдо было залеплено колбасками всех имевшихся в коробке цветов, а в ней валялась груда сморщенных пустых тюбиков.
Только тогда, когда была опустошена последняя трубочка, Боря понял, что он натворил. Испугавшись, он немедленно попытался скрыть следы преступления: быстро закрыл коробку с опустошёнными тюбиками из-под красок, схватил блюдо, сунул его под шкаф, а сам побежал к умывальнику и старательно вымыл руки.
Тем временем Ксюша позвала ужинать. Он вошёл в столовую медленно, тихонько уселся за стол и без всякого аппетита принялся вяло жевать макаронную бабку, запивая её молоком. Это было одно из его любимых блюд. Аппетит у него был всегда хороший, и ел он быстро, а тут… Ксюша удивлённо посмотрела на мальчика:
– Ты, Боренька, что? Почему так плохо кушаешь? Не заболел ли? – заботливо спросила она. Ксюша не очень любила детей, но вот к этому вихрастому сиротинке, как она про себя называла его, привязалась и жалела его.
– Ешь, ешь, да ложись спать, к завтрашнему утру всё пройдёт.
А он с ужасом думал о том, что будет завтра.
Вернувшись из гостей, Николай Геннадиевич не обратил внимания на коробку с красками, просто убрал её в ящик стола. Не хватился он и блюда.
На другой день, в воскресенье, после обеда, пользуясь ясным солнечным днём, всей семьёй отправились на прогулку. Как всегда, играл оркестр. Впереди шла Надя, нёсшая Славу, за ней, взявшись под руку, шли папа и мама, и только Боря, обычно бегавший вокруг них и, как мама говорила, постоянно путавшийся под ногами, в этот раз понуро плёлся где-то сзади всех. Мама удивилась:
– Борис, ты что кислый? У тебя живот болит?
– Нет, не болит… – тихо ответил он, и на глазах его появились слёзы. Мать почувствовала, что с сыном что-то неладно, и потребовала прекращения прогулки. Мирнов, которому такие прогулки удавалось совершать нечасто, был недоволен, но раз с ребёнком плохо – ничего не поделаешь. Все отправились домой.
Дома Борю уложили в постель, поставили градусник и запретили на всякий случай няне со Славой к нему подходить.
Отец прошёл в кабинет, чтобы продолжить вчерашнюю работу над блюдом. Достал из стола коробку с красками, а блюдо после долгих поисков нашёл под шкафом. Вытащив его оттуда и увидев на нём бесчисленное количество уже подсохших разноцветных колбасок, он открыл коробку, в которой обнаружил кучу пустых тюбиков. Он сразу догадался, чьих рук это дело. Его охватило бешенство настолько сильное, что несколько минут он не мог вымолвить ни слова…
Температура у Бори оказалась нормальной, в горле у него мама тоже ничего не обнаружила, но решила на денёк задержать его в постели. В этот момент в комнату ворвался разъярённый отчим. Вид его был ужасен, по крайней мере, так показалось Боре. С красным, почти багровым лицом, с глазами, горевшими яростью, с искривлённым ртом, он не крикнул, не сказал, а как-то прорычал:
– Ты только посмотри, что наделал этот негодяй! Этот мерзавец испортил мою работу, извёл все краски! Нет, этого так я не оставлю. Я его кормлю, одеваю, игрушки, книги ему покупаю, а он мне назло пакостит… – с этими словами он схватил за руку мальчика, пытавшегося спрятаться за мать, и, волоча его по полу, продолжал срывающимся голосом:
– Ну, я сейчас тебе покажу, как пакостить, сейчас ты у меня узнаешь!
Боря был настолько испуган и ошеломлён, что не произнёс ни звука. Притащив мальчика в кабинет, Николай Геннадиевич сорвал со стены большой арапник (так называлась нагайка, применявшаяся для наказания охотничьих собак), бросил Борю на диван и со всей силой хлестнул по его худенькому тельцу. Тот как-то жалобно и тоненько взвизгнул:
– Ма-а-ма! – и замолчал, так как от боли и страха потерял сознание.
Вид взбешённого мужа так поразил Нину, что она растерялась и опомнилась, только услышав отчаянный визг сына. Вбежав в кабинет, она бросилась к дивану и своим телом закрыла Борю. Сделала она это так стремительно, что Николай, не успев остановиться, нанёс несколько ударов и по её телу. Остановился он, только услышав гневный крик Нины Болеславовны:
– Зверь! Не смей! Ты убьёшь ребёнка! Он не твой, ты не имеешь права его бить!
Тяжело дыша, Мирнов бросил в угол комнаты нагайку и выбежал на улицу. Ему стало стыдно и страшно. Он ведь не был злым, а просто не всегда умел сдерживать свою вспыльчивую натуру. Бродя по улицам городка и постепенно успокаиваясь, он говорил себе:
– Как же это я не сумел совладать с собой, как мог быть таким жестоким? Как-то теперь ко мне будет относиться Нина? И всё из-за этого совершенно чужого ребёнка! Надо отдать его отцу!
На крик Бори и Нины из кухни выскочили Ксюша и Надя со Славой на руках, но хозяйка их выпроводила, а сама, взяв мальчика на руки, понесла его в детскую. Боря уже пришёл в себя. Он только продолжал дрожать всем телом и судорожно всхлипывать, стараясь плотнее прижаться к матери. Слегка заикаясь, он спросил:
– Мама, он больше не будет, да? Не будет? Я ведь только хотел на колбаски посмотреть, а они все и выдавились. Он больше не будет так сердиться?
– Не будет, не будет. Успокойся. Ложись в постельку, усни, а я около тебя посижу.
Она раздела ребёнка и ужаснулась, увидев багровые полосы от ударов на его спине и ногах. Пошла на кухню, налила в чашку уксусу, оторвала чистые тряпки, стала мочить их и прикладывать к этим местам. Слёзы так и лились по её щекам. Затем она укрыла простынёй затихшего сына и пошла к двери, думая, что он уснул. И вдруг она услышала его тихий голос:
– Мама, а правда, что он не мой папа?
Мать остолбенела:
– Кто тебе это сказал? С чего ты выдумал?
Боря понял по её тону, что сказал что-то неладное и, стараясь замять разговор, произнёс:
– Так… Никто…
Нина понимала, что она не сумеет ответить на вопрос сына так, чтобы он её понял, а солгать не решилась. Она вернулась к Боре, погладила его по голове, поцеловала и сказала:
– Ну вот, выдумщик ты мой. Засни-ка, утро вечера мудренее.
Придя в столовую, она задумалась. Только что происшедший инцидент казался ей диким, безобразным. Ведь в семье Пигуты никогда не применяли к детям телесных наказаний, да ещё с такой жестокостью. Бывало, правда, что маленьких шлёпали по попке, да и то, это делала чаще всего Даша. Но чтобы с такой злобой бить нагайкой маленького ребёнка?! Этого она никогда не видела.
– Да, Боре будет трудно.
Она ни на минуту не подумала о том, чтобы оставить Николая, слишком велико было её чувство к нему. Ему она могла простить всё. Но она понимала и то, что это только начало. Боря будет ещё проказить, и с таким вспыльчивым человеком, каков его отчим, видно, не уживётся. Да надо подумать и о Славе, ведь он до сих пор в разряде незаконнорожденных. А пойдёт учиться, каково ему будет? Наконец, могут быть и ещё дети. И Нина в тот же вечер написала матери в Темников, прося её связаться с Алёшкиным и передать ему, что она согласна отдать ему Борю, при условии получения необходимых документов на развод.
Стремясь чем-то занять Борю и опасаясь его новых шалостей, супруги задумали начать его учение. В августе ему исполнилось шесть лет, а в школу принимали только восьмилетних, пришлось нанять частного учителя. Нанимать приходящего было слишком дорого, нашли другой путь.
Самым высшим учебным заведением в Плёсе в то время было городское четырёхклассное училище. Один из педагогов этого училища, пожилой человек Пётр Петрович Горбунов, жил через несколько домов от квартиры Нины Болеславовны. Он подготавливал мальчиков 9–10 лет для поступления в гимназию, занятия проводил на дому. Согласился за довольно умеренную плату обучать начальной грамоте и Борю. Было условлено заниматься по два часа, кроме воскресений и других узаконенных праздников.
С этого времени, а это было первого октября 1913 года, Боря ежедневно вместе с тремя другими учениками сидел в чистенькой комнате небольшой квартирки Петра Петровича и, высунув язык, усердно старался постигнуть тайны чистописания или решал задачи, читал Часослов и даже Евангелие. От чтения «Родного слова» он был освобождён: самые последние рассказы в нём он прочёл без запинки при первом знакомстве с учителем.
К Рождественским праздникам Боря уже знал почти половину таблицы умножения, а устные примеры на сложение и вычитание решал почти моментально. Наладилось дело и с церковнославянским чтением. Постигнув наконец премудрость словообразования и значение разнообразных титл, Боря читал Часослов довольно бегло, чем вызывал большое уважение Ксюши, которая была женщиной религиозной.
На Рождество Пётр Петрович устроил каникулы. В течение двух недель все ученики могли к нему не приходить. Трое старших обрадовались, а Алёшкин (так его называл учитель) особой радости не проявлял. Учение ему представлялось какой-то новой, очень интересной игрой, которой он отдавался со всей непосредственностью шестилетнего ребёнка.







