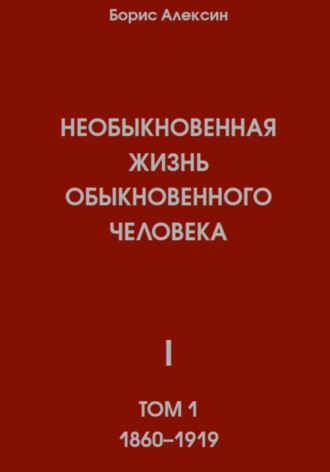
Борис Яковлевич Алексин
Необыкновенная жизнь обыкновенного человека. Книга 1. Том 1
Время для всех троих пролетело незаметно, и когда Болеслав Павлович, блестяще окончив академию, по требованию Охранного отделения Министерства внутренних дел должен был покинуть Петербург, его тесть, съездивший в конце 1876 г. в Рябково и убедившийся, что строительство больницы в Адищево закончено, а часть рябковского дома приведена в жилое состояние (кстати, во время этой поездки он уладил и ещё одно дело, о котором мы скажем ниже), предложил им ехать в Рябково, где они могут жить, а работать Болеслав Павлович будет в открывающейся адищевской больнице. Предложение о занятии должности земского врача от уездной управы он получил ещё осенью 1875 года.
Болеслав Павлович и Маша встретили это предложение с большой радостью, и в первых числах января 1877 года они выехали из Петербурга.
После их отъезда Александр Павлович переехал в небольшую квартиру недалеко от Невского, с ним переехал и его старый слуга Андрей.
Глава третья
Когда Болеслав Павлович и Мария Александровна приехали в Рябково, нашли там вполне удобное жильё, прекрасный сад и чудесный воздух. Для Маши эти места были очень дороги и хорошо знакомы: здесь прошло её детство, сюда уже девушкой она вместе со всей семьёй почти каждый год приезжала на лето, и только последние три года после смерти матери они перестали бывать в Рябково. Но тем приятнее было оказаться здесь снова.
Во дворе стоял небольшой флигелёк, окружённый высокими толстыми елями. В нём жил со своей падчерицей Дашей бывший управляющий имением Шиповых Павел Павлович Николаев, или, как его звали все в доме, Пал Палыч. После отмены крепостного права, а затем постепенной продажи земли и лесов, принадлежавших имению, и превращения его в одинокий дом с садом, Пал Палыч продолжал жить всё в том же флигельке, в котором прожил без малого сорок лет. Он уже не получал никакого жалования и, чтобы иметь какие-то средства к существованию, занялся врачеванием крестьян. В молодости он учился на фельдшера и кое-какие познания в медицине имел. Кинешемское уездное земство было радо и такому медику и потому утвердило его в должности фельдшера рябковского фельдшерского пункта.
Надо сказать, в волости ни для кого не было секретом, что ремонтировались старые дома и строилась адищевская больница для нового «столичного» доктора. Способствовал этому и сам Пал Палыч, который говорил некоторым больным, заслуживающим, по его мнению, большего внимания:
– Погодите, вот скоро учёный доктор из Петербурга приедет, он уж вас обязательно вылечит.
И многие ждали приезда Болеслава Павловича как спасителя от всех болезней.
Мы ещё почти ничего не сказали о Рябково, а оно заслуживает того, чтобы о нём рассказать подробнее.
К началу XIX столетия это было большое поместье, имевшее более трёх тысяч десятин пахотной земли и лесных угодий и около тысячи душ крепостных. Располагались земли и леса его, а также и сам помещичий дом на левом берегу реки Волги, в двух верстах от неё, между двух уездных городов – Кинешмы, до которой около 20 вёрст, и Судиславля в шести верстах. Рябковский помещик в своё время владел четырьмя деревеньками и большим селом Рябково. В нём была церковь и приходская школа. Большинство крестьян Рябково занималось промыслами, связанными с рекой, и поэтому почти все они были на оброке.
Никто не знает, село ли было названо по имению или имение по селу – одно только известно, что рябчиков в окружающих лесах было неисчислимое множество. Может быть, от них и пошло название Рябково.
Мы уже говорили о том, что в распоряжении рябковского барина, как его ещё продолжали называть местные крестьяне, Шипова, от всего прежнего богатства остался дом с надворными постройками, флигелем, садом и небольшим огородом.
Сад был запущен. От былого великолепия его остались могучие дубы, клёны и липы, посаженные ещё очень давно и разросшиеся до того, что кронами они совсем переплелись и образовали густой зелёный шатёр, закрывавший и веранду, и часть аллей, идущих от неё вглубь сада. Бывшая когда-то украшением сада оранжерея развалилась, и все растения в ней погибли.
В то время, когда приехали Пигуты – молодые хозяева, весь сад был покрыт высокими сугробами снега, и лишь одна дорожка от крыльца флигеля до веранды была расчищена.
Дом, построенный ещё прадедом Александра Павловича, был собран из толстенных еловых брёвен, оштукатуренных изнутри, в некоторых местах обитый тёсом снаружи. Он имел два фасада: один, главный, выходил во двор, обращённый к проезжей дороге, идущей из г. Галича в г. Кострому, другой выходил в уже описанный сад. На фасаде, обращённом во двор, было большое крыльцо, окружённое рядом колонн, искусно вытесанных из толстых сосновых брёвен и покрашенных «под мрамор».
Почти каждый из следующих владельцев дома внёс свою лепту в его архитектуру. И творение какого-то довольно известного зодчего, привезённого прадедом Александра Павловича за огромные деньги чуть ли не из самой Италии, постепенно превратилось в бесформенное строение, со множеством пристроек, переходов и коридоров. Дом был одноэтажный, но затем в средней его части кто-то придумал построить трёхкомнатный мезонин, который изуродовал его ещё больше. Когда семья Шиповых жила в Рябково, то в этом мезонине жили девочки, в том числе и Маша, он и получил название «девичий».
Большинство окон дома было закрыто ставнями, не открывавшимися несколько лет, комнаты его числом более тридцати не убирались тоже давным-давно. Часть мебели в своё время была вывезена в Петербург, часть пришла в совершенную негодность, а то, что ещё можно было употребить, заботливый Пал Палыч велел снести в комнаты, приготовленные для молодых хозяев.
Внешний, да и внутренний вид огромного, холодного, пустого и из-за закрытых ставень мрачного дома производил тягостное впечатление, такое же, какое производит старый одинокий бобыль, не имеющий никого близких и доживающий свой век, заброшенный и всеми забытый.
Особенно грустное чувство вызвал этот вид у Маши, ещё живо помнившей, как в дни её детства было здесь шумно и весело, а в многочисленных комнатах всегда полно народу – родственников, гостей, постоянно то приезжавших, то отъезжавших.
Резкий контраст со всем домом представляло южное крыло его, пристроенное сравнительно недавно, большую часть которого (пять комнат, веранду, выходящую в сад, и боковое крылечко, спускающееся во двор) в течение последнего года старательно ремонтировали и подготавливали к приезду молодожёнов. Кроме пригодной мебели, туда были снесены и все ковры, и гобелены, и картины, которых оставалось после отъезда в Петербург ещё порядочно.
Стараниями Даши в одну из комнат были собраны все уцелевшие от времени и мышей книги. Получилась довольно интересная старинная библиотека.
Когда почтовая тройка, привезшая молодую чету, остановилась у бокового крыльца дома, с него спустился Пал Палыч, а следом за ним сбежала и Даша. Пал Палыч, поздоровавшись с господином доктором и Машенькой, как он называл Марию Александровну, так как знал её с пелёнок, сейчас же приступил к рассказу о новой больнице, которой он, по-видимому, был увлечён с головой. Маша и Даша, в прошлом закадычные подруги, обнялись и быстро скрылись в дверях дома, одна – чтобы скорее показать, что тут удалось сделать, другая – чтобы скорее осмотреть своё будущее жилище. Обе они опасались, понравится ли оно Болеславу Павловичу.
Все вещи в обновлённой квартире были приведены в порядок и расставлены под наблюдением Пал Палыча и Даши с таким вкусом, чтобы Маша, увидев с детства знакомое бабушкино кресло в столовой, в гостиной – огромные стоячие часы, за которыми они с сестрой любили прятаться, и многое другое, – была тронута до слёз.
В этом же крыле дома помещалась и кухня, отремонтированная и перестроенная на новый лад. В ней вдобавок к большой русской печке, занимавшей добрую треть помещения, была сложена городская плита – вещь новая, на которую приходившие в кухню крестьяне смотрели с изумлением и недоверием, не понимая, для чего нужна эта «штуковина», когда рядом стоит такая добротная и вместительная печь.
Были отремонтированы также надворные постройки первой необходимости, баня, был вычищен и колодец.
Понравилась квартира и Болеславу Павловичу, хотя, по правде сказать, в эти первые минуты и часы по приезде он не очень-то разглядывал её. Все его мысли были поглощены новой больницей. В голове у него уже роилось множество планов и предположений о будущей работе.
Павел Павлович вёл амбулаторный приём в одной из комнат своего флигеля. Болеслав Павлович, осмотрев его, решил, что часть своего приёма он будет вести здесь же, но главный приём будет производиться в амбулатории, построенной при адищевской больнице, куда вскоре он и помчался.
Подруги остались одни. Пока они делятся своими маленькими женскими секретами, познакомимся немного с Дашей.
Даше исполнился всего год, когда умер её отец, работавший в бухгалтерии одной из кинешемских текстильных фабрик. Через год после этого её мать вышла замуж за Павла Павловича Николаева. Лет пять тому назад умерла и мать её: Даша осталась круглой сиротой. Прожив всю свою недолгую жизнь в Рябково и полюбив Пал Палыча как родного отца, она осталась с ним жить и после смерти матери, не желая оставлять старика одного.
В детстве Даша воспитывалась вместе с детьми Шиповых, затем училась в судиславльской гимназии, но после смерти матери вынуждена была оставить её и заняться домашним хозяйством.
С детства и юности обе девушки дружили, они были ровесницами. В своё время вместе облазили все окружные овраги, знали наперечёт все грибные и ягодные места в ближайших рощах и перелесках и все укромные места на Волге, куда бегали купаться, вместе учили неправильные глаголы, задаваемые француженкой, вместе овладевали правилами первых грамматических упражнений и арифметических задач, которым их учил гувернёр, и вместе же ненавидели его всей душой. Дружба их продолжалась и в последующее время, когда Маша приезжала в Рябково на каникулы.
Подруги не виделись последние три года, и, как мы знаем, за это время в жизни Маши произошло много перемен, в Дашиной же жизни всё осталось по-старому.
Если Маша успела превратиться в самостоятельную даму, потерявшую мать, брата, вынужденную покинуть Смольный и заняться совершенно незнакомым ей до того делом – ведением домашнего хозяйства, претерпеть все перипетии родственных неудовольствий и ссор из-за своего брака, что не могло не наложить на её внешность печать озабоченности и серьёзности, то Даша по-прежнему жила в своём доме вместе со стариком-отчимом. И хотя ей приходилось вести хозяйство в гораздо более трудных условиях, она оставалась весёлой и беззаботной девушкой.
Менее чем через двадцать минут после выезда из Рябково Болеслав Павлович и сопровождавший его Пал Палыч были в Адищево и входили в здание новой больницы.
В доме пахло смолистым деревом и свежей масляной краской. В маленьких палатах уже стояли железные солдатские койки, покрытые серыми суконными одеялами, у кроватей были тумбочки. Этот инвентарь был отпущен земством. Больше пока не было ничего.
На другой стороне была амбулатория, состоявшая из большой ожидальни с лавками по стенам, кабинета врача, комнатки для фельдшера и маленького помещения для аптеки. Кое-какой инвентарь и для этих помещений имелся. Пал Палычу его тоже удалось выпросить у земства, но всего было очень мало. Главное же, совсем не было никакого медицинского имущества и инструментария, не было его или почти не было и в рябковской фельдшерской амбулатории. Так что по существу работать было нечем, и потому первоочередной задачей явилась необходимость поездки Болеслава Павловича в Кинешму, чтобы выхлопотать средства для приобретения хотя бы самого нужного.
Когда он вернулся домой, было уже совсем темно. Маша была одна и, конечно, обижена, что в первый же день приезда муж оставил её и умчался по делам. Однако вернувшийся Болеслав с такой горячностью и энтузиазмом обрисовал ей положение дел, с таким восторгом рисовал ей будущие радужные перспективы своей работы, что Маша невольно увлеклась вместе с ним и забыла про свою обиду.
Болеслав Павлович готов был хоть завтра же ехать в Кинешму, но ему – нет, правильнее им обоим, предстояло совершить ещё одно небольшое дело, как выразился молодой супруг. Вот бы слышали это выражение Машины родственники!
Болеславу Павловичу Пигуте и Марии Александровне Шиповой, нужно было всего-навсего только… повенчаться! Да, да, повенчаться! Дело в том, что по вероисповеданию Пигута был католик. Собственно, в душе-то он был атеист, но по имеющимся у него документам числился католиком, хорошо ещё, что об этом, кроме отца Маши, никто из родственников не знал, а то бы ещё больший скандал был.
Он не отказывался венчаться в любой церкви, в том числе и в православной, но в Петербурге русское духовенство требовало, чтобы инаковерующие перед венчанием крестились в православную веру. А на это он не соглашался.
С другой стороны, и Маша, хотя она и не была никогда особенно религиозной и многие обряды православной Церкви считала просто нелепыми, не хотела переходить в католическое вероисповедание, чтобы обвенчаться в костёле, который в Петербурге был. Да и отец этого никогда бы не разрешил. Их жизнь могла, таким образом, поломаться, даже не начавшись.
Но Александр Павлович, получив согласие Болеслава Павловича на венчание в православной церкви, сумел помочь им и в этом деле. Во время пребывания в Рябково он уговорил старенького отца Петра, крестившего всех его детей и венчавшего его самого, чтобы тот повенчал молодых, не интересуясь вероисповеданием жениха. Очевидно, что помимо хорошего отношения Александра Павловича с рябковским священником успеху переговоров способствовало и солидное приношение, которое пришлось сделать на благолепие храма. Словом, согласие было получено, тем более что все Шиповы венчались и выходили замуж в Рябково.
И на следующий же день в рябковской церкви с некоторым нарушением порядка, без предварительного оглашения, без лишних свидетелей состоялось скромное венчание. Машенька Шипова стала наконец по-настоящему Марией Александровой Пигутой.
Глава четвёртая
С первых же дней пребывания в собственной теперь квартире молодожёны с головой ушли в нескончаемые дела и заботы, да так до старости из них и не выбрались, в сущности.
Мария Александровна под руководством и при безотказной помощи Даши принялась за освоение сельского домашнего хозяйства. Тут и поддержание порядка в доме, на кухне, а с весны и заботы о саде и огороде. А Болеслав Павлович утром же после венчания уехал в Кинешму, добился выделения некоторой суммы денег, кое-что закупил там, а за другим выехал в Кострому. Все поездки совершались на лошадях и требовали много времени и сил. Не успел он вернуться с покупками из города, как пришлось принимать больных в считавшейся уже открытой больнице. Амбулаторные больные, узнав о прибытии доктора, тоже все хотели попасть к нему, и отказать им было нельзя.
Так и началась у Болеслава Павловича суматошная работа земского врача по 12–14 часов в сутки, без праздников и выходных, без отпусков и курортов.
Кроме того, всегда неожиданные ночные вызовы, постоянные хлопоты о деньгах, бесконечные споры с поставщиками продовольствия для больницы, заботы о фураже для лошади, о ремонте тарантаса или саней и ещё о многом, многом другом, о чём во время пребывания в академии он даже и не слышал.
Постепенно набирались хлопоты и у Марии Александровны. Через год по приезде в Рябково она родила первого ребёнка – дочь, которую назвали Еленой, через полтора года после неё родился сын Володя, ещё через полтора года опять сын – Митя.
Таким образом, уже через пять лет семья Пигуты состояла из пяти человек, что требовало больших забот, да и денег, конечно. И неизвестно, как бы справилась со всем сложным домашним хозяйством не очень-то приспособленная к этому Мария Александровна, если бы не расторопная, всегда ласковая и весёлая Даша, которую уже многие к тому времени, несмотря на её молодость, называли Дарьей Васильевной, и которая успевала и в своём доме порядок навести, и поухаживать за стариком-отчимом, и на базар в Рябково съездить, и в Судиславле побывать, закупить продуктов, материала на пелёнки, или корзину для новорожденного, или ещё какую-либо необходимую вещь, нанять людей для прополки огорода и так далее, и так далее…
В доме была только одна прислуга – кухарка, едва умевшая приготовить нехитрый обед, хотя до этого служила в Судиславле у самого брандмайора. Мария Александровна и вовсе готовить не умела, научить чему-нибудь кухарку не могла, и здесь Дашины советы бывали очень нужны. А уж о заготовках на зиму и говорить не приходилось: всякие соления, варенья, сушенья были Дашиной специальностью, с ней по этим вопросам и от соседних помещиков советоваться приезжали.
Одним словом, Даша стала как бы непременным членом семьи Пигуты, и Мария Александровна, отдавая всё больше и больше времени детям, бразды правления по дому передала ей.
Вопрос об увеличении доходов семьи разрешился так. В Судиславле, ближайшем от них городе, где рябковские жители привыкли всё покупать, куда ездили за всякой хозяйственной мелочью и Пигуты, жил один из последних старинных знакомых семьи Шиповых – Макар Иванович Соколов. Зашли к нему, познакомились с семьёй: женой и сыном Колей; понравились друг другу и подружились. С тех пор супруги Пигуты и семья Соколовых встречались довольно часто и, конечно, знали друг о друге почти всё.
Услышав о необходимости увеличения доходов в молодом семействе, Макар Иванович, имея отношение к Судиславльскому земству, сумел устроить столичного доктора в судиславльскую городскую больницу. Теперь Болеслав Павлович должен был по необходимости, по долгу службы не менее двух раз в неделю бывать в городе и таким образом значительно сократить своё пребывание дома.
А дети росли: старшей Лёле уже скоро шесть лет, Володе вот-вот будет пять и Мите уже три. Пришлось кроме кухарки взять ещё и няню. Расходы множились, а Мария Александровна была вновь беременна. Она ждёт ребёнка к новому, 1883 году.
Сидит она в покойном бабушкином кресле и вяжет носки своему младшему сыну. На улице идёт снег – середина декабря. Болеслав Павлович уехал к больному и неизвестно, вернётся ли сегодня, последнее время он много ездит по уезду.
Скоро пройдёт почтовая тройка из Судиславля. Прежде чем сдать почту в Рябковское волостное управление, она всегда завозит для доктора газеты, журналы, письма.
Из соседней комнаты доносятся голоса играющих Лёли, Володи и Мити. С ними занимается няня Наталья, простая деревенская женщина, но очень исполнительная, опрятная и добрая к своим маленьким питомцам. Может быть, потому. что это дети барина – доктора, который два года назад лечил её в своей больнице от горячки и, как она говорит, спас её от верной смерти. А может, и потому, что вообще детей любит.
Мария Александровна механически вяжет, а в голове её бегут беспокойные мысли: «Дети подрастают, их надо учить. А где? И как? Нанять гувернантку? Но на это не хватит средств. Того, что зарабатывает Болеслав, едва-едва хватает на то, чтобы сносно жить, да и то при замечательных способностях экономной Даши. Достать денег неоткуда. Муж работает очень много. Вон как он похудел за последнее время и раздражительным стал чрезвычайно, вспыхивает как порох. Он и раньше-то терпеливостью не отличался, а сейчас и совсем… Что же делать? Придётся самой стать гувернанткой своих детей. Благо Даша почти всё хозяйство к рукам прибрала», – решила Мария Александровна и улыбнулась.
В это время во дворе зазвенел колокольчик, и через несколько минут запыхавшаяся Лёля вбежала в комнату, неся на вытянутых руках пачку газет и медицинских журналов. Сверху пачки лежал большой конверт.
– Мама, это, наверное, от дедушки, да?
С тех пор, как семейство Пигута поселилось в Рябково, они получали письма только от отца да изредка от некоторых знакомых. Ни брат, ни сестра Марии Александровны им не писали.
– Наверно, – тихо сказала мать и добавила, – иди, Лёля, играй с братишками, у меня что-то голова болит.
– Ничего, мама, вот папа приедет, он тебя вылечит, ведь он знаешь какой доктор!
– Знаю, знаю… – слабо улыбнулась Мария Александровна. – Иди, иди.
Маленькие Пигуты обожали отца, может быть, потому что видели не так часто, как мать. Мама всегда была рядом, и потому их любовь к ней была такой же необходимой привычкой, как привычка дышать. Когда же появлялся дома отец, становилось весело, шумно и празднично.
Мария Александровна взяла конверт. Адрес был написан незнакомым почерком: «Поместье Рябково Костромской губернии Кинешемского уезда, врачу Пигуте Болеславу Павловичу, в собственные руки». Мария Александровна повертела в руках письмо и сунула его под газеты, вскрыть его она не решилась. Муж не любил, чтобы вскрывали его корреспонденцию.
«Наверное, какое-нибудь служебное», – подумала она и начала просматривать газеты. Одновременно продолжала думать о воспитании детей: «А что на самом деле? Ведь не боги горшки обжигают. Выпишу себе пособий, купим учебники и подготовлю я своих ребят в гимназию, ведь училась же я в Смольном! А может, попытаться на дому маленькую школу сделать, кое-кого из соседских ребятишек пригласить, конечно, бесплатно, лишь бы нашим веселее было заниматься. Надо с Болеславом посоветоваться».
И услышала, как в прихожую вошёл муж. С шумом отряхиваясь от снега, снимая шубу и шапку, он воскликнул:
– Это почему же меня никто не встречает? Иль никого дома нет? Или никто подарков не ждёт?!
Тут же из детской раздался истошный визг, и через столовую вихрем пронеслись все трое ребят. В прихожей некоторое время царила радостная возня, затем в дверях появилась весёлая процессия. Впереди шагала Лёля, она держала в руках большую коробку цветных карандашей, и глаза её сияли от счастья. Следом за ней, держа на изготовку игрушечное ружьё, шёл Володя. Он пристально вглядывался в тёмные углы столовой, стараясь показать, что идёт опытный охотник. За ним Митя тащил за лапу тяжёлого плюшевого медведя. Видно, поднять его у ребёнка не хватало сил, и ноги мишки волочились по полу.
Замыкал шествие их отец. Весёлый, с раскрасневшимся от мороза и возбуждения лицом, он нёс большой свёрток, перевязанный бечёвкой.
– Ну, друг мой, Маруся, ребятишек я гостинцами оделил, а это тебе и будущей дочери, – сказал он, кладя свёрток на стол и целуя в лоб жену. – Ну, как ты тут? Заждалась? – спросил он ласково, но как-то небрежно, даже не дослушав ответ, устало опустился в другое, новое кресло и стал доставать папиросу.
Пара супругов представляла разительный контраст. Он – хоть и невысокий, но плечистый, начинающий немного полнеть, сильный и жизнерадостный мужчина, с громким голосом и быстрыми решительными движениями, ходивший твердым печатающим шагом. Она же – маленькая, хрупкая, всегда немного бледная, грустная и озабоченная, с тихим голосом и почти неслышной походкой. Часто по институтской привычке употребляла в разговоре французские выражения, но сейчас же их смущённо переводила.
За приятный тихий голос, за неслышную походку кухарка Полина прозвала её летающей барыней, хотя Мария Александровна не разрешала себя так называть и очень сердилась, если кто об этом забывал. Но и когда Мария Александровна сердилась – это бывало нечасто – она ни на кого из провинившихся не кричала, однако её выговор, произнесённый спокойным голосом, был таким властным, таким внушительным, что и дети, и прислуга её замечаний боялись и старались впредь не заслуживать.
Болеслав же Павлович в сердцах не только кричал, а иногда выражал своё недовольство польскими ругательными словами, чем немало возмущал жену. Но его шума как-то не очень боялись. Любил он, в отличие от жены, когда его называли барином, может, потому что на это имел не очень-то много прав. И как ни смешно, а те, кто обращался к нему «батюшка барин дохтур», мог рассчитывать на положительное решение той или иной просьбы.
Закурив папиросу и взяв одну из свежих газет, Болеслав Павлович заговорил:
– Ну и свиньи эти Лисовецкие! Как же, господа! Помещики! Хоть из таких же поляков, как и я, но богатые! Что им время таких «мошек», как земский врач? Ну да ничего, я не постеснялся, всё как есть ему выложил. Запомнит теперь врача Пигуту. Ведь ты, Маруся, подумай только: рядом город, рядом два городских врача с радостью бы приехали. Нет, как можно, Пигуту хвалят – вот и подайте им Пигуту, подайте им хвалёного! А то, что этому самому Пигуте надо пятнадцать вёрст по декабрьскому морозу на своём старом мерине тащиться, им на это наплевать. Хорошо, хоть шуба у меня тёплая. И добро бы за делом звали, а то, видите ли, у Брониславы Казимировны мигрень! Что же, я так вот приду, и сразу её мигрень, которая у неё ещё, наверное, с Турецкой войны держится, и вылечу? Всех профессоров в Москве своей мигренью она с ума свела, так теперь за меня принялась! Нет, я к ним больше не поеду, так и отбрил. Посмотрела бы ты, какими глазами она меня провожала…
– Ты опять повздорил, теперь с Лисовецкими, а ведь они с самим губернатором хороши, – укоризненно сказала жена.
– Что значит «повздорил»? Просто мы с супругом этой барыньки по душам поговорили.
– Ну и что?
– Да ничего. Сказал ему, конечно, что с его стороны бессовестно меня в такую погоду за пятнадцать вёрст тащить, тем более что он-то знает, что я его супруге ничем не помогу. Он, конечно, смотрел зло, а губами улыбался, извинялся и, как водится, сунул мне в прихожей в руку бумаженцию. Положил я её, не глядя, в карман. – Нужна мне, думаю, твоя трёшница! Оделся поскорее, да и в сани. Ехал через Рябково – дай, думаю, ребятишкам хоть пряников привезу. Подъехали к лавке, достал я из кармана смятую бумажку, гляжу, – Матка Боска, четвертной билет! Вот это показал себя соотечественник, а я его ещё так обругал. Ну да ничего, ему это на пользу пойдёт. Вот ты всегда говоришь, что я всегда груб и неотёсан, что с благовоспитанными людьми разговаривать не умею. Нет, милая Маруся, с ними цирлих-манирлих разводить нельзя, с ними – чем грубее да наглее, тем лучше. А не то они тебя со всеми потрохами съедят и не отрыгнут даже.
– Ах, мой Бог, Болеслав, как ты выражаешься… – сморщившись, сказала Мария Александровна. – Ведь тут же дети!
А ребятишки и в самом деле сидели тут же, на ковре около стола и о чём-то с жаром рассуждали, очевидно, определяя достоинства только что полученных подарков.
В комнату вошла Даша:
– Вот вы где, пропащие души! Захожу в детскую – где ребятишки? Наталья говорит, только баринов голос услыхали, их точно ветром сдуло, уж полчаса как нет. Ну-ка, друзья, собирайте свои сокровища, попрощайтесь с папенькой и маменькой, да пора ужинать и спать.
Дети вскочили и начали показывать, тёте Даше свои новые игрушки. Затем подошли к отцу и матери, поцеловали им руки. При этом мать каждого поцеловала в лоб и перекрестила, а отец Лёлю потрепал по щеке, Володю погладил по голове, а младшего Митю взял на руки, высоко подкинул, так, что тот взвизгнул и, поцеловав, опустил на пол.
– Так вот, Маша, – продолжал Болеслав Павлович, когда дети и Даша ушли, – разглядел я эту бумажку и решил: тут уж к Юсупову идти незачем. Деньги, можно сказать, неожиданные, дурные, их и потратить не грех побыстрее. Поехали мы с Василием прямо к самому Пантелеймону Лукьяновичу. У него, как известно, лавка богатейшая. Вот я и накупил всего. Одним словом, все двадцать пять рублей того, тю-тю! – закончил он немного смущённо. – Купил вам с Дашей по платку, прислуге на платье, маленькой на приданое материал. Да Василий в кухню унёс индюка, гуся, яблок, конфет, винца немного, – поспешно добавил он, видя, что жена что-то пытается сказать. А она довольно строго посмотрела на мужа и тихо сказала:
– Ты, как всегда, Болеслав, сделал совсем не то, что нужно. Накупил, потратил такие большие деньги зря. Неужели ты полагал, что мы с Дашей о Рождестве не подумали? Знаем и готовимся. И птицу заказали, и не у какого-то там лавочника, а прямо на ферме у помещика Кильдясова, и закуски она ещё на прошлой неделе из Судиславля привезла. Тебе бы со мной советоваться, прежде чем решать что-либо.
– Ну, конечно, на тебя никогда не угодишь! Ты мои самые благие намерения обязательно опорочишь! – взорвался Болеслав Павлович, вскочил с кресла, снова закурил и начал быстро ходить по комнате. От каждого его шага лампа вздрагивала, и зелёный абажур тихонько позвякивал.
Мария Александровна глядела на этот абажур и о чём-то думала. Может, о том, как изменился её муж за последние годы. Каким он был ласковым, нежным и заботливым, и каким стал вспыльчивым, несдержанным, неуравновешенным и даже иногда просто грубым. Во всём этом она винила его работу, отнимавшую много сил, нервов, времени. Однако она не замечала, как это часто бывает со всеми, что изменилась и она сама. Из веселой, жизнерадостной девушки она превратилась в постоянно озабоченную женщину, может, даже несправедливо относящуюся к своему мужу.
Несколько минут в комнате слышались только шаги Болеслава Павловича, потрескивание догорающих дров в печке и позвякивание абажура.
Болеслав Павлович так же быстро, как вскочил с кресла, снова сел, пододвинул его к печке и взял жену за руку.
– Ну, Марусенька, крошка моя, не сердись на меня! Вижу, что неладно сделал, ну да уж что теперь поправишь, не сердись, – повторил он. – Давай позовём Дашу, будем ужинать. Да тебе и спать пора, смотри, какая бледная. Как думаешь, скоро уже? А?
– В своё время. Ты же доктор, знаешь лучше, чем я, – улыбнулась Мария Александровна. – Да не волнуйся ты за меня, всё хорошо будет, ведь не в первый раз. Давай-ка и правда ужинать.
– А как ты думаешь, будет дочь?
– Наверное, раз ты этого так хочешь. Ну, довольно тебе ластиться, не сержусь уж. Звони-ка лучше на кухню, сам-то ведь, наверное, с утра ничего не ел, – говорила Мария Александровна, отнимая свои руки, которые муж осыпал поцелуями.
В те годы их ссоры хоть и стали частыми, но были кратковременными, и супруги быстро мирились. Ведь Болеславу Павловичу было около 34 лет, а Марии Александровне только что исполнилось 27. Они были ещё молоды и умели прощать друг друга.
Болеслав Павлович встал и потянул за шнурок, свисавший около двери столовой. Этот шнурок был его изобретением, которым он очень гордился. От него шла проволока по всему коридору и оканчивалась в кухне, где прикреплялась к звонку, такому, какие в то время вешались на дверях лавок и аптек, чтобы владельцы могли услышать, когда зайдут покупатели. Стоило потянуть за шнурок, звонок в кухне начинал дребезжать, и если там кто-то был, то шёл в столовую.







