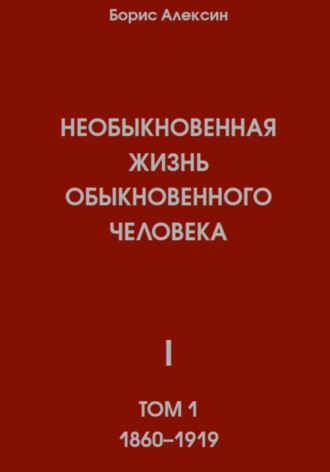
Борис Яковлевич Алексин
Необыкновенная жизнь обыкновенного человека. Книга 1. Том 1
В памяти Бори хоть и смутно, но сохранился облик папы Алёшкина, виденный им в двухлетнем возрасте. Папа представлялся ему большим и толстым. То, что Боря сам вырос, и с величия его девяти лет все взрослые ему стали казаться меньше, он ещё, конечно, не понимал. Вот эти раздумья и одолевали мальчика. А Поля, прибежав из кухни, торопилась привести его в порядок.
Пока проводился этот туалет, Мария Александровна, часто останавливаясь из-за слёз, которых она не могла сдержать, рассказывала зятю о трагических событиях, случившихся в её семье за прошедшие годы.
Вернёмся и мы к январю 1915 года, когда в семье Нины Болеславовны Алёшкиной появилась дочь Нина, получившая фамилию и отчество чужого, совершенно неизвестного ей человека.
Глава девятая
Через три месяца после рождения дочери, окрепнув, Нина решила переезжать в Николо-Берёзовец, где её давно ждали. Волга вскрылась, пошли первые пароходы. Не хотелось ей забираться в такую глушь. Плёс – хоть и небольшой, но всё-таки город. Недалеко в Кинешме – брат. В плёсской больнице она проработала более трёх лет, да и люди в ней стали как бы своими, близкими, расставаться с ними трудно. А там не было никого: ни родных, ни знакомых.
Но ехать необходимо. И как можно скорее, пока место ещё за ней. Жизнь с каждым днём становилась дороже, а у Нины на руках уже трое маленьких детей. Помощи ждать неоткуда: муж в армии, служила она одна. На новом месте жалование почти в два раза больше, можно будет сводить концы с концами. Ехать без прислуги немыслимо. Ксюша, привыкнув, не захотела оставлять эту семью, тем более что её Василий служил где-то в Карпатах. Надя от переезда отказалась.
В путь тронулись с первым пароходом, плыли до Костромы, затем да Солигалича, а оттуда часов 12 ехали на лошадях. Измучились за дорогу все, но, к счастью, никто не заболел.
Больница в Берёзовце Алёшкиной понравилась. Большое рубленое здание в форме буквы Г, рассчитанное на 70 коек, с четырьмя отделениями: терапевтическим, заразным, хирургическим и акушерским. Из четырёх врачей теперь в больнице было два: терапевт-хирург Тихомиров и акушерка Серафима Андреевна, более известная под именем тёти Симы. Серафима Андреевна, так же, как и доктор Тихомиров, работала в николо-берёзовецком врачебном участке лет пятнадцать, то есть со дня его открытия. Больницу построили перед самой войной, и остальной персонал её был молод.
Жена Сергея Андреевича Тихомирова, такая же старая, как и он, служила в больнице кастеляншей. Серафима Андреевна была одинока. Они занимали напополам вторую квартиру того же дома, в котором находилась квартира заведующего больницей.
С приездом Нины Болеславовны должно было открыться хирургическое отделение. До сих пор всех хирургических больных возили в город Солигалич, где больница всегда была переполнена, и потому часто больных из сёл не принимали.
Перед Алёшкиной сразу же встала неотложная задача: как можно скорее наладить работу операционной и начать оказывать необходимую помощь хирургическим больным. К счастью, у неё уже был опыт организации хирургического отделения по Плёсу, но в условиях Николо-Берёзовца она столкнулась с новыми трудностями.
Кое-как выделив для устройства своих личных дел всего три дня, она, положившись в остальном на Ксюшу, вместе со смотрителем (по-теперешнему завхозом) больницы принялась добывать необходимый инвентарь и инструменты, приводить в порядок имеющийся, обучать персонал, оперировать поступающих больных и одновременно руководить всей работой больницы.
Она уходила из дому чуть ли не с рассветом и возвращалась поздно вечером. Да ещё иногда приходилось бежать в больницу в середине ночи, к какому-нибудь вновь поступившему тяжёлому больному. У неё не хватало времени даже для того, чтобы покормить грудного ребёнка. Дочурку Ниночку вновь нанятая няня Василиса, перекрещённая ребятами в няню Васю, приносила для кормления прямо в больницу. Хорошо, что недалеко – по существу, в одном дворе.
Дом, отведённый под квартиры врачей, деревянный, рубленный, размещался во дворе больницы. Он стоял на небольшом пригорке, одна сторона которого более пологая и длинная, спускалась к зданию больницы и, перегороженная невысоким заборчиком, отделяла основной больничный двор от дворика, относящегося к жилому дому. Другая сторона пригорка, крутая и короткая, спускалась в сторону большого елового леса, подходившего вплотную к высокому забору, отгораживавшему весь земельный участок больницы. У подножья пригорка со стороны леса протекала маленькая безымянная лесная речушка.
Весной, когда приехала семья нового врача, все эти прелести частично скрывались таявшим снегом, а где он уже стаял, были покрыты топкой грязью, и пользоваться ими было ещё нельзя. Зато с наступлением тёплых летних дней весь пригорок покрылся ярко-зелёной травой и полевыми цветами. На речке около берегов, заросших осокой, начали свои бесконечные трели лягушки, а из леса с раннего утра и до позднего вечера доносились самые разнообразные птичьи голоса. Место это стало просто чудесным.
Деревья (большие ели и берёзы) росли отдельными группами и внутри двора больницы. Старшим ребятишкам, Боре и Славе, места для игр было более чем достаточно. Они впервые в жизни очутились в таком диком местечке. До этого они знали только город и теперь полностью отдавались полученной свободе. А скоро у них появились и приятели из местных сельских ребят. Мальчишки числились под присмотром Ксюши, но фактически были предоставлены самим себе, ведь на ней лежали все заботы по домашнему хозяйству: приобретение продуктов, приготовление еды, уборка квартиры и стирка белья. За продуктами надо было ходить в село, в его центр, а он находился далеко, версты за три от больницы. Там находился и базар, и лавки, путешествие отнимало много времени.
Няня Василиса, высокая, костлявая женщина лет сорока пяти, хорошо известная акушерке Серафиме Андреевне, по заверению последней, любила детей и умела за ними ухаживать. И на самом деле, маленькая Ниночка, целиком отданная на её попечение, была всегда чистенькой, сухой, сытой, и ничем не болела.
После нескольких месяцев напряжённой работы, к середине лета, Нина Болеславовна почувствовала ухудшение здоровья. Снова по утрам появилась тошнота. Она заметно похудела и осунулась, появилось отвращение к некоторым видам пищи и вообще отсутствовал аппетит. Кроме того, стали всё чаще беспокоить боли в области желудка, появлявшиеся как будто без всякой причины. Относить всё это на счёт переутомления было уже нельзя.
Прежде всего она осмотрела сама себя, и ей показалось, что в подложечной области прощупывалась какая-то опухоль. У неё мелькнула мысль о раке, но она тут же отбросила её. В семье Шиповых и Пигута, по её сведениям, никто не болел этой страшной болезнью, а в то время теория о наследственности рака была самой распространённой. Нина Болеславовна решила показаться Тихомирову.
Тихомиров считался опытным врачом, был он таким и на самом деле. Но ведь кроме глаз и пальцев он тогда ничем не располагал, и потому опухоли обнаружить не сумел, хотя осмотрел свою молодую коллегу самым внимательным образом. Да он и не рассчитывал её найти. Тогда считалось, что рак – это болезнь людей пожилого и даже преклонного возраста, а Алёшкиной не было ещё и тридцати трёх лет. Он решил, что это просто воспаление желудка, как тогда его называли, хронический катар желудка, явившийся следствием неправильного, нерегулярного питания, общего переутомления и кормления грудью ребёнка. Было решено Нину от груди отнять и одновременно приступить к лечению желудка различными щелочными лекарствами и щадящей диетой.
После месячного лечения Нина Болеславовна и в самом деле почувствовала себя бодрее. Да и работать она стала меньше. Первый, самый трудный период уже прошёл, и жизнь хирургического отделения вошла в нормальную колею. Она стала больше гулять, больше проводить времени с детьми, чему те были несказанно рады. Как будто всё наладилось. Есть она стала гораздо лучше, но худеть всё-таки продолжала.
В это время к ним в гости приехал брат мужа Юра Мирнов. Он окончил гимназию и собирался в этом году, если не возьмут в солдаты, поступать в университет. Юра гостил две недели и почти всё время проводил с ребятами, главным образом с Борей. Они ходили в лес за ягодой (земляникой, черникой, малиной), которой в лесу, начинавшемся у забора больницы, было очень много.
Лето подходило к концу. Несколько раз всей семьёй ходили за грибами.
В первых числах августа 1915 года, всего через два дня после отъезда дяди Юры, приехал домой папа – Николай Мирнов.
Появление его было настолько неожиданным, что все просто растерялись. Нина Болеславовна ещё не вернулась из больницы, была занята на операции. Ксюша и няня заметались по дому, чтобы скорее помыть, накормить и устроить отдых барину-солдату, а он в ожидании жены, умывшись с дороги, отправился в детскую, чтобы поскорее увидеть своих цыплят.
Нина спала, а Боря и Слава играли где-то на опушке леса, их даже не успели позвать. Взглянув на спящую дочку и поцеловав её, Николай Геннадиевич расспросил Ксюшу, где могут находиться сыновья, и отправился к ним.
В это время ребята вместе с деревенскими приятелями играли в войну. Они бегали кучками по полянке, окружённой невысокими сосенками. Славка, уставший от беготни, сидел посреди полянки. Когда он увидел подходящего солдата, он не узнал в нём отца, испугался и заплакал. Боря, прятавшийся в кустах, услыхав Славкин рёв, выскочил из своего укрытия, посмотрел в его сторону и обомлел: возле Славки стоял папа. Ну, конечно же, это был папа! Правда, немного непохожий на себя, в одежде солдата, но всё-таки это папа! А Славка-то, вот чудак, папы испугался!
Боря взвизгнул и бросился к отцу на шею. Затем они вместе подошли к Славе, и тот, глядя на старшего брата, успокоился и даже пошёл к отцу на руки. Так они втроём, сопровождаемые кучей ребятишек, взволнованно обсуждавших происшедшее (ведь у многих из них отцы тоже были в армии, но пока ни один не приезжал на побывку), и пришли к дому, где в этот момент появилась Нина Болеславовна.
В этот вечер в семье царили радость, веселье и смех. Николай Геннадиевич привёз ребятишкам кое-какие недорогие гостинцы: игрушки и сладости. Все были довольны и счастливы.
Вечером, когда ребят уложили спать, Мирнов рассказал жене, что по просьбе Костромского губернского земства, он, как и несколько служащих других уездных земств, отпущен на два дня для оформления передачи дел по своим должностям. Способствовало отпуску и ходатайство Александра Александровича Шипова.
Обратив внимание на болезненный вид жены и на её заметное похудание, Николай Геннадиевич сказал:
– Мне завтра надо ехать в Кострому для оформления своих дел, это займёт не меньше двух дней, прямо оттуда я должен возвратиться в свою часть. Поедем вместе – так мы дольше с тобой пробудем, да и, кроме того, в Костроме ты сможешь показаться губернским врачам. Твой вид меня тревожит.
Нина пробовала отказаться, ссылаясь на загруженность работой, но так как ей и самой очень хотелось подольше побыть с мужем, она в конце концов сдалась.
На следующий день Нина и Николай уехали в Кострому. Остановились они у Анны Петровны Мирновой – его матери, и пока он оформлял свои земские дела, Нина отправилась на приём к врачу-хирургу губернской больницы доктору Феерштамму, старому обрусевшему немцу.
Узнав, что Нина Болеславовна врач, да к тому же ещё и дочь известного Болеслава Павловича Пигуты, он осмотрел её со всей тщательностью, на которую был способен, и, посетовав на то, что нет рядом «уважаемого коллеги Болеслава Павловича, опыт которого очень бы пригодился», заявил, что, по его мнению, ничего серьёзного нет, и оснований для беспокойства быть не должно.
– Побольше кушай, гуляй, меньше работай, не думай, не грусти и всё будет совсем хорошо, майн либер коллега, – так заключил он свой осмотр.
Не очень-то верила Нина Болеславовна этому врачу, но его слова успокоили. Успокоило это заключение и её мужа, и он с лёгким сердцем отправился в свой полк в г. Владимир.
Ни он, ни Нина Болеславовна не предполагали, что это будет их последняя встреча в жизни, но всё-таки решили сфотографироваться на память. Снялись в начавших тогда появляться так называемых моментальных фотографиях. Было это 15 августа 1915 года.
Нина Болеславовна, вернувшись в Николо-Берёзовец, использовав письменное заключение Феерштамма, испросила у Солигаличского земства двухнедельный отпуск и использовала его для прогулок в лесу, которые она проводила вместе с детьми.
На день рожденья Бори от бабуси пришла посылка, в ней была книга «Новый швейцарский Робинзон». Мама тоже подарила ему красивую книжку – «Принц и нищий». Эти две книги для Бори были долгое время самыми верными и преданными друзьями. Читал он их по очереди много раз. Многие эпизоды знал почти наизусть, и теперь героями его игр были персонажи этих книг. Они так ему полюбились, что уже будучи юношей, он продолжал всюду возить книги с собой, и всегда, когда ему становилось грустно или скучно, доставал одну из них и, прочитав какое-нибудь наиболее полюбившееся ему место, возвращал себе хорошее расположение духа.
* * *
Осенью Борю определили в николо-берёзовецкую сельскую школу. Ему исполнилось всего восемь лет, но он уже окончил два класса городской школы в Плёсе, и его приняли сразу в третий класс.
Школа Боре очень не понравилась. Учитель, ещё не старый мужчина высокого роста, с большим животом и рыжей бородой, занимался сразу со всеми тремя классами, так как был один. Два первых класса помещались в одной комнате, а третий находился в соседней, и учитель всё время ходил из комнаты в комнату. У него был очень громкий голос, и он почему-то всегда был сердит.
В руке он держал специальную длинную линейку, так называемый квадратик, которая почти непрерывно гуляла по затылкам, лбам, рукам, плечам и по иным местам провинившихся учеников. Причём удары сыпались совершенно неожиданно и часто безо всякого существенного повода. Реветь громко было нельзя, тогда попадало вдвое больше, да, кроме того, провинившегося за ухо вытаскивали из-за парты и отводили в угол между шкафами, где тот и стоял на коленях, иногда по полтора-два часа.
Боре в этой школе везло, его ни разу серьёзно не наказывали, ну а то, что почти ежедневно попадало квадратиком по рукам или затылку, за наказание не считалось. Собственно, наказывать его было и не за что. Учился он с большим прилежанием, отличался сообразительностью, понятливостью и имел великолепную память.
Шалил он в классе не больше, чем остальные ребята. И это объяснялось отнюдь не тем, что он потерял присущую ему живость характера и стремление к проказам, а тем, что он в классе был самым маленьким и, пожалуй, самым слабеньким, ведь ему только недавно исполнилось восемь лет.
Случилось так, что Алёшкина посадили за одну парту с Васькой Шекульдяевым – парнем четырнадцати лет, сидевшим в третьем классе уже третий год и бывшим выше всех своих одноклассников почти на пол-аршина. Священник, преподававший Закон Божий, прозвал их Давидом и Голиафом – так они выглядели, сидя за одной партой.
Первое время Боре пришлось вытерпеть немало щелчков и подзатыльников от своего соседа, но он терпеливо их сносил, не плакал и никогда не жаловался учителю. Такое поведение Бори вызвало к нему некоторую симпатию со стороны Васьки. А после того как Алёшкин помог соседу при решении задач и во время диктантов, между ними установились дружеские отношения.
Выручая Ваську подсказкой и позволением списать решение или какое-нибудь непонятное слово, Борис всегда пытался объяснить ему, почему нужно делать или писать именно так, а не иначе. Эта товарищеская помощь без насмешек и ругани как бы сдвинула с мёртвой точки застывший от постоянных неудач интеллект, и с этого времени Шекульдяев всё чаще и чаще стал правильнее отвечать на вопросы учителя. А Борис Алёшкин стал пользоваться уважением и защитой со стороны Василия. В результате этой дружбы один стал лучше учиться, а другой, почувствовав за собой сильную физическую поддержку, стал держаться среди остальных учеников более независимо и самостоятельно.
В третьем классе уже велось систематическое изучение Закона Божия. Ученики, выучившие основные молитвы в предыдущих классах, стали изучать Ветхий Завет. В этой книге излагались различные истории, происшедшие с людьми и разными святыми со времени сотворения Богом мира до Рождества Христова. Как сам рассказ о сотворении мира, так и все последующие приключения различных праотцов и пророков казались Боре чудесными сказками, а сказки и разные приключения он любил, и потому, не вдаваясь в смысл этих историй, а схватывая только их занимательную фабулу, читал их запоем.
Когда эти истории рассказывались священником на уроке, Боря слушал их с напряжённым вниманием. Отсюда законоучитель сделал вывод, что Алёшкин религиозен, и ставил его в пример другим ученикам. Конечно, это была не религиозность, а просто детская вера в то, что всё написанное в книжках или рассказанное взрослыми, действительно когда-то происходило. Боря верил, что мир был сотворён в течение семи дней, так же, как верил в существование Робинзона, Пятницы, великанов, чертей и домовых.
Так, незаметно для него, прошла первая четверть учебного года, наступили Рождественские каникулы.
В этом году семья Нины Болеславовны Алёшкиной почти не праздновала Рождество. Хозяйка поняла, что её заболевание не простой катар желудка, а что-то гораздо более серьёзное и опасное, что местными силами, так же как и костромским знаменитым Феерштаммом, болезнь не распознана, и что вылечить её в условиях Николо-Берёзовца невозможно.
Она гнала от себя мысль, что у неё рак, так как знала, что рак – это почти наверняка – смерть. Как хирург она понимала и то, что без операции не обойтись. Теперь это и она, да уж и доктор Тихомиров видели ясно, они оба полагали, что это язвенная болезнь желудка, а язву в то время уже начинали лечить хирурги. Такую сложную операцию в то время можно было сделать только в специальных клиниках в Петрограде или в Москве, и, конечно, она потребует денег.
Нужны будут большие деньги не только на оплату самой операции и за время пребывания в больнице, но и на содержание семьи, нужно будет рублей 400–500, не меньше, а где их взять? Ведь муж, находившийся в армии, ей сейчас ничем не поможет, трудно было рассчитывать на какую-либо помощь и от его матери. С началом войны царским правительством введён сухой закон, и так называемые казёнки закрылись. Анна Петровна с младшим сыном жила сейчас только на маленькую пенсию, получаемую за мужа.
К отцу Нина Болеславовна обращаться не хотела. Она ещё хорошо помнила свой последний разговор с ним. Пришлось снова обратиться к брату Мите. Нина написала ему о своих предположениях, о необходимости срочной консультации по поводу её здоровья со столичными врачами, а может быть, и проведения операции. Сообщала также, что по её подсчётам это обойдётся в четыреста рублей, что у неё сейчас таких денег нет, да и чувствует она себя настолько слабой, что просит его и маму помочь ей не только деньгами, но и уходом за ней в случае её госпитализации. Матери она писать не решилась, боясь её растревожить, и, как всегда в затруднительных случаях, просила сделать это брата.
Дмитрий по тону письма сестры понял, что речь идёт о серьёзном заболевании и что допускать промедления нельзя. Он осторожно сообщил о болезни Нины Марии Александровне, и та немедленно выслала часть необходимых дочери денег.
В начале декабря 1915 года, получив деньги от матери и брата, а также и своё жалование, Нина Болеславовна выехала в Москву. На хозяйстве она оставила Ксюшу, выделила ей небольшую сумму, обещая в случае своей задержки выслать из Москвы ещё.
Одновременно с Ниной в Москву приехал и её брат. После того, как её осмотрели известные тогда врачи – Гаусманн и другие – и установили, что у неё имеется опухоль в желудке и что без хирургического вмешательства не обойтись, Дмитрий Болеславович добился помещения сестры в клинику к уже известному тогда хирургу Николаю Николаевичу Петрову при Московском медицинском институте.
Сам Дмитрий Болеславович оставаться в Москве дольше не мог. В его семье тоже назревали важные события. В 1915 году, почти через десять лет после замужества, забеременела его жена. По расчётам, роды должны были произойти в январе 1916 года. Но оставлять в Москве Нину одну нельзя – он решил вызвать мать.
Воспользовавшись Рождественскими каникулами, Мария Александровна приехала в Москву 31 декабря. Сын рассказал ей о тяжести Нининого заболевания и совершенной необходимости операции. Он предупредил мать, что, видимо, на неё ляжет вся тяжесть ухода за больной дочерью, так как он должен выехать в Кинешму к жене.
Поездка Марии Александровны в Москву в то время стала необходимой и ей самой: её жалобы на боли в животе тревожили Янину Стасевич, которая и раньше настаивала на том, чтобы больная показалась московским знаменитостям. Все заботы о Жене Стасевич брала на себя.
После трудной дороги из Николо-Берёзовца до Москвы в здоровье Нины произошло значительное ухудшение. Сказалось и нервное напряжение последних дней перед отъездом. Ведь прежде чем уехать, ей надо было долечить всех оперированных ею больных, согласовать вопрос с земством и уговорить Ксюшу, чтобы она осталась на это время за хозяйку дома. Всё это потребовало дополнительных сил, а их, видно, оставалось уже мало. Написала она письмо и мужу, умоляя его просить свою мать приехать в Берёзовец, чтобы присмотреть за детьми.
Когда Мария Александровна впервые увидела в больнице дочь, она была поражена её видом. Вместо цветущей молодой женщины, какой она её помнила по последнему приезду, она увидела худую, измождённую, бледную, на много лет постаревшую, тяжелобольную. Конечно сразу же забыла о своих болезнях и отдала все свои силы на то, чтобы облегчить положение дочери.
Временно Мария Александровна остановилась в гостинице, но фактически бывала там только ночью. Целые дни она проводила в клинике у постели больной. К её счастью, в это время на зимние каникулы в Москву приехала одна из её учительниц – Анна Константиновна Мельниченко. Эта добрая женщина поселилась вместе с М. А. Пигутой и, в свою очередь, заботы о ней взяла на себя. Она ходила по магазинам, покупала продукты для Нины, думала и о том, как накормить Марию Александровну.
После предварительного осмотра больной и знакомства с полученными анализами Петров, бывший сам одним из учеников Фёдорова и узнавший, что больная – врач и тоже ученица Фёдорова, принял в ней самое горячее участие и заверил Марию Александровну, что в клинике будет сделано всё возможное.
Не скрыл он от матери и то, что, по его мнению, опухоль у Нины Болеславовны злокачественная, и поэтому должна быть удалена как можно скорее. В то же время он сказал, что в настоящий момент оперировать больную нельзя – она очень ослаблена.
А Нина, находясь в клинике под наблюдением одного из ассистентов профессора Петрова, доктора Рейн, при неустанном уходе – днём со стороны матери, а ночью со стороны специально нанятой сиделки, понемногу становилась крепче и бодрее. Однако боли в желудке не прекращались, и чтобы успокоить их, ей, как тогда практиковалось, стали назначать большие дозы наркотиков.
Через несколько дней после Нового года к Марии Александровне зашёл кто-то из братьев Околовых и передал ей письмо из Николо-Берёзовца для Нины.
Уезжая в Москву, Нина Болеславовна просила своих сослуживцев: и доктора Тихомирова, и акушерку тётю Симу помочь Ксюше в ведении хозяйства и присмотреть за домом, пока не приедет к детям бабушка Анна Петровна Мирнова, мать её мужа. Кроме того, она просила писать ей на адрес Околовых о том, как без неё будут жить дети, и сообщать, если им что-нибудь будет нужно.
Прежде чем передавать письмо дочери, Мария Александровна решила прочесть его сама, а когда прочла, то пришла в ужас. В письме сообщалось, что Боря заболел скарлатиной и уже положен в заразное отделение больницы.
На другой день на вопрос Нины, нет ли каких вестей из дому, Мария Александровна, успокаивая дочь, ответила, что сейчас дороги трудные и так быстро почты ждать нельзя. Сама же она разволновалась. Первым её побуждением было немедленно ехать в Берёзовец и выхаживать Борю. Потом она пришла к другому выводу: ведь Нине предстоит операция, а Боря помещён в больницу и, вероятно, скарлатину перенесёт легко. Скарлатиной тогда болели почти все дети, и эта болезнь считалась чуть ли не обязательной для каждого ребёнка. Так что всё складывалось за то, чтобы остаться около дочери. Она решила ехать в Берёзовец после того, как Нина будет прооперирована и начнёт поправляться.
Удержало её от немедленной поездки и состояние собственного здоровья: у неё опять усилились боли в желудке, появилась утренняя тошнота, а главное, что её испугало больше всего, появился какой-то невероятно сильный, прямо волчий аппетит.
* * *
Поселившись в Николо-Берёзовце, Боря стал очень частым гостем маминой больницы. Он беспрепятственно посещал почти все палаты, развлекал и смешил своими расспросами и разговорами и персонал, и больных, а последним оказывал иногда и мелкие услуги.
Ему очень нравилось разыгрывать из себя медика, и он с самым серьёзным видом выслушивал жалобы какой-нибудь деревенской бабки, знавшей, что это сынок «главной докторши», и надеявшейся, что жалобы, переданные через него, скорее дойдут до доктора, и её будут лучше лечить.
Боря и в самом деле иногда пересказывал эти жалобы матери, а она, смеясь, называла его испорченным телефоном, так как часто, не понимая сущности высказываемых ему жалоб, он при передаче перевирал или перетолковывал их по-своему.
Но он и на самом деле довольно часто помогал некоторым больным: подавал им воду, заменял грелку, читал письма (большинство больных были неграмотными).
Нина Болеславовна, вначале противившаяся посещениям сыном больницы, смирилась и только запретила ему бывать в заразном отделении. Как только она уехала, уследить за Борькой стало невозможно. И он чуть ли не на второй день после отъезда матери отправился именно в заразное отделение, где в течение нескольких дней играл с выздоравливающими скарлатинозными детьми.
23 декабря с утра у него заболело горло, ночью поднялась температура, он начал бредить: громко кричать и визжать. Все попытки успокоить заболевшего мальчика ни к чему не привели, голова его была горяча, он метался по подушке и никого не узнавал.
Ксюша приносила больному некоторые особенно любимые им кушанья, рассказывала про Славу и Нину, которые, к счастью, не заболели. О матери же на его вопросы никто ничего сказать не мог: писем от неё не было, объясняли это плохой дорогой. Все считали, что она лежит в больнице и лечится.
Вдруг у него внезапно подскочила температура до сорока, он вновь потерял сознание. Произошло это вечером. Сбегали за доктором Тихомировым, и тот решил, что это одно из грозных осложнений скарлатины – нефрит, или, как тогда говорили, скарлатинозное воспаление почек. Мальчика положили в отдельную палату для тяжелобольных, где уже лежала одна девочка его возраста, больная острым ревматизмом. Палата эта была довольно велика, Борина койка находилась от другой далеко, кроме того, койку девочки отгородили ширмой. Он не приходил в сознание, так его и перенесли на новое место.
Определив диагноз, Тихомиров был очень встревожен: в больнице не имелось лекарств, которыми можно было бы оказать существенную помощь такому больному, да и вообще, лечение этого заболевания в те годы было малоэффективным. Единственное, что смогли сделать, это укутать Борю как можно теплее, для чего навалили на него целую гору одеял, стремясь вызвать как можно большее потоотделение и тем облегчить деятельность почек. Во всяком случае, как впоследствии говорил Сергей Андреевич, мальчика спасли те шесть одеял, которые всё время лежали на нём.
Около обоих тяжелобольных детей дежурила особая сиделка. Она беспрестанно укутывала мальчика, всё время стремившегося сбросить с себя тяжёлые одеяла, и два-три раза в день растирала распухшие суставы девочки какой-то сильно пахучей мазью.
Первым впечатлением у Бори, очнувшегося через семь дней, был запах этой мази для растирания. Запах заполнял всю комнату, он, не очень резкий и не слишком неприятный, а какой-то приторно-въедливый, запомнился ему навсегда. После этого он ещё несколько раз впадал в забытьё, температура вечерами подскакивала, но уже было видно, что больной пошёл на поправку.
Однажды, проснувшись, Боря увидел, что ширмы от кровати девочки отодвинуты, а две сиделки берут её за голову и ноги и укладывают на носилки. Затем они укрыли девочку с головой простынёй и вынесли из палаты. В этот момент запах мази особенно сильно распространился по комнате.
Заметив, что мальчик проснулся, к нему подошла тётя Дуся, сиделка, находившаяся в их палате постоянно. Он поднял глаза и спросил:
– Её куда?
– В мертвецкую. Преставилась, сердечная, отмучилась… – ответила бесхитростно сиделка.
Боря помолчал немного, затем задумчиво проговорил:
– А меня тоже понесут так?
– Что ты, что ты! Спи спокойно, у тебя другое. Вон Сергей Андреевич говорит, что ты на поправку пошёл, жар-то, видишь, спал, скоро бегать будешь! «Понесут» – выдумаешь тоже, прости Господи! Спи с Богом.
Тётя Дуся перекрестила мальчика, поправила ему подушку и отошла в угол, где стояло большое кресло, в котором она всё это время проводила ночи. А он ещё долго не мог уснуть и всем своим существом переживал эту первую увиденную им смерть.
С этого дня Боря действительно стал поправляться. Установилась нормальная температура. Вскоре ему разрешили сидеть на кровати, а через неделю и ходить по палате.
Он очень ослаб, похудел, побледнел, и прежнего жизнерадостного весёлого крепыша словно и в помине не было. Он еле передвигался, бегать не мог совершенно и даже при ходьбе задыхался от утомления. Кроме того, после перенесённой скарлатины, осложнённой воспалением почек, наступило и другое воспаление – среднего уха.
Выписали Борю из больницы 10 февраля 1916 г.
* * *
Об осложнениях, наступивших у ребёнка после скарлатины, Сергей Андреевич сообщил в Москву, но его письма Нина Болеславовна, конечно, не видела. На Марию Александровну это известие произвело такое тяжёлое впечатление, что она перестала посещать дочь, чем обеспокоила последнюю.
Между тем больная немного окрепла, и профессор Петров назначил день операции.
Чувствуя себя не в состоянии продолжать необходимый уход за дочерью, Мария Александровна вновь решается вызвать сына. По телеграмме матери он приехал в Москву, хотя его жена уже лежала в больнице, ожидая родов.







