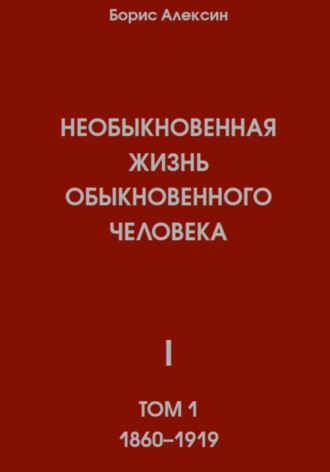
Борис Яковлевич Алексин
Необыкновенная жизнь обыкновенного человека. Книга 1. Том 1
Оба малыша на руках у Анны Петровны теперь оказались круглыми сиротами, да к тому же ещё и незаконными, ведь они продолжали носить фамилию Алёшкины. В отчаянии бедная женщина решила обратиться к родственникам этих ребят со стороны матери, и прежде всего к их дяде, Дмитрию Болеславовичу Пигуте. Узнав от костромских знакомых его адрес, она послала ему письмо.
Получив этот вопль о помощи, тот не замедлил на него откликнуться и немедленно выслал кое-какую сумму. С этого времени на Дмитрия Болеславовича легла и ещё одна материальная забота: постоянная поддержка детей сестры. Кроме того, он сообщил о тяжёлом положении младших детей Нины и матери, которая, в свою очередь, стала почти регулярно помогать Анне Петровне, посылая, главным образом, детские вещи, из которых выросли Борис или Женя.
Глава двадцатая
Вначале февраля 1918 года в Темников пришёл большой вооруженный отряд, там были солдаты, рабочие и крестьяне. Говорили, что отряд этот с крупной железнодорожной станции Рузаевка и из села Теньгушево, но толком никто ничего не знал. Земскую управу закрыли, вместо неё организовали совдеп. Что это такое, большинство темниковских жителей не представляло, но было известно, что это новые органы городской и уездной власти, которые теперь после новой революции, происшедшей в столицах ещё в октябре прошлого года, будут во всех городах и сёлах. Говорили также, что управлять в этих совдепах будут большевики и представители от рабочих, солдат и крестьян.
Подобные толки и пересуды вызвали немало недоумений среди знакомых Марии Александровны Пигуты, многие из них слышал Боря, и хотя они и нашли уголок в его памяти, вспомнил он о них лишь много лет спустя.
Ходили слухи также и о том, что все школы будут закрыты, а учителя разогнаны; кому и зачем надо было распространять такие слухи, в то время понимали очень немногие.
Произошли и другие изменения, и прежде всего была распущена народная милиция, которая, по правде сказать, в последние месяцы только числилась, а своих охраняющих функций не выполняла. Члены её были разоружены и отправлены по домам. Охрану порядка в городе взял на себя вновь прибывший отряд, разместившийся частью в здании бывшего полицейского участка, частью в казарме. Случаи хулиганства и грабежей резко сократились; по городу ходили вооружённые патрули из людей этого отряда, называвшиеся красногвардейскими патрулями; около некоторых зданий поставили часовых, и в городе стало спокойнее.
В течение двух-трёх дней в Темникове арестовали всех бывших помещиков, осевших в городе или вернувшихся после не длительной отлучки, городского голову, председателя уездной управы и других царских чиновников, занимавших более или менее высокие посты. В числе других была арестована и Мария Александровна Пигута. Пробыла она под арестом в камере бывшего полицейского участка одни сутки, а затем, по ходатайству учителей гимназии, организованному Замошниковой, обратившейся с ним к командиру красногвардейского отряда, была отпущена домой. Да он и сам видел, что эта шестидесятитрёхлетняя старушка арестована напрасно.
Кстати сказать, через несколько дней вообще большинство арестованных интеллигентов, в их числе директор мужской гимназии Чикунский, единственный в городе адвокат Лазаревич и многие другие, также были освобождены.
Вновь организованный совдеп, который вскоре стал называться Уездным исполкомом советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, начал свою деятельность. В конце февраля 1918 года в число его служащих и была принята машинисткой Елена Болеславовна Неаскина.
После установления советской власти в Темникове произошли значительные изменения в гимназиях: были объявлены новые декреты и распоряжения, касающиеся учебных заведений. Один из них всеми учениками был встречен с особой радостью и восторгом – это декрет о правописании. Отменялось употребление целого ряда букв и прежде всего буквы ѣ (ять), и теперь все слова можно было, и даже было нужно, писать через е, значит, отпала необходимость проклятой зубрёжки ненавистных правил, где следовало ставить ять. Отменялась буква ъ (ер), а следовательно, слова «стол», «пол», «кол», «дом» не нужно было заканчивать твёрдым знаком. Отменялись также буквы ѳ (фита), ѵ (ижица), і (и десятеричное).
Борису Алёшкину это распоряжение доставило огромную радость. Он, помнится, даже сказал по этому поводу бабусе:
– Вот советская власть – так власть! Сразу все проклятые яти отменила, не то что Временное правительство!
Услышав это заявление своего внука, бабуся сначала опешила, потом хотела рассердиться, а кончила тем, что рассмеялась:
– Видно, ученики всегда останутся учениками, им тот хорош, кто поменьше учить заставляет…
Второй декрет, воспринятый учениками не менее радостно, хотя и не был так понятен, как первый, касался нового летоисчисления. По этому декрету с 1 февраля 1918 года в России вводился «новый стиль», то есть все даты сразу передвигались на 13 дней вперёд, и вместо первого февраля нужно было сразу писать тринадцатое.
Гимназисты старших классов знали о таком летоисчислении, знали, что этот так называемый григорианский календарь уже давно введён во всех европейских странах, и что только отсталая Россия по настоянию духовенства до сих пор продолжала жить по юлианскому календарю, отстававшему от действительного положения времени на тринадцать суток.
Такие юнцы, как Боря Алёшкин, Юзик Ромашкович, Володя Армаш, конечно, всех этих тонкостей не знали (в Темникове новый стиль стал применяться не с начала февраля, а с конца), но новому декрету обрадовались потому, что он приближал время весенних каникул на целых две недели.
Почти одновременно вышел и третий декрет, встреченный большинством гимназистов с радостью – это Декрет об отделении церкви от государства. Сам декрет был не очень понятен, но следствием его явилось прекращение ежедневных богослужений в гимназии, чтение молитвы перед началом урока, отмена изучения Закона Божьего.
На последнем уроке Закона Божьего законоучитель объявил, что теперь этот предмет можно изучать добровольно, что он будет преподаваться бесплатно в церквях по месту жительства учащихся, и что желающие могут у него записаться.
И странное дело – и Боре Алёшкину, и другим гимназистам теперь, когда Закон Божий из программы исключили, вдруг внезапно захотелось его изучать, и они не только почти все записались для добровольного посещения занятий, но первое время довольно исправно ходили на них. Бабуся была даже удивлена столь неожиданно появившейся религиозностью у внука, но решила ему не мешать.
После довольно длительного перерыва у Марии Александровны возобновилась переписка с сыном: вот её письмо, из которого видно, как сумбурно протекала жизнь в Темникове.
«3 марта 1918 г.
Мой милый бедный мальчик! Обнимаю тебя от всего сердца и благодарю за письмецо. Для меня ведь, в сущности, только и надо – иногда получить от тебя несколько ласковых слов. Что касается детей Нины, то я всё время не теряю их из виду. Началось с того, что Анна Петровна прислала письмо Боре, и он ей ответил, потом я постоянно отсылаю ей всё бельё и костюмы, из которых мои Боря и Женя вырастают, к этому прибавляю какие-нибудь подарки детям или немного денег им на гостинцы, поэтому и с Анной Петровной мы в переписке, она благодарит меня и сообщает о жизни детей.
На Рождество я им послала кое-что, и А. П. мне писала и между прочим сообщала, что от тебя давно ничего не было, а было письмо от твоей жены. В этом письме содержались такие угрозы, которые меня возмутили и заставили опасаться, что дети останутся без всякой поддержки. После того Анна Петровна писала мне, что ты был сам у неё и привёз денег.
Я вовсе не желаю, чтобы ты вечно содержал детей Нины, и вполне согласна с тем, что это прямая обязанность их отца. Но всё дело в том, что отец – солдат, и если теперь вернулся, то, возможно, что не так скоро ещё получит приличное место. Ты пишешь, что он уже устроился на прежнее место и получает 200 р., это очень приятно слышать, но из письма А. П. я поняла, что он ещё не устроен, так как Солигаличское земство без денег, и это похоже на правду. Наше уездное земство также осталось без средств и вынуждено прекратить работу. За весь 1917 год на нашу гимназию губернское не выслало ни копейки, и гимназия уже висела на волоске, не поддержи её родители: настояли на значительном повышении платы за учение и собрали по подписке более 4000 рублей. Теперь мы дотянем до осени, тогда посмотрим.
Вот я и думаю, что необходимо поддержать детей Нины, пока их отец не устроится на месте. Конечно, я сама стала бы им помогать более существенно, но моя семья поглощает дотла всё моё содержание, хотя я с весны 1917 г. обхожусь с одной прислугой и, вообще, живём очень скромно.
<…> Боря очень способный мальчик, но большой неряха и разгильдяй, поэтому учится не настолько хорошо, как бы мог. <…> Женю очень портит Лёля, и вообще, с Лёлей тяжело жить при её нервности, но уж с этим ничего не поделаешь. <…> У нас в городе до сих пор было спокойно, хотя в течение всей зимы идут толки об ожидаемых погромах. На днях сюда явились из Теньгушева большевики с оружием и пулемётами, по улицам вчера и сегодня были процессии вооружённых крестьян, звонят во все колокола, на улицах была какая-то беспорядочная стрельба. Слухов самых разнообразных и нелепых масса. Но что из этого будет, пока неизвестно. Учение мы решили продолжать до роспуска на Пасху, если будет малейшая возможность. До сих пор обе гимназии работали вполне нормально и производительно; на Рождество был спектакль, в четверг на Масленой – концерт учащихся. <…> Обнимаю тебя очень крепко. Мама.
Р.S. К Пасхе пришли мне карточку своего мальчика, говорят, он прелестен».
На этом письме, которое, очевидно, попало в руки Анны Николаевны Пигуты и, конечно, вызвало с её стороны очередную бурю негодования, имеется интересная пометка, сделанная, по-видимому, ею на полях письма: «…её семья поглощает всё, а семья сына роскошествует так, что он может из своего «огромного» заработка содержать всех ребят. Или же она считает так, что семья сына может и без копейки обойтись?»
Из письма Марии Александровны видно, что она не прекращала думать и заботиться о младших детях Нины, и только трудное материальное положение, в котором она очутилась сама, не позволяло ей оказывать им помощь в той мере, как это было необходимо.
Заметна в этом письме и робкая жалоба матери на дочь, то есть Елену Болеславовну, которая сделала жизнь в доме Пигуты почти невыносимой, и прежде всего для хозяйки дома – для своей матери. Трудно понять и представить себе ту чёрствость, ту озлобленность, которая постоянно сквозила во всех действиях этой молодой женщины. Она не смогла найти друзей ни в одном человеке, окружавшем её мать, всем завидовала, всех презирала и ненавидела, и вся её злоба выливалась на бедную мать, которая молчаливо и терпеливо сносила всё и лишь иногда, забравшись в своё любимое кресло, стоявшее в гостиной, тихо плакала. Боря, видевший эти слёзы, всё сильнее и сильнее ненавидел тётку, так как понимал, что причина слёз бабуси – какие-нибудь новые нападки на неё со стороны противной тёти Лёли. И кажется, имей он хоть какую-нибудь силу, то немедленно выгнал бы эту тётку от бабуси и вообще из Темникова. Но он такой силы не имел и вымещал свою досаду на Жене, что обычно вызывало новый скандал, и, таким образом, вместо помощи своей горячо любимой бабусе он доставлял ей лишь новые неприятности. Но ведь ему было всего десять лет…
Между тем занятия в гимназиях продолжались до пасхальных каникул, после которых гимназии, епархиальное училище, Саровское училище, а также и городское были закрыты. Было объявлено, что до сентября 1918 года занятий в этих учебных заведениях не будет, а с осени все будут учиться бесплатно в новых советских трудовых школах. Что это будут за школы и как в них учиться, пока ещё никто из педагогов Темникова толком не знал.
В середине мая красногвардейский отряд куда-то ушёл. Его провожали остававшиеся в городе солдаты, которые теперь назывались красноармейцами, милиционеры, набранные в милицию из местных рабочих и, конечно, туча городских ребятишек, среди которых были и Боря с Юзиком. Провожал отряд и остававшийся в городе духовой оркестр, правда, из него многие музыканты тоже уехали, и он стал совсем маленьким – всего девять человек, как насчитал Боря, но всё-таки трубы дудели, барабан гулко ухал, и было приятно шлёпать босыми ногами по дорожной пыли в такт его ударам.
В лесах около города появились бандиты и какие-то «зелёные». Милиционеры и остававшиеся в городе красноармейцы иногда выезжали их ловить, но пока ещё никого не поймали, по крайней мере, мальчишки не видели, чтобы они хоть когда-нибудь кого-либо с собой привезли.
Незадолго перед отъездом красноармейского отряда в городе проводилась Первомайская демонстрация. В прошлом году такая демонстрация уже проводилась, но тогда было всё как-то чинно и напоминало процессии, устраиваемые ранее в так называемые царские дни.
Этот же первомайский праздник был каким-то особенным. Народу собралось очень много, огромная толпа заполнила всю Новую площадь, послушали ораторов, затем тут же построились в общую колонну и отправились под музыку оркестра и пение революционных песен к зданию уездного исполкома. Впереди несли красные флаги и красные куски материи, на которых были написаны революционные слова:
«Да здравствует 1 Мая!», «Да здравствует Советская власть!» и другие. Ребята узнали, что эти фразы назывались «лозунги». За флагами два человека несли большой портрет Ленина, затем шёл оркестр, за ним – отряд красноармейцев, милиционеры и дальше все вперемешку. Между взрослыми шли кучками и школьники – без всякого порядка, без пар, без различия по училищам и, самое главное, без всякого учительского надзора. Это было необычно и, наверно, поэтому особенно весело и интересно.
Портрет Владимира Ильича Ленина, двигавшийся в голове колонны, привлекал внимание не только идущих тут, но и всех встречных – это был первый портрет Ленина в Темникове, первый его портрет, который видел Боря Алёшкин и его приятели. А появился он в Темникове так.
За несколько дней до Первого мая к Маргарите Макаровне Армаш явился секретарь уездного совета. Он сказал:
– Надо, чтобы на празднике Первого мая в нашем городе все увидели лицо вождя мирового пролетариата Владимира Ильича Ленина, и уездный исполком совета просит Вас, товарищ Армаш, единственную в городе художницу, выполнить наш заказ на изготовление такого портрета по возможности побыстрее.
Маргарита Макаровна сначала испугалась: во-первых, никто ещё не называл её «товарищ Армаш», а во-вторых, Ленина она никогда не видела и поэтому сказала, что, вероятно, не сумеет его нарисовать.
Секретарь достал из кармана небольшую фотографию и объяснил, что работа художницы будет заключаться в увеличении этой фотографии до размеров площадью два на три аршина. Конечно, портрет надо написать масляными красками. На фотографии была изображена голова человека с большим лбом, переходящим в лысину, чуть прищуренными глазами, доброй улыбкой под небольшими усами и с аккуратно подстриженной бородкой.
– Вот, – повторил секретарь, – с этого и рисуйте, материю и краски я вам сейчас пришлю.
Маргарита Макаровна покрутила открытку, хотела спросить, а какого цвета глаза, усы, бородка? Но, предположив, что секретарь мог также никогда не видеть Ленина, ответила:
– Хорошо, я попробую, а вдруг не получится?
– Получится, получится! – успокоил её секретарь, – было бы желание да умение рисовать. О том, что рисовать вы умеете хорошо, мне дочка рассказала, у вас училась, ну а желание, мне кажется, у вас тоже появилось.
И на самом деле: никогда не думавшая об этом Маргарита Макаровна Армаш вдруг впервые в городе нарисует портрет человека, о котором сейчас говорит вся Россия! Очень заманчиво и интересно. Да, но где же она будет рисовать? Ведь её квартира слишком мала для этого. Такой величины холст в комнатах просто не поместится. И она, выбежав на улицу, остановила уходящего секретаря:
– Простите, товарищ! – немного запинаясь, произнесла она непривычное ещё слово, – пожалуйста, пришлите весь материал в женскую гимназию, я договорюсь с начальницей и буду портрет писать там, у меня дома мало места.
– Ну что же, хорошо, часа через два материал будет доставлен, а портрет, я надеюсь, Вы сумеете написать дня через три?
– Постараюсь.
При этом разговоре с вытаращенными глазами и открытыми ртами присутствовали два свидетеля: сын Маргариты Макаровны – Володя и его приятель Боря Алёшкин.
Через полчаса Армаш без всякого труда получила у Марии Александровны разрешение использовать один из классов гимназии, а ещё через несколько часов, натянув на подрамник, сделанный сыном швейцара гимназии, доставленную материю, Маргарита Макаровна, выставив привязавшихся Володю и Борю, принялась за работу.
Прошло два дня, и первый в жизни Маргариты Макаровны Армаш, и первый в городе Темникове портрет Владимира Ильича Ленина был готов. Портрет понравился не только Володе, Боре, Марии Александровне и другим знакомым, но, и это было главным, заказчикам – уездному исполкому советов. Именно этот портрет и двигался во главе первомайской демонстрации 1918 года в Темникове.
Как потом выяснилось, в произведении художницы имелся существенный недостаток, но тогда его не только никто не заметил, но даже и не подозревал о нём. Дело в том, что на портрете, исполненном масляными красками, художница сделала глаза, усы, бороду и волосы почти черными. Однако выражение прищуренных глаз, добрую улыбку вождя ей удалось сделать очень хорошо, и все хвалили её работу, а Володька так задрал нос, как будто он сам нарисовал Ленина. Боря, конечно, этого вытерпеть не мог, и по этому поводу друзья устроили изрядную потасовку.
Лето было в полном разгаре, стояла сильная жара. Как-то внезапно на противоположном берегу Мокши, верстах в пяти от Темникова, вспыхнул огромный пожар. Загорелся казённый спиртовой завод, находившийся недалеко от большого мордовского села Атюрево. Он не работал с начала революции. Дознавшись о том, что на заводе хранятся большие запасы спирта, кое-кто из предприимчивых жителей близлежащих сёл, и прежде всего атюревцы, решили ими воспользоваться, а когда охрана завода явившихся «предпринимателей» прогнала силой оружия, кто-то из нападавших совершил поджог склада завода.
Так, по крайней мере, объясняли причину темниковские жители. Так ли было на самом деле или нет, сказать трудно, однако пожар был грандиозным.
Опасаясь взрывов с распространением огня, начальник охраны приказал открыть краны цистерн и выпустить из них спирт, который и потёк мощными потоками по направлению к Мокше, используя для своего пути все ложбины и канавки. Набежавшие на пожар жители ближайших деревень и Темникова черпали его из этих канав чем только придётся – вёдрами, ковшами и даже просто пригоршнями, напивались и тут же сваливались.
Как потом выяснилось, на этом пожаре погиб не один десяток людей –или сгоревших, или отравившихся чрезмерным количеством спирта. А после по Темникову ещё долго бродили кучки пьяных, затевавших между собою ссоры и драки.
Порядок восстановился, когда в город вновь вернулся красноармейский отряд, именовавшийся теперь батальоном Красной армии. Командовал им уже новый командир. Старого, так же, как и нескольких бойцов, батальон потерял в одной из схваток с «зелёными». Бойцов похоронили на кладбище деревни, около которой происходил бой, а тело командира, привезённое в красном гробу, решили похоронить с особым почётом в городе.
В этих похоронах, кроме красноармейцев, участвовало много народа. Были там и наши ребята. На высоком берегу Мокши, почти напротив Бучумовской улицы, вырыли глубокую могилу, в неё и опустили гроб. Пока шли от Новой площади до могилы, гроб несли на руках, и всё время играл оркестр. Играл он один известный ему похоронный марш «Вы жертвою пали…». За оркестром, шагавшим сразу за людьми, несшими гроб, шли бойцы батальона, а за ними довольно нестройной толпой – большое количество местных жителей, служащих исполкома, милиции и других учреждений. Ребята окружали весь этот кортеж, то забегая вперёд, то идя рядом с оркестром или красноармейцами. Конечно, вместе со всеми носились Боря и Юзик.
Когда похоронная процессия подошла к берегу Мокши, гроб поставили на табуретки, все образовали большой круг. На середину вышел новый командир, председатель исполкома и ещё какие-то люди в кожаных тужурках и шинелях. Начался траурный митинг.
Новый командир и другие люди говорили о храбрости убитого товарища и давали обещание так же честно служить народу и советской власти, как и он. Затем гроб опустили в могилу, оркестр заиграл недавно выученный им «Интернационал», а группа красноармейцев, стоявшая в стороне, стала стрелять залпами в воздух, чем вызвала восторг всех присутствовавших на похоронах ребятишек.
Так Боря Алёшкин и его друзья впервые участвовали на новых советских похоронах, такими они и сохранились в его памяти. Все ребята сошлись на том, что эти похороны гораздо интереснее и красивее, чем церковные, которые им приходилось видеть не один раз, и даже то, что на могиле командира поставили вместо обычного креста красную пирамидку с жестяной пятиконечной звездой на вершинке, казалось очень красивым. Это были первые нецерковные похороны в Темникове, и потому они вызвали много толков не только среди ребят, но и среди взрослых.
* * *
В августе месяце в здании женской гимназии проходила переподготовка учителей. Организованный при уездном исполкоме отдел народного образования, или, как его сокращённо называли, Наробраз, руководимый бывшим сельским учителем, по национальности мордвином, Павлом Ивановичем Аникиным, решил перед началом учебного года познакомить учителей с предполагающейся реорганизацией школ и новым порядком преподавания. Однако вся эта переподготовка вылилась лишь в пустые споры и разговоры, так как пока никаких конкретных указаний об изменениях в школьном деле не было.
Учебный год в сентябре месяце все начали по-старому: гимназисты и гимназистки явились в свои классы, остальные ученики – по своим школам. Не начали занятий Саровское училище и епархиальная школа в связи с категорическим запрещением. Здания их стояли пустыми и заброшенными.
Но нормальное учение длилось недолго, уже в октябре 1918 года Наробраз, видимо, получил какие-то указания по реорганизации обучения и немедленно приступил к их осуществлению. Занятия во всех школах приостановили, ученики получили дополнительные каникулы. В результате этой реорганизации, практическое осуществление которой удалось провести в течение десяти дней, получилось следующее.
Вместо существовавших двух гимназий, городского училища и нескольких церковно-приходских школ открыли пять школ первой ступени – пятилетки, в которых подлежали обучению ученики, ранее обучавшиеся в церковно-приходских школах, в первых трёх классах городского училища и первых трёх классах гимназии; и три школы второй ступени – для бывших гимназистов и гимназисток, учившихся с четвёртого по седьмой класс. Ученики последнего класса городского училища попадали в первый класс второй ступени и, следовательно, могли, если хотели, продолжать своё образование дальше. Занятия в восьмом классе гимназии на этот год ещё продолжались, но со следующего учебного года в связи с сокращением программы этот класс упразднялся, и вторая ступень заканчивалась бывшим седьмым классом гимназии.
Объём учебной программы действительно сокращался, ведь из неё исключались такие предметы, как древние языки (латынь и греческий), Закон Божий, второй иностранный язык (оставался только один: или немецкий, или французский). Преподавание иностранных языков начиналось только со второй ступени.
Обучение в первой ступени становилось совместным, то есть мальчики и девочки учились вместе. Во второй ступени оно пока оставалось раздельным: одна школа на базе бывшей женской гимназии предназначалась для девочек, а две другие на базе зданий старой и новой мужской гимназии – для мальчиков.
Все ученики соответственно своему возрасту и прежнему классу перераспределялись по новым школам и классам. В каждую школу назначались новые педагоги и заведующие.
Такое подробное изложение школьной реформы 1918 года удалось почерпнуть из письма Марии Александровны к сыну. Она, бывшая начальница женской гимназии, не имела специального педагогического образования и потому при новом распределении учителей должности не получила, а была зачислена в резерв Наробраза. И только вмешательство Анны Захаровны Замошниковой, назначенной заведующей первой школой второй ступени, и бывшего директора гимназии Чикунского, имевшего университетское образование и потому назначенного заведующим второй школой второй ступени, помогло Пигуте относительно быстро получить новое назначение. Но всё же допустить её к заведыванию школой второй ступени не решились, а направили возглавить одну из школ первой ступени.
В письме от 9 ноября 1918 года Мария Александровна извещает сына об этих событиях. Она пишет:
«Милый Митя! Спасибо тебе большое за память и присылку денег. Деньги нам пока не особенно нужны, и ты, пожалуйста, больше не высылай. Хотя гимназия уничтожена, и я больше не начальница, но считаюсь народной учительницей и получаю жалование и пятилетние прибавки. Лёля тоже на месте. Думаю, что мы живём не хуже других и не голодаем. Боюсь, что у вас всё много дороже и тебе трудно приходится. Муку мы частным образом достаем по 125–130 руб. за пуд, только один раз купила я за 140. Пшено так же. Масло 15 руб. за фунт. Для меня очень важно и дорого почувствовать, что ты о нас думаешь и помнишь. Деньги твои мы с Лёлей поделили пополам, к 150 руб. я прибавлю ещё 50 руб. и пошлю их в Кострому Мирновой.
Представь себе, мне сообщили, что Николай Геннадиевич умер, и таким образом, Слава и Ниночка остались совсем сиротами. Ниночка – в Костроме у бабушки, а Славу ещё весной Николай Геннадиевич увёз к себе в Солигалич, как только женился. Где сейчас Слава? Анна Петровна пишет коротенькую открыточку, очевидно, и сама ещё не знает, отчего и как умер её сын, видно, очень поражена, тем более что и второго её сына (Юрия) берут в армию. Всё это очень грустно!
Желала бы знать что-нибудь о твоём мальчике. Хоть бы ты прислал его фотографию. У меня на глазах растёт его ровесница – дочь Стасевича. Славная девчушка, болтушка и очень забавная девочка. Боря состоял во втором классе гимназии, но теперь учение на время прекращено: гимназии упразднены, а учащиеся младших классов расклассированы по различным школам первой ступени. Я на положении запасной учительницы и пока ещё не имею определённой работы, Женя учится дома с учительницей, то есть училась. А теперь её учительница получила место. Буду заниматься с нею я.
Крепко тебя обнимаю. Пожалуйста, давай иногда о себе вести. Мама.
Р. S. Здоровье мое хорошее».
Рассказывая в этом письме о положении в школах, Мария Александровна ни одним словом не упоминает, насколько болезненно она восприняла своё отстранение от должности, и не столько потому, что это отразилось на её материальном положении, но главным образом потому, что она оказалась невольно оторванной от любимого дела, которому, в сущности, посвятила всю свою жизнь.
А приписка о состоянии её здоровья была и совсем неправдивой. Но Мария Александровна не хотела огорчать любимого сына, а жившая рядом с ней дочь не только не сочувствовала её горю и болезни, но даже и не замечала их. Она была слишком занята своими личными переживаниями. И приходилось бедной старушке делиться своими невзгодами с ближайшими друзьями: Стасевичами, Армашами, Травиной да малолетним внуком.
И если друзья принимали все меры к тому, чтобы помочь ей, и, как мы уже знаем, преуспели в этом, то внук просто искренне жалел свою бабушку, часто замечая слезы на её глазах, по своей детской беспечности и неразумению помочь ей пока ничем не мог. Единственное, что он всегда делал, это с яростью бросался на её защиту при ссорах с дочерью, причём это его заступничество очень часто приносило его любимой бабусе не пользу, а лишь новые огорчения, и его желание сделать добро невольно обращалось во зло. А ссоры между Еленой Болеславовной и матерью происходили всё чаще, бывали всё острее и значительно подрывали силы Марии Александровны.
На состоянии её здоровья отразилось и ухудшение питания. Всё лучшее, что появлялось в доме из продуктов, Елена без стеснения забирала для себя и Жени, из оставшегося бабуся лучшие и большие кусочки отдавала внуку, а сама сидела в основном на картошке с постным маслом и чёрном хлебе.
Мария Александровна сильно похудела, временами появлялась тошнота, боли в животе, она заметно ослабела. По-видимому, обострилась её старая болезнь желудка. Давали себя знать и годы, ведь их уже прожито шестьдесят три. Однако Пигута тщательно скрывала своё недомогание и от домашних, и от всех знакомых. Она знала, что единственным источником существования её семьи является её заработок, и очень опасалась, что из-за болезни её могут не взять на работу. Пожалуй, единственным человеком, который видел, как она тщательно утягивает свои платья, чтобы не было заметно её похудания, был её любимый внук Боря. Ведь они теперь жили в одной комнате – бывшей столовой, Елена с дочкой жили в большой спальне, Поля – на кухне, все остальные комнаты пустовали, топить их было нечем.
Но Боря хотя и видел, но относил это за счёт ссор с тетей Лёлей, которую ненавидел ещё больше, а большую часть страданий бабуси просто не понимал, он был ещё слишком мал. И лишь гораздо позже, уже будучи взрослым, он осознал, как велики были страдания этой маленькой, но такой героической «большой» женщины.
Из приведённого письма видно, что, несмотря на страдания, Марию Александровну не покидала забота и об остальных детях её безвременно погибшей дочери, которым она при малейшей возможности старалась оказать материальную поддержку.
К декабрю 1918 года реорганизация школ была полностью завершена, и Мария Александровна получила место в одной из школ первой ступени. В письме от 19 декабря она сообщает об этом сыну:
«…Гимназии мужскую и женскую преобразовали в школы второй ступени. Я же, как не получившая высшего образования, получила назначение в школу 1-й ступени, помещающуюся в здании бывшего Саровского училища. <…> Мне пока разрешено оставаться на прежней квартире, и Лёля живет со мною; только дрова уж приходится покупать, и для экономии мы почти не топим гостиную, так что спим с Борей в столовой. <…> Мы с Лёлей зарабатываем вдвоём 1000 руб., так что не голодаем: удаётся доставать по случаю и пшена, и муки, масла, и яиц, молоко берём по 8 руб. за четверть ведра, яйца 7 руб. 50 коп. десяток, масло 20 руб. за фунт. <…> Настроение у Лёли неважное, здоровье тоже, и это делает жизнь с ней довольно-таки тяжёлой. <…> Что касается Бори, то у него отличные способности, но рассеянность и разгильдяйство феноменальные, и поэтому лицо у него или украшено царапинами, или вымазано чем-нибудь, да и в костюме всегда недочёты: или пятна, или дыры. Характером он во многом напоминает Нину, очень упрям и неуступчив; писать ленив, но читать готов целые дни подряд, не поднимая головы. <…> Керосину в городе почти нет, выдают редко, самую малость, и приходится гасить огонь и ложиться спать спозаранку. <…> От Алёшкина из Сибири никаких вестей нет. Твоя мама».







