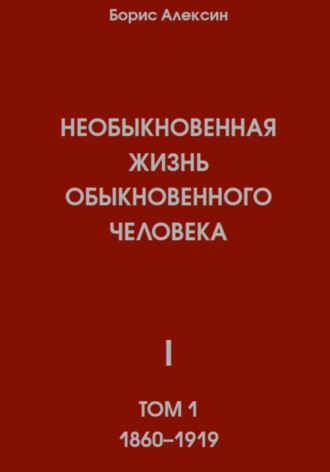
Борис Яковлевич Алексин
Необыкновенная жизнь обыкновенного человека. Книга 1. Том 1
После ликвидации уездной земской управы перестал работать и Дмитрий Болеславович Пигута: в совдепе должности санитарного врача не имелось. Семья существовала только на заработок Анны Николаевны и попала поистине в бедственное положение. Дмитрий поехал в Рябково к отцу, который помог продуктами питания. Тогда же пришлось организовать небольшой огородик за сараем, в котором работал сам Дмитрий Болеславович.
Так длилось до июня 1918 года, когда при Кинешемском совдепе организовался отдел здравоохранения, главой его был назначен врач Круглович, знакомый с Пигутой. Вспомнив энергичного и преданного своему делу человека, Круглович предложил ему возглавить всю санитарную работу в городе и уезде. Дмитрий Болеславович согласился, с этого времени он и стал вновь служить своему любимому делу и вскоре, как он сам говорил, буквально через несколько дней, убедился, что только эта власть смотрит на дело здравоохранения по-серьёзному, по-настоящему.
Почти сразу же после установления советской власти в Кинешме произошли определённые изменения и в госпитале, в котором служила Анна Николаевна Пигута. В течение нескольких дней из госпиталя исчезли почти все офицеры, за исключением только очень тяжёлых больных, исчез кое-кто из врачей, но основная масса служащих осталась на месте и, хотя и с некоторым страхом, встретила прибывшего в госпиталь комиссара, одетого в простую солдатскую шинель; на его предложение продолжать служить в госпитале, который теперь стал называться Первым Кинешемским советским военным госпиталем, ответила согласием. Осталась служить в должности сестры милосердия и Анна Николаевна. Начальником госпиталя назначили бывшего ординатора одного из отделений – Николая Васильевича, молодого врача, между прочим, одного из поклонников Пигуты.
* * *
Установление советской власти в Кинешемском уезде, в том числе и в Рябково, произошло немного позднее, чем в самом городе, но к середине декабря 1917 года Советы организовались и там.
Ещё с конца 1915 года распоряжением уездных властей больница в Рябково была занята под лазарет для военнопленных чехов. У них имелся свой врач и несколько человек охраны из русских солдат. Старый доктор Пигута вёл амбулаторный приём в оставленной ему амбулатории, стационарных больных вынужден был помещать в маленькую адищевскую больничку. Кроме того, он работал и как член уездной комиссии здравоохранения, организованной при Кинешемском земстве.
Четвёртого февраля 1917 года в усадьбе Рябково от небрежного обращения больных военнопленных с огнём произошёл пожар. Никаких противопожарных средств в самой усадьбе не было; пока приехала пожарная команда из Судиславля и собралась пожарная дружина села Рябково, весь старый помещичий дом сгорел дотла, а следовательно, сгорели и лазарет, и те несколько палат, в которых работал Болеслав Павлович Пигута, сгорела и его квартира.
Сам Болеслав Павлович, занятый спасением больных, потерял при этом пожаре почти всё своё имущество: сгорела мебель, большая часть одежды, почти полностью сгорела старинная библиотека Шиповых, помещавшаяся в квартире Пигуты. Пожарным удалось отстоять лишь два флигеля, находившихся вблизи от дома: в одном, как мы помним, когда-то была амбулатория, а в другом ранее помещалась контора химического завода, в своё время купившего дом у наследников Шиповых. Ещё до пожара контора переехала в новый дом, построенный возле завода, и в момент несчастья в этом флигеле жили солдаты и медперсонал лазарета.
После пожара военнопленных перевезли в г. Судиславль, а Болеславу Павловичу разрешили поселиться во втором флигеле с тем, однако, чтобы в этом же флигеле была организована и амбулатория. Там Болеслав Павлович и стал жить. В амбулатории он продолжал вести приём заводских рабочих и населения села и близлежащих деревень в ещё более плохих и трудных условиях, чем раньше. Почти всё медицинское имущество рябковской больницы сгорело, а приобрести что-либо новое в то время было просто невозможно. Кое-что удалось починить, кое-что выпросить у соседей, но, вообще, не хватало даже самого необходимого.
Флигель, в котором когда-то была школа, организованная Марией Александровной Пигутой, пустовал, и старый врач начал хлопотать об организации в нём больницы для населения, так как больничка в Адищеве была удалена от села более чем на три версты, да и по размерам не годилась.
По этому вопросу он обратился в уездный Кинешемский совет, дело происходило уже в начале 1918 года. Но пока длились эти хлопоты, флигель занял вновь организованный волостной совет, и после получения из уезда разрешения на открытие больницы Болеслав Павлович натолкнулся на сопротивление местных властей. Председатель волостного совета, человек в уезде и волости новый, мало того, что отказался освободить незаконно занятый дом, узнав, что главным человеком, добивающимся освобождения его, является врач, бывший барин, чуть ли не помещик и владелец всей усадьбы, решил применить к Болеславу Павловичу административные меры.
Не разобравшись путём в деле, а может быть, и наслушавшись наговоров врагов старого доктора, он распорядился о реквизиции у Пигуты всего уцелевшего после пожара имущества и приказал выселить того из занимаемой в другом флигеле квартиры.
К счастью, и в Рябково, и в Кинешме нашлось немало людей, хорошо знавших Болеслава Павловича и пользовавшихся достаточным авторитетом, они вступились за него. Получил он и поддержку от рабочих химического завода, несколько лет лечившихся у него и ценивших опытного врача.
Вмешательство всех этих людей вызвало в Рябково представителя уездного совета, потребовавшего прекращения всех мер, начатых волостным советом, возвращения всего незаконно реквизированного, а также немедленного освобождения флигеля, принадлежавшего больнице. Всё это происходило, конечно, не так быстро, как мы об этом рассказываем, и Болеславу Павловичу пришлось порядочно поволноваться, пока всё пришло в относительный порядок. А ведь он уже был немолод – 70 лет. Кроме того, почти весь 1917 год он проболел: на пожаре основательно простудился, началось воспаление лёгких. Эта болезнь, вообще серьёзная для пожилых людей, в то время, когда для лечения её не имелось даже самых простейших медикаментов, большею частью оканчивалась смертельно. И хотя в этом случае она и не привела к трагическому исходу, всё же основательно подорвала силы этого когда-то могучего человека.
Когда-то он был главой довольно большой семьи, а в старости остался один: жена его с ним не жила уже около двадцати лет, старшую дочь он оттолкнул, младшая умерла. Даша, так и не оправившаяся после пневмонии, давшей осложнение на сердце, тоже умерла ещё в апреле 1916 года. А сын, единственный член семьи, с которым старик поддерживал ещё связь, хотя и жил не особенно далеко, последнее время был так поглощён и работой, и неурядицами в своей семье, с которыми никак не мог справиться, что виделся с отцом редко. Сам же он после перенесённой болезни выезжать из Рябково в Кинешму или ещё куда-нибудь почти перестал.
Единственное, что поддерживало силы старого доктора, – это его увлечение работой, во время которой он забывал все свои невзгоды и недуги. Несмотря на возраст, он всё ещё отправлялся по первому зову в больницу или на дом к больному в любое время и любую погоду и оказывал ему посильную помощь, хотя в большинстве случаев эти вызовы материально никак не возмещались. При страшной скудости средств и медикаментозных возможностей он продолжал выхаживать и вылечивать тяжелейших больных.
Его самоотверженный труд создал ему такой авторитет, благодаря которому попытка обидеть его вызвала быстрое вмешательство властей и многочисленных пациентов, и была пресечена.
Болеслав Павлович ещё с 1910 года приобрёл известность и как врач-общественник: он был самым деятельным и активным членом Кинешемского уездного санитарного совета и провёл немало предложений по расширению лечебной сети в заволжской части уезда.
В 1918 году доктор Пигута был одним из самых активных и энергичных борцов с эпидемией испанки – тяжелейшего заболевания, прокатившегося по всей Европе и унёсшего множество жизней. Сотни людей, болевших ею в Кинешемском уезде, обязаны были своим спасением именно этому старому врачу…
* * *
Но было и ещё одно обстоятельство, скрасившее эти трудные годы жизни Болеслава Павловича и во многом способствовавшее сохранению бодрости его духа.
В конце 1916 года в рябковскую школу приехала учительствовать молодая вдова, потерявшая мужа на войне, Зинаида Михайловна Полянская, ей было около сорока лет.
В ноябре 1916 года Болеслав Павлович, путешествуя по первой пороше по заячьим следам (тогда он ещё продолжал увлекаться охотой), встретил в лесу молодую женщину, которая ему была незнакома. Та смущённо обратилась за помощью, объяснив, что приехала в эти края недавно, решила прогуляться в лесу, да, видно, не заметив, зашла довольно далеко и теперь не знает, как добраться до дома.
Выяснив, что незнакомка живёт в селе Рябково, Болеслав Павлович заявил, что он сам оттуда и уже возвращается домой с охоты и, конечно, проводит её до села. Дорогой они разговорились и почувствовали расположение друг к другу.
Когда Зинаида Михайловна узнала, что её провожатый – тот самый старый доктор Пигута, о котором ходила слава в селе как о самом лучшем докторе в уезде, то была поражена его бодрым видом. По рассказам она знала, что врачу Пигуте уже много лет, он удивил её общительностью и весёлостью (всю дорогу рассказывал смешные охотничьи приключения). Она разрешила ему (по его просьбе) в ближайшее время навестить её.
Болеслав Павлович однажды воспользовался этим разрешением, а потом его посещения стали чуть ли не ежедневными. Проведя почти двадцать лет в одиночестве, он был рад новому свежему человеку. Эта молодая ясноглазая, светловолосая, стройная женщина покорила его. Все его мысли были заняты только ею.
Со своей стороны, и Зинаида Михайловна, не сойдясь ни с кем из учителей рябковской школы и чувствуя себя поэтому одиноко и даже беспомощно, невольно обрадовалась этому знакомству. Ей доставляло большое удовольствие беседовать с умным, начитанным и ещё так по-молодому энергичным и бодрым человеком.
Вскоре их обоюдная склонность перешла в сердечную дружбу. Молодая женщина тоже стала бывать в старом рябковском доме, с удовольствием пользоваться старинной библиотекой и угощать старого доктора своими домашними лакомствами. В свою очередь Болеслав Павлович преподносил ей собственные охотничьи трофеи, которых добывал немало.
Иногда он задумывался о своём двусмысленном положении, ведь он не был разведён, и думать о новом браке не имел права, да и разница в возрасте была слишком велика. Но прекратить свои отношения с Зиной он уже не мог.
После пожара Зинаида Михайловна помогла Болеславу Павловичу устроиться на новой квартире, а когда он заболел, то и ухаживала за ним как сиделка. Она знала, что у него есть жена и дети, и что по возрасту он ей годен в отцы, но всё-таки храбро взяла на себя все заботы об этом уже дряхлеющем человеке, не думая о будущем.
Известно, что Болеслав Павлович, без особого старания со своей стороны и даже желания, нравился женщинам, немудрено поэтому, что он так быстро сумел пленить и её.
К концу 1918 года они уже жили как муж и жена, и Зинаида Михайловна переехала из села в квартиру Пигуты. У старого доктора Пигуты образовалась новая семья.
Из прежней семьи он продолжал поддерживать связь только с сыном, и во время одного из посещений последним Рябково представил ему свою молодую, пока ещё неофициальную жену.
И тут невольно хочется понять: знала ли обо всём этом законная жена Болеслава Павловича? Нет, она ничего не знала и так и не узнала до конца своей жизни. Единственным связующим звеном между Рябково и Темниковым была Даша. С ней поддерживала переписку Мария Александровна, сообщая темниковские новости, от неё же, в свою очередь, узнавала всё, что происходило в Рябково. После смерти Даши эта единственная ниточка оборвалась.
Изредка кое-что об отце и Рябково сообщал матери Дмитрий Болеславович, но он не сообщил ни о пожаре в Рябково, ни о том, что у отца образовалась новая семья. Очевидно, он не хотел излишне волновать мать, а кроме того, ему было неловко за отца. Ведь в душе он не одобрял его поступка, и хотя к Зинаиде Михайловне относился с достаточным уважением, а впоследствии даже и материально помогал ей, он всегда оставался обиженным за мать.
Глава девятнадцатая
До середины 1917 года Елена Болеславовна Пигута (Неаскина) продолжала служить машинисткой в своей торговой конторе. В июле контора внезапно закрылась, и Елена Болеславовна осталась без работы. Попытки устроиться в какое-либо другое учреждение успехом не увенчались.
Вскоре после Февральской революции многие иностранные фирмы стали свои филиалы и представительства закрывать, а русских служащих увольнять. Поэтому безработных мелких служащих в Петрограде появилось много.
Цены на самые необходимые продукты и предметы потребления росли не по дням, а по часам. В городе происходили перебои с хлебом, с другими продуктами они начались уже давно. Неаскина получала довольно приличное жалование, однако еле-еле могла на него существовать. Теперь, когда и этот источник средств закрылся, её положение стало совсем трудным. Как всегда, при всяких затруднениях, она обратилась за помощью к родным, и прежде всего к брату Мите. Письмо попало в руки Анне Николаевне, а мы знаем, как та относилась к родным мужа и в особенности к сестре Лёле, поэтому не удивимся, что последняя получила такую отповедь, которая надолго отбила у неё охоту просить помощи у брата. Тогда она решила отправиться к матери в Темников. Сделала она это, не предупредив её: свалилась как снег на голову в январе 1918 года.
Между тем Марии Александровне и самой было нелегко, ведь на её полном попечении находилось двое детей: Нинин Боря и Лёлина Женя. Дочь, приехавшая с полупустым чемоданом (большая часть вещей продана за последние месяцы жизни в Петрограде), без копейки денег, явилась неожиданной и тяжёлой обузой, поэтому нечего удивляться, что мать, зная характер своей старшей дочери, буквально в первый же день её появления потребовала немедленного устройства на службу или отъезда из Темникова.
Такое категоричное требование возмутило Елену Болеславовну, и она, посчитав, что причина этой категоричности в том, что матери приходится содержать сына Нины Борю, не желая выслушивать никаких доводов, с первого же дня возненавидела своего племянника и сохранила неприязнь к нему до самого его отъезда из Темникова.
Тем не менее с требованиями матери нужно было считаться, и на следующий день Елена отправилась искать службу. И если в прошлый приезд найти работу она не сумела, то в этот раз её взяли сразу. К этому времени в уездном совдепе появилась пишущая машинка системы «Ундервуд», реквизированная у какого-то чиновника, а квалифицированной машинистки не было: стучал на машинке кто придётся, одним пальцем, и напечатанные таким образом бумаги выходили столь корявыми, что большинство служащих предпочитало писать их по-старому – пером.
Елену Болеславовну, показавшую своё умение, приняли сразу. Установили ей сравнительно большой оклад, так что она была уже в состоянии содержать не только себя, но и дочь. Материальное положение семьи улучшилось.
Мария Александровна отвела дочери и внучке самую лучшую и тёплую комнату в квартире – свою бывшую спальню. Сама же поселилась в одной из маленьких комнат, в которой раньше жила квартирантка-гимназистка; в другой такой же маленькой комнате спал Боря.
Всё было бы неплохо, если бы не чрезвычайное себялюбие Елены Болеславовны, её нежелание считаться с кем-либо или с чем-либо, её болезненная, внезапно появившаяся любовь к дочери, постоянные капризы, упрёки, слёзы и истерики, от которых страдали все в доме. Особенно доставалось Боре, и он, замечая постоянную несправедливость к нему со стороны тётки, а иногда и слыша её грубые, оскорбительные слова, которыми та, не стесняясь его присутствия, при каких-нибудь ссорах с матерью, обзывала его, в свою очередь, никаких родственных чувств к сестре своей матери не испытывал, а временами просто ненавидел её.
Брат Марии Александровны Пигуты – Александр Александрович Шипов после Февральской революции продолжал исполнять обязанности управляющего Государственным казначейством, и хотя положение с финансами республики становилось всё хуже, а выпуск ничем не обеспеченных дензнаков Временного правительства, так называемых керенок, и вовсе доконал беспрерывно падающий рубль, продолжал прилагать все силы и умение, чтобы хоть как-нибудь спасти тонущий финансовый корабль России.
Октябрьская революция застала его на том же посту. Он был в числе немногих крупных чиновников, беспрекословно признавших новый режим и подчинившихся ему. Но в то же время нужно прямо сказать, что сущности советской власти Александр Александрович не понимал: он был слишком далёк от революционной борьбы народа и ко многим революционерам относился со снисхождением, считая их фантазёрами и утопистами. И вот когда эти «фантазёры», причём самые крайние из них, вдруг оказались у власти, старый чиновник растерялся, но, проведя несколько бессонных ночей, решил этой власти помогать.
К такому решению его привели два обстоятельства: во-первых, он видел, что предыдущие правительства были озабочены стремлением сохранить собственные богатства и растащить из средств государства кто сколько сумеет, и, во-вторых, новая советская власть первыми же декретами, поразившими его своей прямотой, даже некоторой наивностью, показала, что она стремится упрочить своё положение именно тем, чтобы эти государственные богатства сохранить и спасти финансовое положение страны. А это было и его целью. Поэтому он с первых же дней отдал себя на службу новой власти с полной преданностью и сумел привлечь к этому большинство своих подчинённых.
Конечно, лишение роскошной барской жизни, к которой он привык, шокировало, обижало, ведь из огромного особняка ему оставили всего две комнаты, а во все остальные вселили каких-то бедняков, реквизировав большую часть его мебели. Пришлось отказаться почти от всей прислуги и от роскошного выезда, которым он ранее следовал в казначейство, значительно снизилось жалование. Но все эти издержки обращения, как он их в шутку называл, возмещались тем, что он продолжал трудиться на любимом поприще и видел, что его знания, его труд в соответствующих местах ценят.
Нельзя сказать, что всё происходило так спокойно и просто, как мы это описываем более полвека спустя. Почти все знакомые, принадлежавшие к высшему чиновному миру, от Александра Александровича отвернулись. Не поняли его даже некоторые родственники, и только одна сестра Мария Александровна Пигута, получив известие о переменах, происшедших в его жизни, и о решении служить новому советскому правительству не за страх, а за совесть, одобрила его.
А между тем рубль продолжал падать. Многие чиновники из Государственного банка, из других финансовых органов республики и из самого министерства продолжали саботировать решения нового правительства, умышленно путать и не исполнять идущих от Совета народных комиссаров распоряжений. Всё это заставляло трудиться Шипова сверх всякой меры, находиться в постоянном нервном напряжении и тратить массу жизненных сил. А их оставалось немного, ведь ему было уже больше семидесяти лет.
В 1918 году Совнарком реорганизовал финансовую систему государства – Государственное казначейство и его филиалы упразднялись. Всю финансовую деятельность сосредоточил в своих руках новый орган советской власти – Народный комиссариат финансов. Естественно, что при такой реорганизации кое-кто из служащих прежних учреждений, хотя бы и временно, оставался без работы. В таком положении оказался и Александр Александрович Шипов. Это известие дошло и до его сестры Марии Александровны, вот как она об этом сообщает сыну Дмитрию в письме от 19 декабря 1918 года:
«Вчера получила грустное письмо от Кати Лебедевой. Она пишет, что брата Сашу лишили места, и он поехал в Москву искать работу… Так тяжело это слышать!»
Но такие работники, как Шипов, были нужны советской власти, и потому, как только стали организовываться отделы нового комиссариата финансов – финотделы, его привлекли к работе, и он был назначен начальником финансового отдела во вновь организованной Иваново-Вознесенской губернии, куда и переехал на жительство. В этой должности он прослужил до самой своей смерти, а умер он в 1921 году от сыпного тифа.
* * *
Чтобы закончить описание этого периода времени, необходимо ещё вспомнить о втором муже Нины Болеславовны и о её двух младших детях. Кое-как пристроив Славу и Нину у родственников и передав Борю Марии Александровне Пигуте, Николай Геннадиевич Мирнов вместе со своей частью отправился в действующую армию. Во время нахождения в медленно ползущем эшелоне он вновь и вновь обдумывал положение своих детей. В действующей армии ведь его могли убить, а дети формально по закону даже не числились его детьми. Они продолжали носить фамилию и даже отчество первого, законного мужа Нины Болеславовны – Алёшкина. Это было не только обидно, это было страшно…
«Ну а если я не вернусь с войны, – думал Николай Геннадиевич, – тогда Алёшкин, формально считаясь отцом Славы и Нины, должен будет их взять и воспитывать. Вряд ли он на это согласится, а если и даст согласие, то каково будет положение этих малышей? Ведь у Алёшкина, кроме Бори, есть ещё дети. Да неизвестно, где находится Алёшкин, жив ли он? А моя мать и остальные родственники вряд ли захотят воспитывать детей, носящих чужую фамилию и даже отчество. Надо что-то придумать. Но что? К кому обратиться за советом?»
И Николай Геннадиевич решает просить совета у человека, проявившего к нему много участия и оказавшего немалую помощь. Написав письмо Александру Александровичу Шипову, он получает от него квалифицированный совет и содействие. При его помощи он подаёт прошение в Святейший Синод, в котором просит разрешение на усыновление своих собственных детей. Через некоторое время ему стало известно, что его просьба может быть удовлетворена только в том случае, если законный муж Нины Болеславовны не заявит протеста. Вопрос этот будет разрешаться в консистории Брянской губернии (епархии), куда приписан Алёшкин как уроженец этой губернии.
По справкам, наведённым Александром Александровичем Шиповым обо всех особенностях этого дела, выяснилось, что, кроме согласия Алёшкина, необходимы метрические выписки на обоих детей и ещё целый ряд документов, которые бы устанавливали имущественный ценз, семейное положение и место постоянного жительства лица, ходатайствовавшего об усыновлении, то есть самого Мирнова. А он, рядовой солдат действующей армии, естественно, ничего пока представить не мог. Так и затянулась эта история на неопределённый срок.
Николай Геннадиевич, захватив около года окопной жизни, месяца через четыре после Февральской революции, при начале развала царской армии вместе с тысячами таких же солдат покинул фронт и поехал разыскивать остатки своей семьи. Он вернулся в Солигалич и поступил на свою прежнюю должность инструктора-пчеловода в сентябре 1917 года.
Происшедшая в стране революция на уклад жизни глухого провинциального городка, не имевшего никакой промышленности, окружённого лесами, болотами, бедными деревеньками и сёлами, утонувшими в густых хвойных лесах севера Костромской губернии, никакого влияния не оказала. Так же, как и в Темникове, сбросили с присутственных мест царские гербы, также исчезли более или менее крупные городские чиновники, да кое-кто из именитых горожан. Всё остальное осталось без изменений.
Как и всюду, со сказочной быстротой росли цены на все товары, а некоторые и совсем исчезли. Жизнь даже в таком захолустье становилась труднее, и тем не менее первой мыслью Мирнова, как только он получил службу, была мысль о детях. Вопрос с усыновлением их всё ещё не был решён, но он надеялся, что после революции всё будет демократичнее – проще, и поэтому хотел как можно скорее взять их к себе.
В то же время он понимал, что ему одному при службе, связанной с беспрестанными разъездами, с воспитанием малышей не справиться. Как всегда, в таких случаях нашлись добрые советчики, убедившие его поскорее жениться. Невеста – немолодая девица из сельских учительниц, Варвара Фёдоровна Попова, жила в Николо-Берёзовце, хорошо знала и самого Николая Геннадиевича, и его покойную жену, и вопрос о свадьбе решился в несколько дней.
Засидевшись в девичестве, Варвара Фёдоровна торопилась выйти замуж. Мирнов пользовался хорошей репутацией, и, хотя девушку и пугали имевшиеся у будущего мужа дети, она по легкомыслию надеялась, что всё обойдётся. Так же думал и Мирнов, он был рад, что нашёл своим детям человека, способного, как он надеялся, заменить мать. После свадьбы, состоявшейся в начале октября 1917 года, молодые решили месяц-другой пожить одни, обустроиться, а там уже и перевезти детей. Но… В конце октября произошла другая революция – Великая Октябрьская, и намеченные планы осуществить не удалось.
Перемена власти в Солигаличе произошла в декабре 1917 г. без какого-либо кровопролития. Так, как будто одна вывеска сменилась другой. Сущности новой власти большинство служащих уездной управы не представляли, тем более что почти все они остались служить на своих местах. Изменилось название: вместо управы стал совдеп, как его все называли, то есть Совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Во главе его встал рабочий-большевик, приехавший из Костромы.
Новая власть стала вводить и новые порядки, но они не коснулись таких служащих, как Мирнов и его новая жена-учительница, они продолжали служить. Правда, Николай Геннадиевич на фронте не раз слыхал выступления ораторов-большевиков, некоторых даже знал лично, выдвигаемые ими лозунги о немедленном мире, отобрании земли у помещиков и об организации на фабриках рабочего контроля считал хотя и прогрессивными, но полагал, что осуществление их возможно лишь в отдалённом будущем. И вот, когда в Солигаличе у власти встали большевики, и выдвигаемые ими лозунги стали конкретными планами, он не очень-то поверил в их выполнимость и прочность. Впрочем, так думал не он один, так думали и многие его сослуживцы. А он в этот период, кроме того, был слишком поглощён своими личными делами: устройством хозяйства и первыми днями жизни с новой женой.
Но в середине декабря 1917 года он получил телеграмму от тётки из Ярославля, требовавшей его немедленного приезда за сыном. Тянуть дольше было нельзя, и Николай Геннадиевич выехал в Ярославль. Там он узнал, что дядя принимал какое-то участие в заговоре против нового правительства и поэтому арестован, тётка не знает, что делать, и заниматься сейчас Славой, конечно, не может. Мирнов понимал, что как-то помочь дяде не сможет, и потому, забрав сына, в этот же вечер уехал из Ярославля, но поехал он не в Солигалич, а в Кострому, чтобы проведать мать и решить вопрос о дочери.
В Костроме он узнал, что положение его матери весьма незавидное. С установлением новой власти выплата ей пенсии за мужа прекращена, и она с маленькой Ниной находилась без всяких средств. Она привязалась к маленькой внучке, но была бы рада, если бы Коля взял её к себе. Однако на этот шаг Николай Геннадиевич не решился.
Отдав матери почти все имевшиеся при нём деньги и дав обещание ежемесячно высылать ещё, он упросил её пока подержать Нину у себя. За несколько месяцев жизни с новой женой он понял, что Варвара Фёдоровна вряд ли сумеет стать его детям хорошей матерью, и потому брать маленькую девочку, требовавшую особых забот, не решился. Видимо, он был прав.
Привезённого Славу его жена встретила весьма сдержанно. Мальчик болел какой-то кожной болезнью: почти всё его тело покрывали гнойные корки. Ему был необходим самый тщательный уход, настоящая материнская ласка, а Варвара Фёдоровна к материнству оказалась неприспособленной, её тяготила забота даже о муже, и создать нужные условия больному ребёнку она не смогла. Понятно, что при такой обстановке взять второго ребёнка оказывалось совершенно невозможным.
Так он и написал матери. Ну а уж о старшем – Боре он не думал и вовсе, даже и не сообщил его бабушке о своём возвращении с фронта и о новой женитьбе. Обо всём этом Пигута узнала значительно позже и от совершенно посторонних людей.
Невесело начался новый 1918 год в семье Мирновых, а через несколько месяцев положение в ней ещё более осложнилось. Николая Геннадиевича мобилизовали в Красную армию рядовым красноармейцем и вместе с наскоро сформированными частями отправили на Северный фронт для отпора высадившемуся в Архангельске английскому десанту и ликвидации сформировавшегося при поддержке этого десанта белогвардейского правительства Чайковского.
Не очень-то хотелось молодому человеку, недавно испытавшему ужасы войны, только что женившемуся, видевшему всю неустроенность его детей от первого брака, снова идти на фронт, но на дезертирство он не решился, а каких-либо других причин для уклонения от мобилизации у него не было. Кроме того, он уже успел поверить в прочность новой власти и был уверен, что правительство, созданное по указке иностранцев, долго не продержится, война эта скоро кончится, и он вернётся домой. Но вернуться домой ему так и не довелось.
В молодой, только что сформированной Красной армии не хватало не только оружия и боеприпасов, но и тёплой одежды, обуви, достаточного количества продовольствия. Большинство носило солдатские шинели и сапоги, привезённые с германского фронта. Всё это плохо защищало от холода, а воевать пришлось в суровых условиях Севера, и многие красноармейцы погибли не столько от вражеских снарядов и пуль, сколько от простудных заболеваний.
Надежды Николая Геннадиевича на быстрое окончание Гражданской войны не оправдались. Имея мощную поддержку от правительства Британии, так называемое правительство Северной области продолжало держать в своих руках Северный край европейской России.
Осенью 1918 года Мирнов заболел воспалением лёгких и, пролежав в лазарете около двух недель, скончался. Его молодой жене стало известно об этом в начале 1919 года. Продолжать воспитывать ребёнка мужа от первого его брака она, конечно, не захотела и поэтому как можно скорее постаралась от него избавиться. Она отвезла Славу к бабушке в Кострому.
Пришлось Анне Петровне Мирновой оставить у себя и второго ребёнка сына, хотя она просто не представляла, как и на что они будут существовать. Её младшего сына Юру тоже мобилизовали в Красную армию, и он находился где-то в Сибири.







