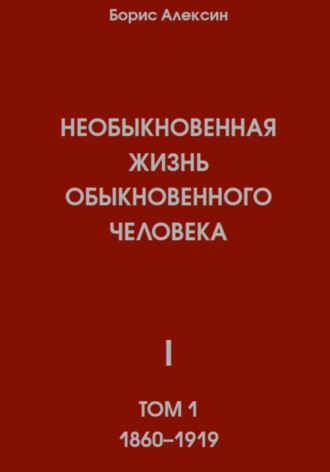
Борис Яковлевич Алексин
Необыкновенная жизнь обыкновенного человека. Книга 1. Том 1
Нина, увидев, что она совершила явную бестактность и обидела отца, попыталась, было, исправить положение, как-то сгладить свои слова, но Болеслав Павлович слушать её не стал.
Через некоторое время Нина ушла в дом, чтобы готовиться к отъезду. Она собиралась выезжать на следующий день.
Дедушка с внуком, выйдя из больницы, долго гуляли по окрестностям Рябково. Вначале дед был мрачен и молчалив, но Боря без конца расспрашивал его обо всём увиденном, и тому, в конце концов, этот интерес мальчика к окружающему улучшил настроение. А вокруг было очень много интересного: большая река, такой Боря ещё никогда раньше не видел, а на ней пароходы, баржи, плоты, лодки – как же было не узнать про все это побольше?
Прогулка затянулась на несколько часов и во время неё дед и внук настолько подружились, что уже казалось, они давно живут вместе. Мальчик на всю свою жизнь запомнил и происшествие с мёдом за завтраком, и эту замечательную прогулку.
Ему не пришлось больше никогда встречаться со своим дедом, но этот единственный день, который они провели вместе, оставил в душе его незабываемое впечатление.
Вечером, когда Борю уже уложили спать, а Даша ушла к себе, отец и дочь остались одни. Они прошли в кабинет Болеслава Павловича, и он, закурив папиросу и прохаживаясь по комнате своими твёрдыми печатающими шагами, говорил:
– Вот, Нина, ты прожила очень ещё мало, а успела уже наделать много глупостей. Жизнь себе ты приготовила несладкую, и не только себе, а главным образом твоему пока единственному ребёнку. Подумай только, как ты с ним поступила… Постой, не перебивай меня, вряд ли мы когда ещё с тобой будем на эту тему говорить. Подожди, выслушай спокойно, – остановил он Нину, пытавшуюся что-то возразить. – Родила ребёнка, и думаешь, это всё? Воспитывают пусть другие? Ведь он тебя четыре года не видел. Я посмотрел на вас, вы ведь как чужие: он тебя не знает, ты его. Какую жизнь ты ему готовишь? А твой новый муж, если его можно так называть, какой он? Сможет ли он заменить Боре родного отца? Мне, Нина, страшно подумать, какова будет жизнь этого ребёнка, если твой второй муж окажется жестоким, грубым человеком.
– Нет, папа, нет! Коля очень добрый, чуткий и отзывчивый, он очень любит меня и будет Боре настоящим отцом. Боря будет счастлив с нами. Я не хочу, не могу отдать его кому-нибудь.
– Хорошо, хорошо. Я ведь это говорю не для того, чтобы кого-нибудь обидеть, просто мне хочется, чтобы ты всё как следует поняла и взвесила. Слишком вы ещё молоды оба… И ещё, Нина, должен тебе сказать прямо: я принял твёрдое решение никому из детей материальной помощи не оказывать. Так что имей в виду: как бы вам трудно ни пришлось, рассчитывайте только на себя. От меня не получите ни гроша. Хотите приехать в гости – пожалуйста, двери открыты, а денег не дам. Вот об этом я и хотел тебя предупредить.
Всё, что говорил отец, Нина переносила относительно спокойно, но последняя фраза о деньгах её взорвала:
– Спасибо, папа, за наставления, я тебя поняла. Должна тебе сказать, что теперь я поняла бедную маму, – взволнованно проговорила Нина, вставая со стула, и направилась к двери. – Завтра я с Борей уезжаю и, вероятно, больше сюда никогда не покажусь. Не решилась бы я приехать и сейчас, если бы не Даша. А что касается денег, то даже если буду умирать с голоду, от тебя, папа, не возьму ничего!
Не думала Нина Болеславовна, что её слова очень скоро, увы, чересчур скоро, сбудутся, и ответила отцу так резко, потому что своим горячим характером была похожа на него.
Нина вышла из кабинета отца, прошла в спальню, поправила одеяло на спавшем безмятежным сном сыне, села на постель и задумалась. Она не плакала, хотя ей этого хотелось. Думала она над словами отца о Боре и Николае. Как-то они поладят? Она и сама-то ещё не может понять своего сына и найти правильные слова для него. «Коля ведь всё-таки ему совсем чужой. Пожалуй, папа в чём-то прав. Но его разговор о деньгах… Да и сама-то хороша: не сдержалась, наговорила Бог знает чего!» Однако она понимала, что теперь уже ничего не сделаешь, а если бы этот разговор повторился, то он произошёл, пожалуй, также. С этими мыслями она и заснула.
Как себя чувствовал после разговора с дочерью Болеслав Павлович, мы не знаем. Но, по-видимому, он тоже был недоволен как дочерью, так и собой. Эту ночь он, вероятно, провёл неважно, – чуть свет позвал кучера, велел заложить лошадь и уехал к больному вёрст за пятнадцать, даже не попрощавшись ни с дочерью, ни с внуком.
За утренним чаем Боря вспомнил про дедушку, ему сказали, что дед уехал к больному, и он успокоился. Затем подали лошадей, и Боря с мамой уехали из Рябково. Никогда больше Боре и его матери не пришлось увидеть ни Болеслава Павловича, ни Рябково.
* * *
Из переезда от Костромы до Плёса на маленьком однопалубном пароходике у Бори остались удивительные воспоминания. Не помнил он ни вида парохода, ни его названия, ни его величины, ни того, как они с мамой садились на него. Запомнился ему только запах – странный, совершенно незнакомый дотоле запах машинного масла, пара и дыма от горевших где-то внизу, под звенящим полом, по которому они прошли, прежде чем спуститься в свою маленькую комнату, берёзовых дров.
Помнил он также маленькое круглое окошко, каких раньше ему тоже никогда не приходилось видеть, расположенное в стене их комнаты, прямо над его постелью. По другую сторону окна плескалась серая, мутная вода, и сколько он ни смотрел, кроме огромного количества этой воды, иногда с плеском ударявшейся в окошко, не было видно ничего. Перед сном он всё спрашивал маму:
– А она не прольётся?
Нина Болеславовна вначале не поняла вопроса, а затем, когда он его повторил ещё раз и при этом показал на иллюминатор каюты, она улыбнулась и ласково ответила:
– Спи, спи. Не бойся, не прольётся…
Она положила на голову сына свою мягкую тёплую руку, он прижался к ней и заснул.
Слова отца всё-таки подействовали на Нину, она стала стараться относиться к сыну ласковее и сдерживать себя, если тот делал не так, как она хотела.
Глава четвёртая
На пристани в Плёсе их встретил Николай Геннадиевич Мирнов. Он только что вернулся из командировки, на всякий случай зашёл на пристань, чтобы встретить пароход, бежавший сверху, и зашёл не напрасно. Ещё издали он увидел Нину на палубе, радостно закричал и замахал ей руками. Она тоже его заметила, приветно махнула рукой и подняла на руках маленького человечка, одетого в пальто и матросскую шапку.
– Вон твой папа, – сказала она, указывая сыну на Мирнова, стоявшего на пристани и махавшего руками и фуражкой.
Нина Болеславовна немного побаивалась встречи сына с отчимом, но всё обошлось вполне благополучно. Вбежав на пароход одним из первых, Николай подхватил Борю, расцеловал его, наскоро чмокнул в щёку жену и, схватив другой рукой какой-то большой узел, заторопился к трапу. Нина с саквояжем и корзиночкой в руках едва за ним поспевала.
На берегу они наняли подъехавшего извозчика, чуть ли не единственного на весь городок, и поехали домой. Боря сидел на коленях у папы и, кажется, был вполне счастлив, доволен был и его отчим.
В дороге, в поезде и на пароходе Нина, стараясь подготовить сына к встрече с отчимом, много раз повторяла ему, что они едут к папе, что папа их ждёт и т. п. Боря поэтому, встретившись с Николаем Геннадиевичем, сразу же признал его за отца и стал называть папой. Это очень нравилось Николаю, и он забавлял и ласкал малыша с искренней любовью. Видя, как между её мужчинами, как про себя назвала их Нина, с первого же момента установились хорошие отношения, она была довольна и счастлива.
А Боря? Боря был слишком мал. Он очень недолго видел своего настоящего отца, да и давно уже это было, почти год прошёл, так что подмены отцов он попросту не заметил. Мама сказала, что это папа, значит – папа. Мальчикам мужское общество всегда нравится гораздо больше, чем женское, какими бы ласками и заботливостью последнее себя ни проявляло. А Боря в течение долгого времени мужского общества был лишён, мужчин почти не видел, кроме «Сифафоныча», которого, между прочим, тоже очень любил. Поэтому возможность поиграть, побегать и пошуметь с молодым весёлым мужчиной его очень обрадовала.
У Нины Болеславовны была прислуга – кухарка Ксения, в доме её все звали Ксюшей. Теперь она должна была выполнять ещё обязанности и няньки, хотя это произошло и не без препятствий с её стороны, но небольшая прибавка к жалованию её убедила. Таким образом, в жизни Бори появился ещё один новый человек, с которым они вскоре подружились и полюбили друг друга.
В те времена, как, впрочем, и сейчас, Плёс был окружен большим количеством текстильных фабрик, вырабатывавших полотно, ситец и другие хлопчатобумажные и льняные ткани, и химических заводов, производивших разные продукты главным образом в результате переработки древесины. В городе поэтому было много рабочих, как их тогда называли фабричных, которые по воскресеньям и другим праздникам многочисленными группами гуляли по бульвару, около которого жил Боря.
По праздничным дням на бульваре играл духовой оркестр пехотного полка, его музыка разносилась далеко по Волге.
В памяти Бори этот период его жизни ассоциируется с большой толпой разряженных людей, непрерывно грызущих семечки и медленно идущих в разных направлениях под удивительные звуки оркестра. До этого он никогда духового оркестра не слышал, и впечатление от звуков, издаваемых трубами, у него было большое. Он помнит, что самым любимым местом его, как, впрочем, и остальных мальчишек, были скамеечки, стоявшие возле самого оркестра, позволявшие сидеть совсем рядом с огромными блестящими трубами, издававшими иногда такие мощные звуки, что звенело в ушах, и чуть ли не касаться руками огромного барабана, от ударов по которому сладко замирало сердце.
Ксюша любила и музыку, и эти толпы народа, и то, что Боря, сидя около оркестра, мог находиться там часами, а значит, не было опасности, что он куда-то убежит, и потому она могла спокойно поболтать со своими подругами и друзьями. А их у неё было предостаточно.
Женщина молодая и довольно красивая, всегда чисто одетая, в аккуратном белом фартуке; среди фабричных, мастеровых, солдат, пожарных и приказчиков, составлявших основную массу гуляющих, Ксюша пользовалась успехом. Но она была скромной, строгой женщиной, так что многие ухажёры, пытавшиеся нарушать установленные правила приличия и вести себя с нею чересчур вольно, получали решительный отпор. Когда же ухажёр бывал уж слишком назойлив, и обычные меры воздействия на него не влияли, она звала Борю, уходила с бульвара и при этом гневно говорила:
– Вот ужо погоди, скажу Василию, он тебе бока-то наломает.
Боря знал Василия, тот довольно часто навещал их дом. Служил он где-то дворником или кучером, дом его хозяев стоял недалеко. Это был здоровый весёлый белокурый парень лет двадцати пяти, руки его казались Боре руками великана, такими же большими были и ноги, обутые в сапоги, густо смазанные дёгтем.
Обычно Василий приходил в гости после обеда, когда Нина Болеславовна была в больнице, а Николай Геннадиевич в отъезде. На это время Борю отправляли в детскую и предлагали заняться игрушками и рассматриванием картинок в книжках, которых у него было много. В такие вечера Ксюша ему говорила:
– Ты, Боренька, большой мальчик, поиграй сам, посмотри вон картинки, а ко мне в кухню не бегай, а то там Василий пришёл, а он знаешь, какой сердитый! Сиди тут. Я потом к тебе приду.
Боря слушал её, хотя и удивлялся: он много раз видел Василия, хорошо знал его и ни разу не видал его сердитым – наоборот, тот всегда шутил с Борей, а один раз даже угостил длинной-предлинной конфетой, которую мальчик сосал, наверное, целый час.
Словам Ксюши Боря не верил, и ему очень хотелось быть вместе с ними на кухне, но ослушаться Ксюшу он не осмеливался. Один раз он попробовал было это сделать, да ничего хорошего не получилось. Забыв про запрет, он зачем-то внезапно вбежал в кухню. Ксюша, сидевшая на лавке почему-то очень близко от Василия, быстро вскочила, бросилась к Боре, довольно грубо схватила его за руку, шлёпнула и, уводя в детскую, сердито сказала:
– Ещё раз так залетишь, в угол поставлю!
Такой красной и сердитой Боря её ещё никогда раньше не видел, после этого случая он уже в кухню, когда там был Василий, не заходил.
Время шло, мальчик привыкал к своей новой жизни. Он привык и к тому, что большую часть времени должен был проводить один, совсем не так, как в Темникове, где его всё время окружали добрые, заботливые и ласковые люди.
Возвращаясь из командировок, Мирнов почти всегда вечера проводил дома, тогда и Нина старалась остаться. Этими вечерами Боря был доволен. Папа играл с ним и в прятки, и в догонялки, и ещё в самые разнообразные игры. А когда он выжигал и раскрашивал выжженные картинки масляными красками, а мама в это время читала им какие-нибудь сказки, Боря бывал совсем счастлив.
Обладая небольшими способностями к живописи, Николай Геннадиевич избрал темой своего искусства выжигание по дереву и достиг в этом некоторого успеха. Материалом для его работ служила покупаемая на базаре разная некрашеная деревянная утварь: блюда, тарелки, подносы, шкатулки и чашки самой разнообразной величины и формы. На них перерисовывались, выжигались, а затем и раскрашивались картинки из детских книжек, обычно иллюстрированных сказок. Возникающие из-под папиной кисти причудливые цветы, птицы и звери вызывали у наблюдавшего за работой мальчика самые фантастические мечты. В них он уносился в удивительные сказочные страны, где такие цветы или птицы могли находиться, и о которых говорилось в прочитанных мамой сказках.
Особенно привлекали Борю папины краски – в трубочках, закрытых колпачками. При надавливании на трубочку из неё выползала на большую круглую доску – палитру тоненькая блестящая колбаска, из каждой трубочки своего цвета.
Трубочек в коробке лежало очень много, не то что тех красок, которые были у Бори: семи маленьких разноцветных лепёшечек, наклеенных на картонку, при раскрашивании дававших какие-то тусклые и блёклые цвета.
Блюда и тарелки, разукрашенные папой, развешивались по стенам всех комнат и дарились всем родным и знакомым.
Время шло незаметно, подходил к концу 1912 год. Радости маленького Бори сменялись огорчениями и различными неприятностями, которых у этих маленьких людей, называемых детьми, много и о которых мы, взрослые, иногда даже и не подозреваем. Так было и в этой семье.
Поглощённые своей работой, отнимавшей много времени и сил и очень интересовавшей обоих родителей, они сыну уделяли совсем немного внимания. Такие вечера, какой мы только что описали, происходили редко.
В последнее время прибавилось ещё одно обстоятельство, заставившее мать и отчима отдалиться от Бори. В конце 1912 года Нина Болеславовна почувствовала себя беременной. С этого момента большую часть того времени, которое она находилась дома, она стала проводить в спальне, туда же отправлялся и отчим, а Боря вновь оставался один. Они, конечно, как все родители, делали всё, что полагалось: покупали ему обновки, подарки к праздникам, дню ангела или рождения, устраивали ёлку и даже иногда ездили с ним в гости, но весёлых непринужденных минут и часов, которые иногда бывали раньше, больше уже не повторялось.
Мать не могла заниматься с сыном из-за плохого самочувствия – беременность она переносила трудно, а отчим всё свободное время занимался женой и новой, возникавшей в нём любовью к своему будущему ребёнку.
Малыш, конечно, этого не понимал и очень тяжело переносил отдаление от него родителей. Гулять он выходил теперь только с Ксюшей, которая не подпускала к нему уличных мальчишек, а так как близко никого из знакомых у родителей не было, то Боре приходилось и на улице играть в одиночестве, а ему, привыкшему в Темникове постоянно играть с Женей или Юрой Стасевичем, было скучно. Особенно тоскливо бывало в дождливые дни вечерами, когда одному приходилось сидеть в детской.
Осенью этого года ему подарили большую коробку кубиков. Это были не обыкновенные кубики, которых у него было много: вместо картинок, обычно наклеенных на них, у этих кубиков на боках были наклеены буквы. Очень скоро при помощи мамы, а больше всего Ксюши, Боря уже знал значение всех букв, имевшихся на кубиках, и научился составлять из них слова: мама, папа, Боря, Ксюша, кот, дом и многие другие.
И вот как-то совершенно незаметно для себя мальчик, осознав значение этих крючочков, палочек и кружочков, нарисованных на кубиках, стал сравнивать их с такими же, написанными в больших красивых папиных книжках, которые позволялось брать.
Однажды, взяв одну из своих самых любимых книжек, прежде чем раскрыть её и начать рассматривать картинки, он попробовал узнать находящиеся на обложке крупные буквы и прочитать слова, состоящие из них. Вряд ли он делал это сознательно, но, так или иначе, буквы эти разобрал, и у него получилось сперва одно, а затем и другое слово, и они сложились в уже хорошо знакомую, много раз произносимую мамой фразу: «СКАЗКА О РЫБАКЕ И РЫБКЕ».
Много раз слыхал Боря эти слова, но тут он их впервые увидел и понял сам, и это было совсем другое. Затем он начал хватать все валявшиеся вокруг на полу книжки и читать их названия, написанные крупными буквами на обложках. Он читал! Он понимал написанное! Это обрадовало его несказанно. Но тут Ксюша принесла ужин.
– Ксюша, Ксюша, а я читаю!
– Ну вот и хорошо, читай, читай! Учёным будешь! – не вдумываясь в слова ребёнка, ответила Ксюша.
– Да нет, ты послушай, я на самом деле читаю. Послушай! – настаивал Боря и, схватив снова сказку про рыбака и рыбку, раскрыл её.
– Ну ладно уж, читай, – согласилась Ксюша.
И он, водя пальчиком по строчкам, торжественно и громко, довольно бойко прочёл:
– Жил старик со своею старухою. У самого синего моря…
Ксюша недоверчиво посмотрела на мальчика, подошла, нагнулась над книжкой и стала читать сама:
– Жи-л ста-рик со сво-е-ю ста-ру-хо-ю… – она умела читать только по слогам. – Верно ведь! Да ты, поди, наизусть выучил, пока мама тебе читала, а теперь меня дурачишь.
– Да нет, Ксюша, я сам, ей-богу, сам, – чуть не плакал Боря.
– Ну хорошо, – согласилась Ксюша, – прочти вот это, – она перелистнула несколько страниц, нашла строчку, сама её шёпотом прочла и подала книжку мальчику. Тот внимательно стал смотреть на строчку, около которой находился палец Ксюши, затем, чуть запинаясь, прочёл:
– Пошёл старик к синему морю…
– Да кто же это тебя выучил? Папа или мама? Я что-то не видела, когда ты и учился-то. Ведь тебе только ещё пять недавно исполнилось! И что только выдумывают эти господа?
– Да нет же, Ксюша, меня никто не учил, это я сам, понимаешь, сам! И сегодня в первый раз!
К началу 1913 года все книжки, которые были у Бори, и большая часть папиных сказок мальчиком были прочитаны. Ему в это время было немногим больше пяти лет.
Своего второго ребёнка Нина ожидала в марте 1913 года, и с каждым днём ей становилось всё хуже и хуже. Почти до самых родов она работала, ведь никаких отпусков беременным тогда не давали, возвращалась домой совершенно измученная и, конечно, никакого внимания своему первенцу уделять не могла, а он этого не понимал, лез к ней и часто бывал наказан.
Родители, поглощённые своими заботами, как-то не обратили внимания на рассказ Ксюши о том, что Боря самостоятельно выучился читать.
В марте Нину Болеславовну поместили в родильное отделение той больницы, где она работала. А через сутки появился на свет и второй сын. Мирнов выпросил себе недельный отпуск и находился дома. Всё это время Боря был с папой, и тот искренне удивился, увидев, что мальчик вполне сознательно и довольно бойко читает.
Через три дня после родов им было разрешено навестить маму. В больнице на них надели белые халаты, причём мальчику пришлось халат подвернуть чуть ли не наполовину и крепко завязать бинтом, рукава закатать, но он всё равно путался в нём, как в тулупе.
Когда они вошли в маленькую комнату-палату, где Нина лежала одна, и Боря увидел бледную мамину голову на подушке, он бросился к ней. Мать прижала к себе лохматую головёнку сына, поцеловала его и заплакала. Увидев слёзы матери, заревел и Боря. Сейчас же откуда-то прибежала акушерка и выпроводила гостей. Отчим едва успел обменяться с женой несколькими словами и поцеловать её. Он был рассержен на мальчишку и всю дорогу молчал. Ребёнок всхлипывал, уныло брёл за отцом, опустив голову, и раздумывал, что же он сделал плохого. Папа велел вести себя в больнице тихо – он и вёл. Ну а если мама заплакала, то как тут можно было удержаться?
Больше отчим его в больницу не брал.
С приездом брата начались Борины несчастья. Стоило ему только забежать в спальню, где вместе с папой и мамой поселился и его новый брат, как на него начинали сейчас же шикать, полушёпотом ругаться и как можно скорее выпроваживать в детскую. Даже посмотреть, уже не говоря о том, чтобы потрогать братца, ему не разрешали.
Ребёнка назвали Владиславом, мама его называла Славиком. Крестины происходили дома, и Боря, с большим интересом вертевшийся вокруг всех участников этого события и без конца пристававший ко всем с разными вопросами, порядочно всем надоел.
Его интересовала и огромная, блестящая, почему-то круглая ванна, которую, как он узнал, называли купелью, и маленький высокий столик –аналой, почему-то кривой и накрытый скатертью с блестящими выпуклыми крестами, кадильница, из которой шёл серенький дымок с приятным запахом, и золотая, твёрдая (он потрогал пальцами) риза священника, тоненькие и толстые свечи, которых было очень много и от которых шёл приятный запах горевшего воска, и ещё многое и многое другое.
Он, конечно, бывал в церкви и в Темникове, и здесь, с Ксюшей, и у обедни, и у всенощной. Папа и мама в церковь не ходили, а его с Ксюшей пускали. В церкви было очень интересно, «много народу, как в городском саду», – сказал он раз Ксюше, чему та немало посмеялась. Много света. На клиросе (он знал, что так называется место около алтаря) пел большой хор, пел очень красиво. Но все это было далеко от Бори, а тут всё рядом, в столовой, и это можно не только видеть, а кое-что, если не заметят, даже и потрогать. Это, конечно, гораздо интереснее. И всё это произошло только потому, что нужно было крестить Славу. Зачем и как его нужно крестить, мальчик не знал, а окружающие ответить не могли. Мама сказала:
– Не приставай с глупостями.
Ксюша ответила:
– Так нужно, всех крестят, и тебя крестили.
Во всяком случае, это было первое интересное событие после появления в доме брата, и главное, Борю никто не гнал в детскую. Сами крестины ему хоть и запомнились надолго, но не понравились. А когда священник после нескольких молитв вдруг схватил маленького голого братца и быстро несколько раз опустил его в тёплую воду, налитую в купель, Боря даже испугался. Прошлым летом он впервые попробовал нырять и знал, как это страшно – вдруг с головой оказаться под водой. А ведь Слава был такой маленький!
После крестин Славу унесли в спальню, туда же ушла и мама, а двое папиных знакомых, зачем-то державших Славу на руках, пока священник пел молитвы, и сам батюшка вместе с папой сели за стол и стали кушать разные вкусные вещи. Попробовал было пристроиться к столу и Боря, но отец позвал новую, только что нанятую няню, и велел ей увести его в детскую, где и накормить. Как ни хотелось мальчику остаться, но всё же пришлось покориться и уйти.
Между прочим, крестины на дому стоили очень дорого, гораздо дороже, чем в церкви, но молодым родителям пришлось пойти на такой расход. Ведь по существовавшим законам отцом ребёнка считался Яков Матвеевич Алёшкин, и в церковных книгах записывалась и фамилия мальчика – Алёшкин, и отчество – Яковлевич. При крещении в церкви, куда, конечно, пришлось бы пригласить многих знакомых (да пришли бы в большом количестве и незнакомые любители всяких церковных зрелищ, будь то свадьба, похороны или крестины), в тайне сохранить фамилию и отчество нового человека было бы трудно. Супруги лишней огласки хотели избежать. И вот, сославшись на плохое самочувствие матери и слабость ребёнка, крестины провели дома. На них, кроме крёстных, присутствовали только домашние и церковный причт.
И тем не менее даже при таком ограниченном количестве присутствующих пересудов избежать не удалось. И Ксюша, и даже новая няня, девушка Надя, поняли, почему у их господ разные фамилии, поняли, что те живут невенчанные, что в мнении большинства было преступлением, поняли они также и то, что Боря – неродной сын Николая Геннадиевича и, как всегда в таких случаях, начали его жалеть. Высказывали сочувствие и свои суждения, не стесняясь его присутствия. В своих рассуждениях они часто называли Борю несчастным сиротинкой, брошенным, а если он их чем-либо сердил, то и безотцовщиной. Боря большинство этих слов понимал и никак не мог только понять, почему они адресуются ему. Из прочитанных книг он знал, что сиротинками называют тех, у кого нет ни отца, ни матери, а безотцовщиной – тех, у кого нет отца, а у него же они были. Спросить же об этом родителей и тем более кого-либо другого он стеснялся. Но после всего, услышанного в кухне, в его маленькое сердечко закрался какой-то червячок недоверия к родителям. Так у него появилась своя тайна.
После крестин Славы родители его серьёзно задумались. До этого к своему положению они относились довольно легкомысленно. Им казалось, что со временем всё как-нибудь утрясётся, и хотя их попытки получить официальное согласие Алёшкина на развод пока так до сих пор и не увенчались успехом, они всё же надеялись на что-то. Но вот необходимость крестить своего ребёнка, записав его под чужой фамилией и даже отчеством, причинила очень большое горе Николаю Мирнову, и он был готов уже хоть сейчас отдать Борю отцу, чтобы получить развод.
Но он любил Нину и знал, что такое предложение принесёт ей большое огорчение и вряд ли при её вспыльчивом характере приведёт к хорошему, да и мальчонку, к которому он уже привязался, разлучать с матерью жаль. Но вот появился на свет этот новый, невинный ребёнок, с первых дней своей жизни вынужденный находиться вне закона, и естественно, что чувства отчима к пасынку изменились. А мать, всецело поглощённая заботами о маленьком втором сыне, тоже стала относиться к старшему менее внимательно, и это на том, конечно, отразилось.
* * *
В Темникове после отъезда Нины Болеславовны с сыном произошло следующее.
Через несколько дней после отъезда Нины Аня Шалина по поручению Марии Александровны написала Якову Матвеевичу Алёшкину о том, что ему приезжать в Темников незачем: была Нина и забрала Борю.
Аня тяжело переживала разлуку с малышом, к которому привязалась всей душой, жалко ей было и Якова, ведь он, как она знала из его писем, очень хотел сам воспитывать своего ребёнка. Эти её чувства невольно нашли своё отражение в её письме. Она не сумела скрыть своего сочувствия ему, не могла скрыть и другого чувства, которое всё сильнее и сильнее охватывало её.
Ранее она ещё не осмеливалась в прежних своих письмах Яше, как уже мысленно называла его, прямо писать про свою любовь и даже намекать ему об этом. Но в этом последнем письме её чувства сквозили в каждой фразе, каждое слово было проникнуто такой нежностью и сочувствием, что не понять её мог бы только совершенно бесчувственный человек.
Отправив это письмо, Аня долго не могла найти себе места. Она ругала себя за него, боялась, что он её не поймёт, и в то же время боялась того, что поймёт. Одним словом, как всякая девушка, впервые познавшая любовь и впервые давшая понять об этом любимому человеку, она страдала. Перемену в воспитаннице заметила и Мария Александровна, но, с одной стороны, она приписывала эти переживания Ани разлуке с Борей, а с другой, если и догадывалась о чём-либо, то виду подавать не хотела.
Время шло, а от сибиряка никаких известий не было. Сама бабуся разлуку с внуком переживала тоже очень тяжело и, хотя рядом была Женя, которой она стала отдавать свои заботы и нежность в удвоенном количестве, о мальчике она думала всё время.
Наступил 1912 год. От Якова Алёшкина пришло письмо, кажется, это было в марте. Письмо было адресовано Марии Александровне, и его трудно пересказать, лучше его привести целиком.
Вот это письмо:
«Дорогая Бабуся! Спасибо, что написали о Боре! Я перед Рождеством телеграфировал Нине Болеславовне с оплаченным ответом, но ответа до сих пор не получил. Телеграфировал просьбу сообщить о здоровье Бори, и только. Писать ей я не буду, а ей, мне кажется, тоже будет трудно это сделать, так что пока будьте Вы посредницей между нами и передайте ей, что я готов дать согласие на развод, но с условием, что Борю я возьму к себе, ей он теперь не нужен и будет как лишнее воспоминание. Ведь она, кажется, ожидает другого.
И самое лучшее ей – согласиться на это предложение, иначе будет ещё хуже, так как я в конце этого года приеду в Россию, что как для неё, так и для того, кто у неё сейчас мужем, будет, пожалуй, очень неприятно, тем паче, что я уж тогда пойду на всё, чтобы взять с собой Борю. Юридически я гораздо больше прав имею на него, чем она, а о нравственных я уж не думаю. Мне сделали очень много зла, не считаясь ни с моим чувством, ни с моей нравственной болью. Я буду делать так же. Короче, передайте ей, пусть отдаст Борю мне, и я дам ей полное согласие на развод. Иначе теперь возьму силой. Я. Алёшкин.
Р.S. Простите, Бабуся за это письмо! О Вас у меня остаётся всё-таки очень хорошее воспоминание, как о хорошем, добром, душевном человеке. Желаю Вам здоровья!»
Прочитав это письмо, Мария Александровна испытывала разноречивые чувства. С одной стороны, её покоробил резкий тон письма, ей было больно и обидно за свою дочь, а с другой – и это главное, ей стало стыдно, нестерпимо стыдно, она просто не представляла себе, как она сможет ещё когда-нибудь посмотреть в глаза этому человеку, так незаслуженно и так жестоко обиженному её дочерью.
Сперва она хотела отправить это письмо Нине, потом передумала. Она рассуждала так: «Письмо это написано в таком резком тоне, оскорбительном для Нины, что и она, и её новый муж могут так обидеться и разозлиться, что Боре у них жить будет ещё тяжелее».
Якову Алёшкину на это письмо она тоже ничего не ответила и, спрятав его подальше, решила сделать вид, что она его просто не получала. Она решила во всём положиться на волю Божию, и кто знает, может быть, это было самое правильное решение.
Через неделю после этого письма от Якова Матвеевича пришло и другое, на этот раз адресованное Анне Николаевне Шалиной.







