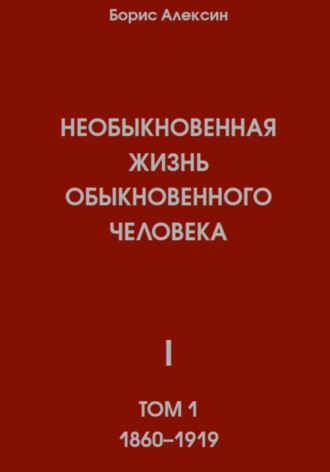
Борис Яковлевич Алексин
Необыкновенная жизнь обыкновенного человека. Книга 1. Том 1
Глава семнадцатая
На здании бывшего полицейского участка вместо герба и царского флага теперь висел красный флаг. На дверях на фанерной дощечке написано: «Народная милиция». Ребята уже знали, что все сидевшие там до революции арестанты выпущены, а на их месте сидят пойманные городовые.
Освобождение арестованных произошло в тот же день, как в Темникове стало известно о революции, то есть четвёртого марта 1917 года. Произошло оно стихийно. В камерах участка находилось несколько человек неблагонадёжных, готовящихся к отправке в Тамбов, несколько крестьян, задержанных за поджог итяковского барина и тоже ожидавших отправки в Тамбов, и два не то вора, не то разбойника.
Освобождены были все, и если неблагонадёжные остались в городе и стали активными участниками происходящих событий, крестьяне-поджигатели поторопились как можно скорее уйти в свою деревню, то два вора скрылись в неизвестном направлении. Вскоре в Темникове участились случаи воровства и ограблений, многие считали, что это действуют выпущенные на волю бандиты.
Может быть, это было и так, но, вероятнее всего, тут действовали и те, кто содержался в тюрьмах и других городов, ведь во всех населённых пунктах губернии, как и в самом Тамбове, освобождение заключённых производилось так же. Кроме того, в них имелись и тюрьмы, а Темников принадлежал к тем редким городам России, где тюрьмы не было.
В памяти Бори Февральская революция (а через несколько лет он узнал, что она именно так и называлась) сохранилась как сплошные митинги и собрания, на которых без конца говорили и пели песни.
В Темникове, как, наверное, и во многих захолустных городках, революция эта прошла бескровно. Все власть предержащие лица пользовались государственными каналами связи, об отречении царя и об образовании Временного правительства они узнали значительно раньше, чем остальные жители города. Понимая, что им может не поздоровиться, эти лица заблаговременно исчезли: земский начальник, становой пристав, городской голова и многие чиновники из полиции и других учреждений ещё до того, как весть о революции дошла до жителей Темникова, куда-то незаметно выехали.
Появился новый председатель управы, в прошлом, кажется, уездный агроном, была создана народная милиция, арестованы остававшиеся в городе городовые. На этом революционные действия и закончились.
Для всех учебных заведений, в том числе и гимназий, особых изменений не произошло. Темнели на стенах классов прямоугольники невыгоревшей краски после снятых царских портретов. В утреннем богослужении перестали молиться о здравии его императорского величества и о даровании ему победы над супостатом, то есть над немецким Вильгельмом, а стали молиться о победе над врагом православного христолюбивого воинства.
Вот, пожалуй, и все перемены, которые пришли в марте 1917 года. Остальные гимназические дела продолжали идти своим чередом. Правда, некоторые учителя стали приходить на уроки не в установленных мундирах, а в обычных пиджаках, да кое-кто из гимназистов старших классов не носил форму. Причём некоторые явно пользовались тем, что стало очень трудно с приобретением материи.
Ждали Пасхальных каникул. Перед ними, как всегда, чтобы получить хорошие отметки за четверть, гимназисты, особенно младших классов, занялись зубрёжкой.
Манкировали занятиями только ученики восьмого класса: часть из них активно ораторствовала на многих митингах и собраниях, иногда проводившихся во время уроков. Некоторые записались в народную милицию, проводили время в разных дежурствах и даже на уроки являлись с красными повязками на рукавах и револьверными кобурами на поясе. Кое-кто, пользуясь ослаблением гимназической дисциплины, пропускал уроки просто из лени, рассчитывая на то, что раз революция, то и в экзаменах будет послабление.
В младших классах дисциплину пока ещё удавалось сохранить, и потому и Боря с Юзиком вынуждены были своё бесцельное шатание по улицам забыть.
На гимназических собраниях, помимо общих рассуждений о революции и пения революционных песен, стали возникать вопросы, касающиеся школьной жизни, и прежде всего приняли решение об изгнании классных надзирателей, о прекращении ведения кондуита (так назывался журнал, заполняемый надзирателями) и об изъятии из программы так называемых мёртвых языков: греческого и латыни.
При обсуждении второго вопроса почти все говорили о том, что эти языки отнимают много времени, а никому не нужны, особенно теперь, после революции. И хотя ученики первого и второго класса этих предметов ещё не изучали, они с таким же единодушием проголосовали за то, чтобы их упразднить, в их числе были и Боря с Юзиком.
Бабуся, узнав о собрании и принятом на нём решении, только руками развела и с возмущением сказала:
– Ну, если теперь ученики сами начнут определять программу своих занятий, то учение пойдёт на славу!
В женской гимназии мёртвые языки не преподавались, и бабуся только понаслышке знала, какая это трудная и скучная вещь, она и сама не раз в беседах с преподавателями говорила:
– Учение этим языкам – лишь пустая трата времени!
Но согласиться с тем, что этот вопрос могут решать сами ученики, она не могла, в её понятии такие действия в корне подрывали школьную дисциплину.
На другой день выборные – гимназисты седьмого и восьмого классов явились с этим решением к директору гимназии Чикунскому. Тот их спокойно выслушал, хотя уже само появление в его кабинете выборных от учащихся явилось случаем необыкновенным, и обещал обсудить (что было ещё необыкновеннее) вопрос на педагогическом совете.
Торжествующие делегаты сообщили товарищам о результатах переговоров с директором, и все были удивлены и обрадованы его покладистостью. В коридорах гимназии несколько дней с жаром обсуждали свою победу. Все считали, что тут, конечно, сыграла роль революция.
Ведь каких-нибудь полгода назад Чикунский не только не стал бы разговаривать с делегатами от учащихся и даже что-то им обещать, он просто их не принял бы. И может быть, им за участие в такой делегации пришлось бы поплатиться пребыванием в гимназии.
Через неделю объявили результаты рассмотрения просьб гимназистов на педсовете. Должности классных надзирателей и кондуит упразднялись, а в отношении мёртвых языков было разъяснено, что этот вопрос может быть рассмотрен при составлении программы на будущий учебный год, а пока их придётся учить и сдавать экзамены.
Хотя требования были удовлетворены и не полностью, гимназисты ликовали: всё-таки это победа. С этого времени авторитет ученических собраний значительно возрос. Им было невдомёк, что ещё до их собрания в мужскую и женскую гимназии от окружного инспектора поступило распоряжение о сокращении штата классных надзирателей и классных дам и о выставлении отметок по поведению ученикам в специальной графе обычного классного журнала.
Так или иначе, но после Пасхальных каникул ни надзирателей, ни кондуита в мужской гимназии больше не было. Хотя по второму требованию и не было получено положительного ответа, многие перестали посещать эти уроки по собственной инициативе. В журналах против фамилий таких злостных лентяев появились жирные двойки и даже колы, но они никого не смущали.
Учитель пения Павел Васильевич Беляев добыл ноты новых революционных песен, сделал аранжировки, и вскоре школьный хор, разучив их, пел и на уроках пения, и на демонстрации Первого мая, проводившейся на улицах города.
В это же время в гимназии организовалось и спортивное общество, названное по предложению учителя гимнастики «Сокол». Душою и организатором этого общества был Борис Рудянский.
Хотя революционные события, вынужденные перерывы и отвлечение от уроков и отразились на дисциплине и прилежании всех гимназистов, в том числе, конечно, и на наших друзьях, весенние экзамены ими были сданы на пятёрки, и их перевели в следующие классы.
Уже в конце экзаменационного периода у учащихся обеих гимназий появилось новое увлечение: почти каждую субботу то в одной, то в другой стали устраиваться литературные вечера и концерты, где читались стихотворения модных поэтов: Надсона, Апухтина, Блока и др., рассказы Чехова, Андреева, Горбунова, Аверченко, Тэффи и даже ставились иногда маленькие сценки.
В организации этих вечеров принимали участие гимназисты и гимназистки старших классов и некоторые наиболее прогрессивные педагоги: Крашенинников, Замошникова. И как ни покажется удивительным, но в развлечениях молодёжи довольно активное участие принимала, несмотря на свой возраст, и начальница женской гимназии Пигута, и к её участию молодёжь относилась очень хорошо.
Вскоре среди участников стали выделяться особенно талантливые исполнители. Одним из таких талантов был Юра Стасевич. Отличаясь музыкальным слухом и хорошими способностями, он вполне прилично играл на фортепиано, к любому мотиву быстро подбирал аккомпанемент и всегда принимал участие во всех концертах как пианист-аккомпаниатор. Чаще других в его помощи нуждалась Оля – гимназистка, жившая у Пигуты. Она неплохо пела и была любимицей публики.
Через несколько дней после майской демонстрации уроки в гимназиях прекратились, все экзамены были сданы, занятия окончились. У ребят появилось много свободного времени, а так как митинги и всякого рода собрания продолжали происходить часто, то мальчишки на них пропадали целыми днями. Это не могло не беспокоить их родителей.
Первым из бездельного шатания по улицам был выключен Юзик Ромашкович. Его отправили в лесничество для участия в начавшихся полевых работах. Почти одновременно с ним в Пуштинское лесничество отправился и Юра Стасевич, куда после окончания учебного года переехала и Янина Владимировна с дочкой Вандой.
Боря Алёшкин остался один, нельзя же считать Женю настоящим товарищем! Во-первых, она девчонка, а во-вторых, с ней просто скучно. И хотя с Володей Армашем тоже игралось не очень-то весело, но других-то друзей не было, приходилось идти к нему.
Играть дома в солдатики, когда на улице тепло и светит яркое солнце, или толочься в маленьком дворике у квартиры Армашей и лишь из-за забора смотреть на других ребят, бегущих куда-нибудь, было тоже выше Бориных сил. А Володю, несмотря на его отчаянный рёв и даже брань, которой он осыпал родителей, дальше двора не выпускали. И Боря у Армашей не задерживался. Однако и уходить далеко от дома не решался, ограничивая свои путешествия Гимназической улицей и дворами обеих гимназий, но и здесь ему удавалось увидеть много интересного: то проходили куда-нибудь солдаты, то проезжали верховые, то на дворе гимназии занимались члены народной милиции, то… Да мало ли было интересного и важного, на что нужно обязательно посмотреть!
Ещё с мая месяца в Темникове, как и во многих других местах, началась подготовка к выборам в Учредительное собрание. В городе появилось много новых людей – агитаторов от различных партий, существовавших тогда в России. Вновь участились собрания и митинги, на которых эти агитаторы, яростно споря друг с другом и восхваляя каждый свою партию, призывали жителей Темникова голосовать за список выборщиков его партии. Мало того, тут же производилась и запись в какую-либо партию, причём в большинстве случаев оформлялось это очень просто: записав того или иного уговорённого человека, агитатор брал с него вступительный взнос – обычно 50 копеек и выдавал записанному листочек, который и заменял партийный билет.
Были такие, кто, записавшись на одном собрании в одну партию, на другом записывался в другую. На одном из таких собраний записалась в партию кадетов и Мария Александровна Пигута. Сделала она это не столько под влиянием горячей речи агитатора и не потому, что многие её знакомые, в том числе и директор мужской гимназии Чикунский и некоторые педагоги оказались в этой партии, а, скорее всего, потому, что, как было известно из газет, во главе этой партии стоял знакомый человек – Милюков, когда-то учившийся в университете вместе с её братом. Она полагала, что этот человек порядочен и честен и будет по-настоящему заботиться о благе России.
В это бурное время почти все педагоги обеих гимназий записывались в различные партии. Записалась в партию эсеров библиотекарь Варвара Степановна Травина, а другая ближайшая помощница Пигуты – Анна Захаровна Замошникова – в партию социал-демократов.
Когда эти три женщины собирались вместе, между ними разгорались бурные дискуссии. Каждая из них, в то время не очень-то разбираясь в существе и программе своей партии, считала своим долгом, поскольку она уже в неё вступила, всячески защищать и горячо доказывать её подлинную революционность и необходимость для России, одновременно стремясь показать, что другие партии никуда не годятся.
Иногда свидетелем таких споров бывал и Боря, больше всего его удивляло то, что и Варвара Степановна, и Анна Захаровна называли бабусю «наш кадет». Мальчик недоумевал: он хорошо знал кадетов и никак не мог понять, как это бабуся может быть кадетом.
Дело в том, что сыновья директора городского училища Оболенского учились в Москве в кадетском корпусе и приезжали на каникулы в Темников. Они ходили в чёрной форме с красными погонами и красными полосами на штанах, всегда очень важничали, держались неприступно, чем, конечно, злили всех городских мальчишек.
И если между гимназистами, учениками Саровского училища и городского существовала постоянная вражда, то с появлением кадетов местные распри на время забывались, и против кадетов ополчались все. Те обычно в драку не вступали ввиду своей малочисленности, а трусливо убегали во двор своего дома и оттуда через забор отстреливались от своих преследователей обломками кирпичей или комками грязи.
Группа преследователей, отойдя на недосягаемое для бросков расстояние, во всю глотку кричала:
– Кадет, кадет! На палочку надет!
Эта дикая серенада прекращалась только с появлением в калитке огромного бородатого дворника с метлой в руке, из-за спины которого выглядывали ненавистные кадеты. Дворник грозно потрясал метлой и хриплым басом кричал:
– А вот я вас сейчас, голопузые! Поймаю – крапивой попотчую!
Ребятишки отбегали подальше, но если дворник уходил, то всё начиналось сначала. А когда не на шутку рассерженный дворник бросался за ними в погоню, ребята разлетались в разные стороны, словно стайка вспугнутых воробьёв.
Боря несколько раз участвовал в походах на кадетов, он, как и большинство ребят, презирал юных Оболенских за чванливость и трусость. И потому никак не мог понять: как это его хорошая и любимая бабуся вдруг стала кадетом!
Однажды, сидя в гостиной, старательно перерисовывая в тетрадку какой-то понравившийся в журнале рисунок, в одну из пауз спора приятельниц совершенно спокойно мальчик спросил:
– Бабуся, ты кадет?
– Да, да, Боря, кадет! Да ещё какой принципиальный! – хором воскликнули Анна Захаровна и Варвара Степановна.
Ребёнок секунду помолчал, затем задумчиво произнёс:
– А я думал, что кадетами только мальчики могут быть. Ведь нужно чёрную форму носить и фуражку с кокардой. А потом, ведь ребята говорили, что кадеты офицерами будут, что же и ты, бабуся, офицером будешь? Разве женщины бывают офицерами?..
Дальше продолжать он не смог: в комнате поднялся такой хохот, что даже Поля, испуганная необычайным шумом, выскочила из кухни. Боря же смотрел на всех с недоумением и недовольством и не мог понять, чего это они так развеселились. Однако женщины понемногу успокоились, вытерли выступившие на глазах слёзы.
Анна Захаровна подошла, обняла, села рядом и сказала:
– Милый Боря, про тех кадетов ты всё правильно говоришь. А Мария Александровна в партию конституционных демократов вступила, сокращённо выходит: К-Д, ка-деты. Вот она и стала кадетом, понял?
Мальчик машинально кивнул головой, хотя, по правде сказать, вторая часть речи Анны Захаровны была совсем туманной.
– Да брось ты ребёнку голову морочить, – вмешалась бабуся. – Ну где ему всё это понять?
– Вот это верно, – горячо подхватила Варвара Степановна, – где уж тут ребёнку разобраться, если взрослые ничего понять не могут…
– А я думаю, уважаемая Мария Александровна, – не сдавалась Анна Захаровна, – никчёмность вашей партии даже и ребёнок поймёт: хотите сейчас попробуем?
И прежде, чем Пигута успела что-либо возразить, она вновь обратилась к Боре:
– Вот, Боренька, послушай: бабусина партия кадетов, а значит, и бабушка вместе с ними, вместо свергнутого Николашки хотят другого царя посадить, думают, что сумеют его конституцией окоротить. Вот скажи, хочешь ты, чтобы у нас опять был царь, другой какой-нибудь, а?
Боря задумался: «Что же, если будет новый царь, это опять всех его родственников по именам заучивать надо будет, опять запоминать все их дни именин? Опять надзиратели в гимназию вернутся?» Нет, на это он не согласен! И он решительно произнёс:
– Нет, нет, не хочу!
– Ну вот видишь, Машенька, – со смехом воскликнула Варвара Степановна. – Устами младенца глаголет истина! Даже твой собственный внук против тебя. Бросай-ка ты свою партию да перебирайся к нам в эсеры.
В чём заключалась бабусина партийная деятельность, Боря так никогда и не узнал, очевидно, её вовсе и не было. Просто, отдавая дань времени, она записалась в партию, которая возглавлялась знакомым человеком. А среди её друзей ещё долго вспоминали о том, как родной внук забраковал эту партию категорически.
* * *
В июне состоялся спортивный праздник, приуроченный ко Дню выборов в Учредительной собрание; происходил он на обширной лужайке, расположенной в центре городского сада.
Вообще, этот сад в Темникове был когда-то большим помещичьим парком в пригородном имении, вошедшим постепенно в черту города. После смерти последнего владельца имения наследников не нашлось. На месте здания усадьбы построили двухэтажное кирпичное здание уездной управы, около неё и находился городской сад.
Так вот, именно в центре сада в одном из углов лужайки и был укреплён турник, поставлены параллельные брусья и конь. Остальная часть лужайки отводилась для выполнения вольных упражнений.
Для участия в празднике допускались гимназисты только старших классов, а все остальные являлись зрителями, с огромным интересом наблюдавшими за действиями своих более счастливых товарищей. Вольные упражнения, исполняемые группой мальчиков под звуки духового оркестра, понравились всем, но самым увлекательным зрелищем были выступления на снарядах. Здесь, конечно, пальму первенства захватил Борис Рудянский. Его солнце – упражнение на турнике, казавшееся тогда верхом гимнастического искусства, вызвало бурю восторга. Также горячо аплодировали Рудянскому и в показательном боксёрском поединке. Против него сражался какой-то высокий, но, очевидно, не очень ловкий гимназист, и когда Борис, увёртываясь от беспорядочно махавшего кулаками верзилы, изловчился и как-то почти незаметно ткнул того кулаком в грудь, и тот от этого, казалось, совсем лёгкого удара свалился навзничь на траву, ребятишки не выдержали и громко закричали «ура-а-а!». В числе кричавших громче всех был, конечно, и Боря.
Затем взрослые прошли в здание летнего театра, то есть попросту в длинный дощатый деревянный сарай даже без потолка. Там за расставленными в ряд столами, на которых лежали списки кандидатов от той или иной партии, сидели агитаторы, громко призывавшие голосовать за представляемую ими партию. Некоторые, более ретивые, даже просто совали входящим список своей партии и предлагали опустить его в урну. Так проходили выборы.
В помещении находилось много народа, стоял шум и толкотня, поэтому и Мария Александровна, и сопровождавший её Иосиф Альфонсович Стасевич, протиснувшись к ближайшему столу, взяли в руки первый попавшийся список, а это оказался список кадетской партии, опустили его в урну, проголосовав таким образом за кадетов, хотя вряд ли вполне сознательно. Они взяли с собой ребят, от которых не смогли отвязаться, и торопились скорее выбраться из толпы, создававшей всё большую давку. После голосования все заторопились домой.
К этому времени Стасевичи, ранее жившие всей семьёй безвылазно в лесничестве, переехали в Темников. Случилось это вот почему.
Ещё с марта месяца среди крестьян шли раздражённые толки о земле. Особенно они усилились, когда с фронта начали возвращаться солдаты. Крестьяне Темниковского уезда, да и других, находившихся в чернозёмной полосе России, в своё время были «освобождены» не только от крепостной зависимости, но и от имевшейся в их распоряжении земли. Поэтому большинство из них вынуждены были арендовать землю у своих бывших помещиков. И нельзя сказать, чтобы эта кабальная аренда оказывалась легче прежней неволи. Поэтому все думы и чаянья крестьян Темниковского уезда направлялись на стремление получить хоть небольшой, но собственный клочок земли.
Вероятно, именно поэтому в Тамбовской губернии в начале революции была так популярна партия эсеров со своим лозунгом: «Земля и Воля».
После свержения царя крестьяне были уверены, что скоро они получат помещичьи земли в своё владение, но этого не произошло. Помещичьи земли стояли нераспаханными, а эсеры проводить свой лозунг в жизнь не торопились. И вот крестьяне на своих сходах решили не дожидаться какого-то там «учредительного», а самим захватить земли, принадлежавшие Итяковскому, Демидову, Новосильцеву и другим помещикам, и распахать их.
Посланные управой из Темниковского гарнизона солдаты для усмирения крестьян сделать ничего не смогли. Больше того, их появление только подлило масла в огонь. Итяковский барин, на которого крестьяне были озлоблены особенно сильно (многим была памятна расправа, учинённая в его имении в 1905 году), еле успел выбраться в город из своего уже горящего поместья. Приехала в Темников и богатая помещица меценатка Новосильцева, оставив имение на управляющего. Пробыв в Темникове всего один день, она уехала в Москву, а потом и во Францию, куда ещё во время войны перевела значительную часть своего капитала.
С Марией Александровной Пигутой, у которой она останавливалась при проезде через город, она простилась более чем холодно, потому что ею же взлелеянная начальница гимназии категорически отказалась сопровождать благодетельницу в её заграничном путешествии.
Неспокойно стало и у Стасевичей в Пуштинском лесничестве. Всё чаще и чаще крестьяне близлежащих деревень производили самовольные порубки леса. Иосиф Альфонсович, считавший необходимым строго соблюдать свои обязанности по охране леса, требовал это и от всех подчинённых. Порубщиков задерживали, лес отбирали, а виновных штрафовали. Как и при царе, это касалось прежде всего зажиточных крестьян, так как порубки совершали именно они. Они-то и стали вести агитацию в своих деревнях за то, чтобы «проучить зазнавшегося барина лесничего», «пустить красного петуха рыжему полячишке», и ныне «исполняющему царский режим».
Но у Стасевича были и доброжелатели, главным образом, среди погорельцев, которым он помог построиться, и бедняков, нанимавшихся на лесные работы и помнивших справедливость и честность лесничего при расчётах с ними.
И вот, однажды ночью в лесничество прибежал один из таких крестьянских доброжелателей и сообщил Иосифу Альфонсовичу, что сегодня или завтра он должен ждать «гостей», собиравшихся отомстить ему за штрафы.
Стасевич не стал медлить, собрал всех имевшихся в лесничестве лошадей, погрузил на телеги запасы продовольствия, наиболее ценную мебель, одежду, книги и в ту же ночь переехал в Темников. С этого времени семейство Стасевичей переселилось в город уже насовсем, а в лесничество выезжали только изредка.
Вскоре выяснилось, что переезд оказался благом. Ванда уже подросла, и Янина Владимировна вполне могла приступить к врачебной деятельности, уже не бесплатной, как в лесничестве. И гимназист Юра нуждался в постоянном родительском присмотре, так что, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло.
Однако квартира, снимаемая ранее по существу для одного Юры, для всей семьи была мала. Пришлось искать другую. Нашли. Она, как и квартира Армашей, находилась на Бучумовской улице в большом угловом доме. Квартира была достаточно велика, располагалась вблизи от женской гимназии, где собиралась служить Янина Владимировна. Она согласилась на предложение начальницы гимназии Пигуты читать в старших классах гимназии гигиену – новый предмет, недавно введённый в программу.
После переселения Стасевичей в новую квартиру, находившуюся очень близко от квартиры Пигуты, Боря стал бывать у них почти ежедневно. Очень часто он прибегал к Юре рано утром, и они, зайдя за Володей Армашем, вместе с его отцом отправлялись купаться на Мокшу. Для этого случая Алексей Владимирович Армаш надевал белую панаму и какой-то старый, неопределённого цвета пиджак.
Купались все по-разному: Юра Стасевич научился плавать, но воды побаивался и заплывать далеко не решался; Володя плавать почти не умел и барахтался возле берега; Алексей Владимирович, зайдя по грудь, затыкал пальцами уши и нос, зажмуривал глаза и приседал в воду, затем, поднявшись, долго отфыркивался и растирал руками грудь и плечи, собственно, в этом и заключалось его купание. Боря находил удовольствие только в беспрерывном плавании, нырянии и кувыркании на самом глубоком месте: он доставал дно, брызгался и страшно шумел.
Место, куда ходила эта компания, любили и другие мальчишки, особенно жившие на Бучумовской и прилегавших к ней улицах, поэтому у Бори всегда находилось много товарищей в этом занятии, с некоторыми из них он потом и подружился.
* * *
Время шло, ребята росли, и кроме игр, купания и развлечений перед ними возникали и кое-какие проблемы.
Материальное положение всех жителей города всё ухудшалось, особенно трудно стало с продуктами питания. Ещё зимой попечительский совет гимназии разрешил служащим, жившим во дворе гимназии, использовать часть его под огороды. Воспользовалась этим правом и Пигута.
В одном из уголков двора вскопали небольшой участок, разделали три грядки и посадили кое-какие овощи. Разделка грядок, как и копка земли, в основном производилась старым Егором, ну а посадка и дальнейший уход за посаженным легли на плечи Поли. Принимали участие в уходе за огородом и сама Мария Александровна, и Боря, и Женя. А когда появились ягоды и грибы, темниковские ребята гурьбой отправлялись в Новосильцевскую рощу. Эти лесные дары служили хорошим подспорьем в питании. Юра Стасевич и Юзик Ромашкович уехали в свои лесничества и в городе почти перестали показываться. Володю Армаша без взрослых из дому никуда не выпускали, и Боря стал ходить в лес со своим новым другом, приобретённым во время совместного купания, сыном шорника, учившимся в четвёртом классе городского училища, – Симкой Гуськовым.
От города до рощи было около двух вёрст, и в неё ходило много горожан. Конечно, такого обилия ягод и грибов, о котором вспоминал Боря, рассказывая про лес в Николо-Берёзовце, здесь не было, но всё же, за целый день ребята набирали достаточно и земляники, и черники, и малины, а позднее и разных грибов.
И, пожалуй, самым главным было то, что ребята целыми днями находились в лесу, наслаждались неповторимыми лесными запахами и заслушивались весёлым птичьим гомоном. Возвращались они усталые, загорелые, иногда с порванными штанишками и рубашонками, но радостные и довольные.
Иногда к мальчишкам присоединялась и Поля – мастерица по собиранию грибов, почти всегда возвращавшаяся с полной корзинкой.
После таких прогулок Боря засыпал, не успев даже помыться и поужинать. Мария Александровна, хотя и пробирала его за неряшливость и разгильдяйство, здоровому виду и постоянно хорошему настроению внука радовалась.
А между тем положение с питанием в Темникове становилось всё хуже и хуже. На одних ягодах и грибах не проживёшь, а самые необходимые продукты: хлеб, масло, сахар, мясо – не только с каждым днём поднимались в цене, но часто и вовсе не появлялись в продаже. Стало совсем плохо и с деньгами. Жалование педагогам, правда, увеличивали, но, во-первых, оно не могло угнаться за непрерывным ростом цен, а во-вторых, выдача его стала производиться так нерегулярно, что никто из людей, живших только на жалование, а Мария Александровна Пигута принадлежала именно к таким, не мог ничего заранее предусмотреть.
У земства чаще всего не было средств, а все побочные доходы, которыми ранее питалась женская гимназия от Новосильцевой, с её отъездом прекратились. И если бы не помощь Стасевичей, то Марии Александровне с маленькими внуками пришлось бы совсем плохо. Правда, иногда приходили переводы и от Дмитрия Болеславовича, который считал себя обязанным помогать матери содержать Борю.
К концу лета в обращении появились новые деньги – маленькие, почти квадратные бумажки зелёного и коричневого цвета с каким-то ободранным орлом посередине и цифрами по бокам 40 и 20 руб., но купить на них можно было меньше, чем раньше на рубль. Назывались эти деньги «керенки», по фамилии нового главы Временного правительства, портреты которого были повешены в здании управы и учебных заведениях.
Висевшие раньше царские портреты печатались в цвете, изображали царя и членов его семьи какими-то величественными, невольно вызывавшими если не почтение, то какой-то страх перед их могуществом, почерпнутый ещё из детских сказок, где царь всегда олицетворял силу и власть. Портреты были большого размера и помещались в красивых рамах.
Портреты же Керенского, напечатанные тусклой серой краской, гораздо меньшего размера, помещённые поверх больших тёмных квадратов, оставшихся после снятия царских, выглядели несолидно, нелепо и даже удручающе.
И Боря, и его друзья в политике не разбирались, но придя в гимназию и увидев эти портреты, делясь впечатлениями, говорили:
– Какой-то он ненастоящий. Одно слово – временный…
В этом году занятия в гимназии начались как-то незаметно, буднично. Боря пошёл во второй класс. Раньше с этого класса начинались латынь и французский язык. В этом году вопрос с латынью оставался неясен, и её пока не преподавали, так что у второклассников появился только один новый предмет – французский язык.
Благодаря тому, что Алёшкин занимался этим языком дома с бабусей ещё до поступления в гимназию, для него уроки французского не представляли трудности, во всяком случае, начальные, и учительница им оставалась довольна.
Кстати сказать, учительница французского языка была единственным преподавателем женского пола в мужской гимназии. Эта тоненькая изящная женщина получила, как и все учителя, своё прозвище, её дразнили «мамзель-стреказель бараньи ножки». Придумали это прозвание великовозрастные гимназисты вроде Тюрина, доставлявшие ей своими знаниями и в особенности поведением немало хлопот и огорчений.







