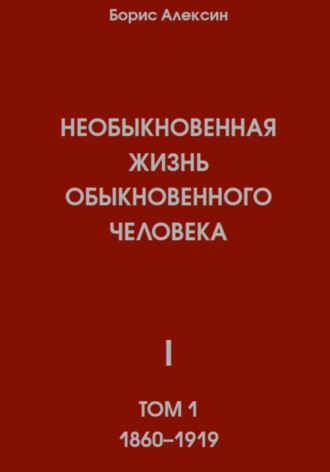
Борис Яковлевич Алексин
Необыкновенная жизнь обыкновенного человека. Книга 1. Том 1
Посидев в молчании минут десять, почти не слыша и не слушая то, что рассказывал Николай Геннадиевич о своей поездке в Николо-Берёзовец, Мария Александровна всё-таки не выдержала:
– Саша, ну я пойду к Боре, где он?
– Ну, хорошо, пойдёшь, – сказал Александр Александрович, видя, что дальше удерживать сестру уже просто невозможно. Он позвонил и обратился к вошедшему камердинеру:
– Жан (он так по старинной барской манере звал своего старого слугу Ивана), вы всё сделали, что я велел?
– Так точно, Ваше превосходительство.
– А мальчик как?
– Недавно встали-с, позавтракали. Был парикмахер-с. Сейчас они книжку читают, а на игрушки и не смотрят-с.
– Проводи к нему сестру.
Камердинер склонился перед Марией Александровной:
– Пожалуйте, Ваше превосходительство.
Как ни протестовала Мария Александровна, по приезде к брату слуги в доме продолжали и её величать превосходительством. Она в конце концов смирилась с этим, рассудив, что в чужой монастырь со своим уставом не ходят, и хотя такое обращение её и коробило, но она его терпеливо сносила.
Мария Александровна обернулась к Мирнову и брату:
– Вы уж простите меня, я пойду. Вы, Николай Геннадиевич, не уходите, пожалуйста. Я недолго пробуду с Борей, мы поговорим, может быть, я и его приведу.
– Обязательно приведите, – сказал тот, – я с ним проститься хочу. Ведь теперь я его не скоро увижу. Сегодня меня батальонный еле-еле отпустил, да и то, наверно, потому, что завтра мы в действующую армию направляемся. А я к Боре привык, как к своему сыну, и он мне дорог.
Не думал тогда Николай Геннадиевич Мирнов, что не только не скоро встретится со своим пасынком, а что ему вообще уже не будет суждено увидеть ни его, ни вообще кого-нибудь из находившихся в комнате. Но ведь никто на свете не может знать наперёд даже на несколько мгновений, что с ним может случиться, хотя иногда и планирует свою жизнь на годы.
Боря проснулся поздно. Давно уж он не спал в такой мягкой и чистой постели. В больнице, где он провёл последние два месяца, кровать была жёсткой, тюфяк был набит соломой, больно коловшейся через серую грубую простыню. Одеяло тоже было колючим и жёстким – это было простое, так называемое солдатское суконное одеяло. А дома, когда приехала новая бабушка, она велела связать всё белье в узлы и обшить эти узлы мешками, так что спать пришлось без простыней и наволочек. В дороге, в вагонах он спал и вовсе на жёсткой деревянной скамейке, а укрывался папиной солдатской шинелью. А тут, на большой широкой кровати поверх позванивающего пружинами матраса была постлана мягкая перина, в головах лежали две большущие подушки, белая простыня укрывала перину, а на подушки были надеты такие же белые наволочки. Поверх простыней лежало мягкое пушистое одеяло.
Перед сном дядя Иван, так звали этого высокого седого человека, первым встретившего Борю в квартире странного дедушки, искупал Борю в большой каменной ванне и вытер большим мохнатым полотенцем. После этого купания и всех перенесённых волнений Боря спал как убитый.
Когда он открыл глаза, в комнате было совсем светло. Дядя Иван открывал толстые плотные занавески, которыми были завешены окна, и сквозь их большие стёкла на пол, стол и стену падали весёлые солнечные зайчики. И у мальчика вдруг стало так радостно и светло на душе, как будто бы пришёл какой-то большой-большой праздник…
– Ну, Боренька, вставай, выспался. Пора умываться и одеваться. Сейчас я принесу завтрак. Вставай-вставай, нечего валяться, – ласково, но в то же время и повелительно произнёс Иван, выходя из комнаты.
Гость быстро вскочил с постели и стал искать свою одежду.
– А где же мои штаны? – громко спросил он.
– Вот, всё на стуле, – ответил находящийся в дверях слуга.
– Но это не моё, – возразил Боря.
– Теперь это твоё. Всё это я купил по приказу дедушки, а то твоё старое в дороге, наверно, испачкалось и порвалось. Твоё это всё, твоё! Одевайся скорее, я пойду за завтраком. А то может тебя дедушка позвать, а ты ещё не одет…
Боря не стал ожидать нового приказания: быстро надел чистую новую рубашку, лифчик с резинками, пристегнул ими чулки, затем беленькие штаники и поверх них ещё чёрные шерстяные, хотя тоже короткие, штаны, но с пояском. Затем он надел высокие чёрные ботинки со множеством пуговиц.
Когда Боря, кряхтя и сопя, старательно застёгивал все эти пуговицы, в комнату вошёл Иван с большим подносом в руках. А на подносе стояла большая чашка какао, вареное яйцо в рюмке, ломоть белого хлеба, намазанный маслом, рядом на тарелочке лежало несколько ломтиков сыра, а на другой тарелочке лежала большая сдобная плюшка.
Пока Иван поливал из кувшина на руки тёплую воду и Боря торопливо мыл их и возможно меньшую часть лица, он всё время с вожделением поглядывал на стол, где Иван расставил принесённые яства. Давно уже мальчик не ел таких вкусных вещей.
В Николо-Берёзовце последнее время Ксюше приходилось экономить, и на завтрак часто, кроме чая с молоком, ломтя хлеба и пары варёных картошек с постным маслом и солёным огурцом, не было ничего.
Умывшись, он сел за стол и мигом проглотил принесённую еду. Затем, бегло осмотрев находившиеся в углу комнаты на ковре игрушки, наверно, тоже принесённые дядей Иваном, пока он спал, подошёл к стоявшей тут же четырёхугольной корзинке. Это была его корзинка – большая, с крышкой и даже петелькой для замка. Правда, замка в ней не было, вместо него была воткнута просто палочка. Такая же корзинка была и у Славы. Перед отъездом из Берёзовца папа купил им эти корзинки, а Ксюша уложила в них вещи: бельё и одежду. Только вещей было совсем немного, так что вполне осталось место и для их любимых предметов, которые они со Славой и постарались запихнуть. Слава положил старого плюшевого медведя и жестяной поломанный паровоз, а Боря – свои учебники, тетрадки, кое-какие книги и, конечно, прежде всего, «Нового швейцарского Робинзона» и «Принца и нищего».
Открыв корзину, Боря достал истрёпанного «Принца и нищего», улёгся на ковёр и стал перечитывать самое любимое место книги. Это был тот эпизод, когда нищий, ставший принцем, находит настоящего принца, приводит его во дворец и отдаёт ему большую королевскую печать.
Он так увлёкся чтением, что не заметил, как Иван убрал посуду и вышел из комнаты. Не заметил он и того, как в комнату вошла Мария Александровна Пигута. Она постояла несколько минут в дверях, наблюдая за мальчиком, затем, видя, что он её не замечает, подошла своими быстрыми неслышными шагами к нему и произнесла:
– Боря, здравствуй!
Он поднял голову: перед ним стояла бабуся. Правда, она почему-то стала значительно ниже ростом и вообще как-то меньше, но это была бабуся, его бабуся, о встрече с которой он столько мечтал! «Ну прямо как в сказке…»
– Бабуся, милая моя бабуся! – крикнул он и, вскочив, бросился к ней на шею. – Бабуся, ты приехала? Теперь мы поедем в Темников? А Женя там? А Юра тоже там? А когда мы поедем, скоро? – забросал он вопросами плачущую от радости и волнения старушку, в изнеможении опустившуюся в стоявшее поблизости кресло.
Она не могла вымолвить ни слова, а только обнимала внука, гладила его по голове и прижимала к своей вздрагивающей от сдерживаемых рыданий груди.
Наконец, она немного пришла в себя и, вытирая слёзы радости, продолжавшие струиться по её морщинистым щекам, стала говорить:
– Да подожди ты немного, оглашенный! Дай хоть в себя прийти! Поедем, поедем в Темников, завтра же поедем. Перестань прыгать и не кричи, – остановила она Борю, который, услышав долгожданный ответ, запрыгал по комнате, как дикарь, размахивая руками и крича:
– Поедем! Поедем! Ура! В Темников, в Темников!
И как ни слаб был ещё ребёнок после перенесённых болезней, его радость была так велика, что бабуся еле сумела успокоить расходившегося внука. Да и то, этому помогло лишь упоминание о том, что внизу их дожидаются дедушка и папа.
Через несколько минут бабуся с мокрыми от слёз глазами, счастливым и радостным лицом, вместе с млеющим от радости и восторга Борей спустились в гостиную. Мальчик подбежал к папе и поцеловал его, затем вежливо поздоровался с дедушкой, протянул ему руку и серьёзно сказал:
– С добрым утром, дедушка. Спасибо за какао, я его очень люблю, – затем, помолчав немного, добавил: – И за бабусю тоже спасибо.
Взрослые рассмеялись, а Боря смутился и немного обиделся. Он понял, что сделал или сказал что-то не так. Он подошёл к отчиму и, прижавшись к нему, обиженно посмотрел на всех. Тот погладил его по голове и, поняв состояние мальчика, сказал:
– Всё правильно, сынок, правильно! Спасибо дедушке за всё, большое спасибо!
Боря повеселел.
– Теперь слушай, – продолжал Николай Геннадиевич, – мне опять в казарму надо, а там и на войну поеду, так что мы не скоро увидимся. Тебе придётся у бабушки пожить, ладно?
– Ладно, – ответил серьёзно Боря, – поживу. Ведь мне учиться надо, а то бы я с тобой лучше на войну пошёл…
После того как Мирнов, распрощавшись со всеми, ушёл, Мария Александровна, отправив внука наверх, обратилась к брату:
– Спасибо тебе, Саша, за приют, за ласку, за заботы обо мне и Боре. Теперь меня ничто уже не удерживает, и я должна как можно скорее вернуться домой. Я хочу ехать завтра же. Пожалуйста, распорядись насчёт железнодорожных билетов и лошадей.
Напрасно Александр Александрович пытался уговорить сестру погостить у него ещё немного, теперь уже вместе с Борей, которому лишний отдых перед дорогой не помешает, Мария Александровна была непреклонна.
Мы знаем, что уж если она что-либо решила, то отменить её решение было невозможно, знал это и брат, поэтому он перестал настаивать. А она, ещё раз поблагодарив брата за его заботы и хлопоты, подтвердила, что её присутствие в Темникове совершенно необходимо, тем более что ей ещё придётся на некоторое время задержаться в Москве, чтобы снова провериться самой и показать Борю хорошему детскому специалисту. Кроме того, необходимо успеть приехать в Торбеево до распутицы и разлива Мокши, иначе там можно застрять надолго.
В этот же день вечером она послала письмо своему сыну.
«13 марта 1916 г., воскресенье.
Милый мой Митя! Пишу только несколько слов, чтобы высказать, что я прекрасно себя чувствую, что здорова, по крайней мере, настолько же, как была при отъезде из Темникова в ночь на 1 января 1916 года, нет, ещё здоровее и сильнее.
Последний месяц моего пребывания в Москве (после того, как я встала с постели), проведённый в полном отдыхе и при хорошем режиме и питании, послужил к большой пользе для меня: я чувствую себя здоровой и бодрой. По приезде в Темников начну принимать отвар молока с овсом и впрыскивание мышьяка, как советует Гаусманн. Ещё он предписал мне ежедневно висмут, белладонну и известковую воду в молоко, а также вегетарианский стол. Впрочем, я ещё буду у него перед отъездом (во вторник) и хорошенько выспрошу его. Но из всех его предписаний буду следовать лишь тому, что одобрит Я. Вл. Стасевич; особенно боюсь я известковой воды, как способствующей накоплению извести в организме под старость, когда и без того её отложения нежелательны.
Боря мне не совсем нравится по состоянию здоровья, скарлатина оставила нежелательные следы: он нетвёрд на ногах, из ушей у него течь. Придётся его полечить. В этом мне очень поможет Полинин внук Миша, я очень жалею, что раньше его не отыскала: за последнее время он мне много помогал, всюду меня сопровождал и выручал. Да и профессоров университета знает очень хорошо даже на медфаке (он естественник 3-го курса). Если это окажется необходимым для Бори, то придётся денька на два лишних задержаться в Москве, хотя очень страшит меня состояние дороги: теперь для езды на лошадях каждый день дорог.
Милый Митя, может быть, тебе не удастся вырваться до моего отъезда из Москвы, тем более что особенной необходимости в этом нет. Если тебе неудобно, то не старайся приехать для прощания со мной. Проводят меня и усадят на поезд племянница и Миша. А с тобой мы много говорили, и последние события в нашей семье, по-видимому, ещё больше сблизили нас с тобой духовно. По крайней мере, для меня ты стал ещё ближе и милее, чем когда-либо прежде.
Обнимаю тебя от всего сердца и желаю, чтобы сын твой когда-нибудь доставил тебе столько же радости и утешения; поцелуй его за меня. Мама».
Во вторник 16 марта 1916 года Мария Александровна и Боря были в Москве. Она опять остановилась у Варвары Павловны Шиповой. Борю показала самому лучшему детскому врачу того времени – доктору Киселю. Советы последнего впоследствии бабуся неукоснительно исполняла.
О том, как Мария Александровна с Борей провели это время в Москве и как добрались до Темникова, очень хорошо описано в одном из следующих её писем, также адресованных Дмитрию Болеславовичу Пигуте. Выдержки из этого письма показывают и сложность путешествия того времени, и то, как скрупулёзно она вынуждена была рассчитывать свои расходы на лечение, а также и то, как дорого это лечение обходилось.
В письме от 26 марта 1916 года она пишет:
«Милый Митя!
<…> Очень грустно было, что не было меня у постели умирающей Нины, и меня утешала мысль, что она всё же не осталась среди чужих, равнодушных людей, что близ неё был ты. <…> Ты так много отдал своих сил и времени в это тяжёлое время, когда в твоей семье тоже были важные события, требовавшие твоего присутствия. <…>
Своей поездкой во Владимир очень довольна: очень рада была навестить брата, послушать его игру, а также очень было хорошо, что я сама приехала за бедным Борей; это облегчило его разлуку с отчимом, к которому он, по-видимому, очень привязан, и вообще, его вступление в новую жизнь, которое его страшило и подавляло. Вообще, очень жалко было его: видно, что он много настрадался за эти два с половиной месяца. <…>
В Москве Боря ходил с нами за покупками: обувь и пр., игрушки и был с Мишей в зоолог. саду, но вечером накануне отъезда напугал нас: вдруг температура поднялась до 38,8. Я дала ему касторки, и утром он встал бодрый и здоровый, так что я повезла его без особенной тревоги, хотя опасалась путешествия на лошадях по такой дороге: где рыхлый снег, где голая земля, а где и вода под санями; однако лошади и опытный ямщик выручили, мы доехали благополучно. <…>
У Бориса в течение первой недели замечалось повышение температуры по вечерам и ночью; он пьёт боржом, рыбий жир (в Москве Миша мне устроил приём у детского врача доктора Киселя) и два раза в неделю принимает тёплые ванны.
С Женей они подружились с первого дня, прекрасно ладят и играют вместе. Оба любят читать, рисовать, клеить, но и в игрушки не прочь; видится часто с Володей Армашем, Юрочкой Стасевичем и др.
Боря, по-моему, лучше выглядит, ко мне очень ласков; после Пасхи возобновит уроки до наступления каникул. <…>
Теперь о моём здоровье. По совету Гаусманна я всё ещё сижу почти без мяса, пью боржом, на днях начинаю впрыскивание мышьяка, пью молоко, прокипячённое на овсе, но перестала принимать ежедневно висмут и белладонну (как велел Гаусманн), так как с самого выхода из Цандеровского у меня ни разу не было ни малейших болей, и вообще я чувствую себя прекрасно, хотя вынуждена утомляться: без меня дела очень запущены.
В Цандеровском поблагодарила всех и расплатилась. С меня взяли 40 рублей за четыре снимка и по семь рублей за 11 дней жизни у них (за вычетом тех 25 рублей, которые ты внёс раньше), всего я лично заплатила 92 руб. Гаусманну. При расставании я вручила конверт с вложением 30 руб. (как советовала Околова), он взял. В Москве в сопровождении ездила на кладбище, отвезла венок, тем более что не была уверена, что венок уже есть. Какое поэтическое место могилы! Какой чудный вид оттуда, только, пожалуй, смоет с этого склона вскоре и кресты, и холмики. Надо бы весною побывать и приказать обложить дёрном. <…>
Боря частенько вспоминает «папу» (Н. Г.), всё ждёт от него письма и сам ему писал уже два раза. Меня удивляет, что он ни разу не спросил о матери, не спрашивал меня, где она, как её здоровье, можно ли ей писать… Думаю, что он что-нибудь подозревает. Вот окрепнет ещё, и придётся ему сказать. А об Алёшкине я ему сказала. Дорогой в одном из разговоров я его спросила, как его фамилия, он сказал, Алёшкин. Я спросила фамилию Н. Г. – он говорит, Мирнов. Тут я ему и сказала, что у мамы был первый муж Алёшкин, который уехал далеко-далеко, а Боря сказал, что он помнит, как тот привёз ему барабан. И это правда, Алёшкин привозил ему барабан. <…>
В Вербное воскресенье от Стасевичей за мною пришлют лошадь, заберу с собой детей и поеду, поговорю хорошенько с Яниной Владимировной, вероятно, попрошу денька два, отдохну от дел. Напиши о себе, о своём мальчике. Обнимаю тебя крепко и иду спать. Мама».
Глава двенадцатая
Так перевернулась ещё одна страница жизни Бориса Алёшкина, перевернулась с тем, чтобы никогда больше не повториться. Многих из тех людей, с которыми он встречался, уже нет.
Кратковременное пребывание в Москве в этот период в его памяти сохранилось очень плохо. Он, очевидно, был слаб и, по всей вероятности, ещё и болен. Огромное количество новых людей и впечатлений, новая обстановка, внезапно окружившая его, – всё это представлялось ему каким-то нереальным, как бы окутанным каким-то сумраком, какой-то волшебной дымкой.
Ни посещение доктора Киселя, ни прогулка по зоологическому саду, ни последующая поездка по Москве и в поезде следов в Бориной памяти не оставили. Его воспоминания из этой поездки и дороги в Темников сохранили такой вид.
Лес сменяет поля, поля сменяют лес, всё под снегом. Они с бабусей, укутанные в большой тёплый тулуп, сидят в широких санях. Перед ними такой же большой тулуп, перетянутый посередине красным матерчатым кушаком, в этом тулупе ямщик. Лица его мальчик не помнил, а может, так и не видел. Зато хорошо запомнил большие серые валенки с красными разводами вверху, таких валенок он раньше никогда не видел. Запомнился ему и длинный кнут, которым ямщик погонял лошадей. Этот кнут свисал с руки ямщика и скользил длинной змейкой по снегу за санями. Дорога была очень узкой, её окружали высокие сугробы снега, поэтому здесь зимой ездили на тройках, но не так, как мальчик видел до сих пор, а цугом, или, как здесь говорили, гуськом: в оглобли впрягался коренник, впереди него в постромках шла пристяжная, а впереди неё – вторая пристяжная, тоже в постромках. Чтобы управлять такой тройкой, нужно было быть очень искусным кучером и, конечно, был нужен такой длинный кнут, который бы доставал до передней пристяжной, или, как её называли, выносной.
Уже началась весна: дорога подтаяла, почернела, местами в ложбинах и оврагах, которых на пути попадалось много, её пересекали огромные лужи – к счастью, не настолько глубокие, чтобы залить сани, чего бабуся боялась больше всего, опасаясь, что, промокнув, внук простудится и опять заболеет.
Запомнил он и тёмную прокопчённую избу. Посредине её – большой стол, вокруг него – широкие лавки из толстых досок. На одной из них сидят они с бабусей и пьют горячий чай с мёдом и вкусными горячими блинами, испечёнными из пшённой муки. Он даже не знал до сих пор, что из пшена, кроме каши, можно делать муку и печь вкусные блины.
Женщина, наливавшая им чай и подававшая блины, одета в какой-то странный, не виданный им до этого наряд: короткую белую холщовую рубаху с вышитыми воротом, рукавами и подолом, из-под рубахи выступали длинные, такие же холщовые штаны, обмотанные снизу толстыми шерстяными онучами, переплетёнными сверху длинными бечёвками, удерживающими новенькие, чуть поскрипывающие лапти. На голове у женщины какая-то рогатая повязка из красной материи, а на шее множество стеклянных бус и ожерелий из мелких серебряных монет (позднее он узнал, что так одеваются женщины-мордвинки). Эта изба – ямская станция в селе Атюрево.
* * *
Где-то в самой глубине Бориной памяти сохранилось представление о виде темниковской бабусиной квартиры, в которой он когда-то жил, и он был очень разочарован, увидев, что квартира эта вовсе не так велика, а комнаты вовсе не так высоки, как это ему представлялось раньше. И двор, прежде казавшийся ему необозримым пространством, тоже уж не так велик и не больше того больничного двора, какой был в Николо-Берёзовце. Одним словом, всё стало выглядеть меньше, проще и, пожалуй, скучнее.
Да даже такая, в сущности, маленькая разница в возрасте, какая была у Бори с момента его выезда из Темникова и возвращения туда, уже принесла своё разочарование, что же будет дальше?..
Итак, Борис Алёшкин приехал в Темников 18 марта 1916 года, и его жизнь потекла по новому руслу. В последние полгода в Николо-Берёзовце он был, в сущности, полностью предоставлен самому себе. Никто не интересовался его успехами в школе, никто не заботился о его одежде, о его здоровье, кроме разве что Ксюши, но её заботы не могли, конечно, ни в какое сравнение идти с теми, которые сразу же охватили его в Темникове, где особенно первое время он не мог без опеки и помощи даже и вздохнуть. По его мнению, этих забот было гораздо больше, чем нужно, и он при первом же удобном случае пытался от них сбежать. Один раз такая попытка к бегству окончилась довольно плохо.
Боря ещё не окреп как следует после перенесённых болезней, и поэтому ему запрещалось уходить со двора. Но как удержишься, когда ребята, дети служащих гимназии, жившие в этом же дворе, носятся по окрестностям города и рассказывают, какие красивые водопады бегут сейчас по окружающим оврагам?
Однажды Боря улизнул-таки с ними и с увлечением лазил по оврагам, пуская в гремящих вешней водой ручьях сделанные из дощечек корабли. Пока его хватились и начали разыскивать, он успел не только основательно выпачкаться и промочить ноги, но, видимо, надышавшись свежего весеннего воздуха и стараясь не отстать от носившихся взад и вперёд ребятишек, так переутомился, что, перескакивая через один из ручьёв, быстро поднимаясь по крутому склону оврага, потерял сознание и скатился вниз, к счастью, не упав в воду. Когда ребятишки увидели его лежащим неподвижно, они испугались и помчались домой. Встретив по дороге Полю, искавшую мальчика, ребята рассказали ей о том, что случилось с Борей, чем перепугали и её. А он пришёл в себя, выбрался по крутой стенке оврага наверх и, не найдя своих товарищей, медленно брёл к городу, тут его и встретила Поля.
Приведя мальчишку домой, она обо всём рассказала бабусе, которая, в свою очередь, тоже встревожилась, особенно когда померив температуру внука, увидела, что она повышена. Как всегда в таких случаях, бабуся применила своё излюбленное лекарство: дала Боре полную столовую ложку касторки, и это было для него, пожалуй, самым страшным наказанием: касторку он ненавидел.
К радости бабуси и Бориному счастью, это происшествие никаких последствий не имело, и через несколько дней он бегал и играл во дворе как ни в чём не бывало, правда, уже убегать с ребятами больше не решался.
К хорошему привыкают быстро, и вскоре Боря так привык к заботам и ласкам, которыми его окружили, что иной жизни себе уже и не представлял.
Через месяц после приезда в Темников он был принят для продолжения учения в приготовительный класс мужской гимназии. По знаниям он вполне подходил, хотя по возрасту быть там ему было ещё и рановато. Учился Боря хорошо, чем доставлял огромное удовольствие бабусе. Огорчало её только его неумение и нежелание красиво и чисто писать.
Большое неудовольствие доставлял ей внук своим упрямством и особенно неряшливостью, которая, по её словам, у него была прямо-таки феноменальной.
Мария Александровна в совершенстве владела французским языком и два раза в неделю занималась им с внуком и внучкой. Жене эти занятия давались трудно, а мальчишка через месяц-полтора уже читал в учебнике французского языка все первые уроки, а иногда мог даже и ответить на кое-какие простые вопросы по-французски, чем очень её радовал.
Боря возобновил свою дружбу с Юрой Стасевичем и, несмотря на разницу в возрасте, очень сблизился с ним. Он стал довольно часто бывать в доме Стасевичей и встретил со стороны взрослых, знавших о его несчастии, сочувственное и дружеское внимание. Помогло сближению его с этой семьёй и следующее обстоятельство. В то время царским правительством разговор на языках, как тогда говорили инородческих, не разрешался. В центральных губерниях проживавшим там полякам, белорусам, украинцам, литовцам и др. не разрешалось говорить на улицах, в школах и в других общественных местах на их родном языке, они обязаны были говорить только по-русски.
Все эти люди, жившие в русских городах, переживали это тяжело, особенно те, которые были настроены националистически, а Стасевичи были именно такими. И если, стремясь избежать неприятностей, вне дома они говорили по-русски, то дома, чтобы не забыть польский язык, говорили только по-польски. Ещё совсем маленьким бывая у Стасевичей, часто и постоянно слыша польскую речь, мальчик, видимо, имея склонность к лингвистике, освоился с этим языком. Теперь, услышав снова польский язык, он обнаружил, что понимает всё, о чём говорят между собой Стасевичи. Взрослые это заметили и стали обращаться по-польски не только к своему сыну, но и к его дружку, а когда тот выполнял их требования или отвечал им на вопросы хотя и по-русски, но показывая ответом, что вопрос он понимает, это им очень нравилось. Он, вероятно, мог бы и сам говорить по-польски, но почему-то стеснялся.
Вскоре Боря познакомился и с сыном Маргариты Макаровны Армаш – Володей. Тот был ровесником Жени, очень часто болел и почти всегда или кашлял, или чихал, или был укутан каким-нибудь платком. Его мать, не чаявшая в нём души, окружала его такими заботами, таким наблюдением, что, как говорили, старалась не дать сесть на него и пушинке. Боря же привык к шумным играм, к относительной свободе в действиях и, если и вынужден был из-за перенесённых болезней сейчас в чём-то ограничивать себя, то мирился с этим с трудом. А у Армашей почти на каждом шагу слышалось:
– Тише, этого нельзя! Не бегайте – вспотеете! Не прыгайте – ушибётесь! Не кричите – охрипнете! Не стойте на ветру – простудитесь!
Это раздражало и злило непоседливого мальчишку, и он к Армашам ходил неохотно. Чрезмерные заботы о Володе, потакание многим его прихотям сделали его капризным, избалованным ребёнком, и его поведение с родителями, да и с приходившими к нему приятелями часто вызывало у Бори возмущение, а иногда и злость. Правда, впоследствии они всё-таки сумели приспособиться друг к другу и подружиться, но это произошло далеко не сразу.
Интересно посмотреть, как описывает этот период своей жизни и жизни приехавшего внука Мария Александровна Пигута. Так как в письме к своей подруге Ольге Ивановне Сперанской и вложенной в нём записке для сына она многое повторяет из тех писем, содержание которых мы уже знаем, то сейчас мы ограничимся лишь некоторыми выдержками.
Так, сыну она считает нужным повторно сообщить адрес Алёшкина, полученный ею ещё до отъезда в Москву и забытый дома: «… Сообщаю тебе адрес Алёшкина: ст. Иннокентьевская Сибирской железной дороги, 3-я школа прапорщиков, 1-я рота, 5-й взвод, обучаемому Я. М. Алёшкину».
Сперанской же пишет следующее: «…Вы правы, что мне пришлось навёрстывать потерянное время: много было запущено в делопроизводстве попечительского совета и очень много хлопот прибавилось с приездом Бори. Женя меня встретила со слезами радости и очень была рада приезду Бори, вообще, первые дни они играли очень ладно; пришлось только нанять швею и немедленно экипировать моего чужестранца. Но потом стала сказываться разница в воспитании и в поле: мальчик с очень живым и нервным темпераментом и не особенно привыкший слушаться, по первому слову соглашаться с запрещениями, начинал хныкать и даже плакать в таких случаях, когда Женю очень легко уговорить.
Вообще, он привык к самостоятельности и свободе, а доктора предписали ему довольно строгий режим после болезни и особенно запретили ему усиленные движения ногами. Сначала я оберегала его, но на днях случилось, он увлёкся беготнёй по песчаным холмам и оврагам и поплатился за это глубоким обмороком. Обморок этот случился во время его самовольной прогулки на первый день Пасхи, вчера я его продержала весь день в постели, а сегодня ещё не выпускаю на воздух, чтобы не подвергать его соблазну бегать. <…> Сама я чувствую себя вполне хорошо, то есть у меня ни разу ничего не болело, хотя утомляться приходилось волей-неволей. <…> Учение у нас продлится до 25 мая, экзаменов не будет, но педагогам придётся очень трудно, так как, кроме занятий, придётся проводить экскурсии…»
Рассказывая о внуке, Мария Александровна в описании его характера и поведения на новом месте и в новой обстановке не раз упоминает о его привычке к самостоятельности и строптивости, и тем не менее все её слова о нём проникнуты большой теплотой и любовью.
Переписка с сыном через знакомых явилась следствием тех ненормальных отношений, которые сложились между свекровью и невесткой, и, судя беспристрастно, надо признать, что виноваты в этом были они обе, а пожалуй, больше всех сын-муж, невольно ссоривший их.
«19/IV 1916 г.
Милый Митя, ты пишешь, что будешь в Москве и просишь написать в Москву. Не понимаю, как это будет, раз упомянутое твоё письмо, я получила лишь 17 апреля. Во всяком случае, делаю попытку писать в Москву на почтамт, до востребования.
Адрес Я. М. Алёшкина я уже послала в Кинешму в письме О. И. Сперанской, так как спохватилась, что кажется, забыла его раньше. Этот адрес годен лишь до первого мая, а письмо идёт туда дней десять, а дальше я не знаю, как ему писать. Недавно я получила от него письмо, он пишет, что исполнит всё по твоему указанию о высылке тебе доверенности на получение Нининого пенсионного капитала, а также другого документа по поводу усыновления детей Мирновым; эту другую бумагу он выслал на имя моего брата А. А. Шипова, как ему было указано.
К первому мая Алёшкин выйдет в прапорщики, устроит свои дела с женитьбой, а в дальнейшем не знает сам, где будет. Ожидает, что его опять пошлют на позиции, хочет заехать ко мне повидаться и поглядеть на Борю. Он упоминает, что ты выражал желание его видеть, и он со своей стороны очень хотел бы этого, но он не знает, где ты живёшь, живёшь ли ты в Костроме (в доме Охотникова) и застанет ли он тебя дома. <…>
Спасибо за вести о себе и о мальчике. Недавно мы были у Стасевичей, глядела я на их дочку (она родилась в декабре) и думала, что и твой сынок напоминает этого ребёнка, особенно по степени развития интеллекта; девочка у них славная.
Очень рада узнать, что ты поехал на съезд в Питер; знаю, как тебя это интересует. Вероятно, увидишь Лёлю или даже Рагозиных. <…>







