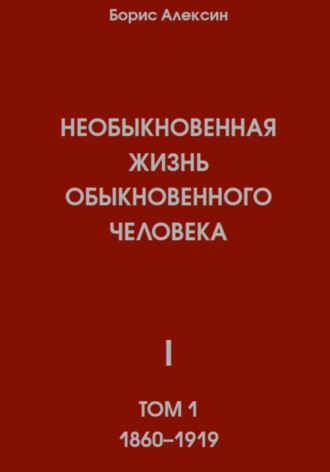
Борис Яковлевич Алексин
Необыкновенная жизнь обыкновенного человека. Книга 1. Том 1
Сообщала Мария Александровна сыну и о том, что Нина после родов уедет на работу в Солигаличский уезд, куда ранее был переведён её муж. Закончила письмо она просьбой заменить её и поехать в Плёс, чтобы побыть там, пока Нина будет находиться в больнице. Сама же она обещала навестить всех их летом.
* * *
В это время у Елены Болеславовны возникали свои проблемы. Вернувшись в Петербург, сойдясь с Ванечкой, она как будто обрела семейную жизнь. Но это только как будто. На самом деле Ванечка, побыв некоторое время свободным, завёл так много приятельниц и друзей, что просто не знал, как разделить между всеми ними своё время. Он часто не ночевал дома, возвращался пьяный. Происходили бурные ссоры, кончавшиеся уходом Ванечки из дома. Через несколько дней, чаще всего, когда у него кончались деньги, он появлялся вновь, а Елена, видимо, совершенно потеряв голову, безропотно его принимала. Всё начиналось сначала.
Обо всём этом, хотя, может быть, и не совсем подробно, Мария Александровна знала из писем своего брата, вынужденного по долгу службы бывать в Петербурге и обязательно навещавшего Лёлю, а иногда и помогавшего ей деньгами, в которых она постоянной нуждалась.
Брат Марии Александровны, Александр Александрович Шипов, как мы уже говорили, был управляющим Государственным казначейством Российской империи. Пост по тому времени весьма высокий и, как с гордостью говорила Мария Александровна, показывая его подпись (факсимиле) на кредитных билетах, полученный им не какими-нибудь окольными путями или связями в высшем обществе, а исключительно благодаря своим способностям и большому трудолюбию.
Так или иначе в своих письмах Шипов упрекал Лёлю за её неразумное поведение и слепую страсть к беспутному Ванечке, который, по его мнению, и гроша ломаного не стоит. Он советовал сестре принять какие-либо меры. Мария Александровна с горечью читала эти письма, а сделать ничего не могла.
В конце сентября 1914 г. Ванечку взяли в армию. При помощи торговых связей отца его зачислили в один из интендантских отделов, находившихся в Петрограде (так тогда начали называть Петербург), и он надеялся, что война пройдёт не только стороной, но даже и поможет ему улучшить финансовое положение. Находясь в одном из главных интендантских управлений русской армии, Ванечка не столько служил Отечеству, сколько помогал своему папаше провёртывать всякие торговые махинации с интендантством.
В результате этой службы у него вновь стали водиться порядочные деньги, которые он, как и раньше, безудержно транжирил. Обычно, когда Ванечка богател, он под первым же предлогом старался рассориться с Еленой Болеславовной и на свободе как следует покутить. Так было и в этот раз. Устроив в каком-то загородном ресторане грандиозный кутёж, конечно, с цыганами и различными дамами самого сомнительного поведения и положения, он пьянствовал вместе со своим интендантским начальством и несколько дней не появлялся дома. После ссоры, происшедшей по этому поводу с Еленой, он опять ушёл от неё, заявив при этом, что это уже навсегда.
Расстроенная Елена Болеславовна решила съездить к матери, чтобы немного рассеяться и посмотреть на свою дочь, которую она не видела уже около трёх лет.
23 декабря 1914 года совершенно неожиданно она появилась в Темникове. Матери Елена Болеславовна сказала, что у неё с Ванечкой всё кончено, что она приехала в отпуск на две недели и что весной она заберёт Женю к себе, так как решила теперь всю свою жизнь посвятить воспитанию дочери.
Сказано это было с присущей Лёле театральностью в голосе и манерах. А её восторженные ласки к Жене были просто неестественны. Девочка при первом же удобном случае сбежала в детскую, чтобы показать няне Марье новую куклу, привезённую матерью, а Марию Александровну слова дочери хоть и покоробили своей вычурностью, но всё же обрадовали. Она не преминула поделиться своей радостью с сыном: «…Вчера сюда приехала Лёля, – писала она 24 декабря 1914 года, – но только на две недели. Она мне показалась гораздо лучше и разумнее на этот раз, мне кажется, что её угар проходит, и она начинает сознавать, что не устроится семейство с Ванечкой. Это очень важно, чтобы ослепление это соскочило, и тогда явится совершенно другое отношение к жизни и ко всему…»
В Темникове Елена Болеславовна пробыла всего неделю, несмотря ни на что, она тосковала по Ванечке, а он больше не появлялся. Елена хотя и обещала матери, что больше с ним видеться не будет, уже через месяц после приезда в Петроград отправилась в учреждение, где он служил, чтобы навести о нём справки. Там ей бесстрастно сообщили, что её Ваня во время командировки с партией имущества в одну из действующих армий попал под случайный артиллерийский обстрел и был убит.
Получив это известие, Елена была так поражена горем, что заболела и пришла в себя только в больнице, куда её поместили сердобольные соседи по квартире. Через несколько дней она поправилась, но горе это так на неё повлияло, что в свои 37 лет она выглядела старухой. Главное, что её убивало, это то, что в гибели Вани она винила себя. Она писала: «…Ванечка назло мне напросился в эту командировку, если бы я не уехала из Петрограда, я бы удержала его, и он был бы жив… Во всём виновата я одна!..»
Так в этом убеждении и осталась эта несчастная женщина на всю свою жизнь и теперь всю свою любовь перенесла на дочь – его дочь, забывая о том, что он не хотел эту дочь даже видеть.
Глава седьмая
Санитарный врач Пигута все эти годы провёл в бесплодной борьбе с отцами города Медыни, которые игнорировали его и обвиняли его же во всех санитарных беспорядках, имевшихся в городе. Его требования по проведению тех или иных санитарных мероприятий, в том числе и таких, которые предотвращали прямую угрозу жизни и здоровью сотен городских жителей, но вызывали ущемление интересов какого-либо видного горожанина, встречались в штыки.
Вот в таком положении и находился санитарный врач Д. Б. Пигута. Совершенно естественно, что его постоянные стычки с начальством, постоянное возмущение со стороны тех, кого ему удавалось призвать к порядку и наказать, создавали какую-то полосу отчуждения вокруг него и его молодой жены.
У неё по этой причине не создавалось ни круга друзей, ни круга приятелей, и она жила в городе, как в монастыре. И всё-таки она терпела. Поддавшись обаянию слов своего супруга, поверив в правильность и чистоту его идей и поведения, она гордилась им и поддерживала его. Со всем пылом своей юной души она отдалась ведению своего собственного хозяйства, постоянным заботам о муже и доме.
Жалование Дмитрий Болеславович получал небольшое, но, во всяком случае, вполне достаточное для того, чтобы при умелом хозяйствовании жить если не в роскоши (когда это врачи в роскоши жили?), то всё-таки вполне обеспеченно. Но…
«Митя был очень щедр по отношению к своим родным, – писала Анюта Пигута своим родителям. – То он посылал деньги сестре Лёле, которая от них не отказывалась, а часто ещё и сама просила о помощи, то он посылал деньги другой сестре Нине, которая в письмах от них всегда отказывалась, но никогда посланных не возвращала, то он посылал деньги своей матери, которая получала гораздо больше его и, конечно, в его 10–15 рублях не нуждалась».
Единственный человек из этого семейства, кому не помогал Митя, – это отец, и он, пожалуй, был также единственным, кто хоть изредка сам помогал семье сына. Все эти рубли, пятёрки и десятки, так бездумно рассылаемые Митей родственникам, им самим очень бы пригодились. Говорила об этом Анюта и мужу, а тот, чтобы не волновать её, стал посылать деньги тайком. Раз за разом этот обман открывался и, обижая её, в то же время вызывал у Анюты озлобление по отношению к родственникам мужа.
Таким образом, вместо того чтобы сблизить жену с матерью и сёстрами, Дмитрий Болеславович своими неразумными действиями невольно отдалял их друг от друга. Постепенно, боясь, что в их письмах может опять проскользнуть какое-либо упоминание о полученных от него деньгах, он приучил всех их писать ему не домой, а на работу или даже просто на почту с пометкой «до востребования».
Анюта всё равно находила эти письма. То, что родственники мужа не пишут ему домой, она расценивала как нежелание их знаться с нею. Это возбуждало в ней ещё большее возмущение и обиду на них, в то же время усиливало её недоверие и к мужу.
Обижало Анюту, что ни свекровь, ни сёстры Дмитрия никогда не прислали ни строчки лично ей, не прислали пусть самого дешёвенького подарка к празднику и даже в своих письмах к её мужу почти не вспоминали о ней.
Болеслав Павлович Пигута, свёкор, после описанного нами случая с Еленой Болеславовной, которой он в тяжёлую для неё минуту категорически отказал в какой-либо поддержке, значительно упал во мнении Анюты. Но через некоторое время она вынуждена была признать, что он всё-таки в семье её мужа единственный человек, который относится к ней по-родственному. А произошло это так.
В начале мая 1912 года в квартире санитарного врача г. Медыни вспыхнул пожар. Он начался днём, когда дома никого не было, и только случай помог вернувшейся ранее обычного времени с базара Анюте собственными руками спасти большую часть наиболее ценных вещей. Некоторые из них всё же погибли, и среди них ружьё, когда-то подаренное Мите отцом.
Ходили по городу слухи, что пожар явился не несчастной случайностью, а злонамеренным поджогом, произведённым по подкупу одного особенно больно наказанного по представлению Д. Б. Пигуты лавочника. Однако доказать чего-либо определённого никто не мог.
На сообщение об этом тяжёлом несчастье, постигшем молодых людей, из родственников откликнулся только один Болеслав Павлович. В ответ на это сообщение он прислал очень тёплые, настоящие отцовские письма, чем очень расположил в свою пользу Анюту.
«21/V 12 г.
Дорогой мой! Всё-то у тебя нелады. Только переехал и ногу свою больную повредил. В Медыни погорел, ну да ведь дело поправимо, хорошо ещё, что пожар случился днём. У меня на днях был Коля и говорил, что ты выглядишь очень нехорошо, да и сам ты пишешь, что чувствуешь неважно, а тут ещё этот глупый пожар. Приезжайте ко мне, отдохните, доставите мне большое удовольствие.
Целую тебя крепко. Твой отец Б. Пигута».
На другом листочке этого же письма Болеслав Павлович обращался к Анюте: «Милая Нюта!
Митя писал, что ты геройски отстаивала свои вещи на пожаре. Честь тебе и слава! Только, милочка, не надо кукситься, мало ли какие бывают невзгоды, неужели сейчас уж и руки опускать! Всё, что потеряно, будет исправлено, приезжайте только ко мне и, если можно, надольше. Одного только жалею – ружья, потому что не могу забыть той радости, какую доставил Мите, выписывая его, а остальное – пустяки, всё наладим, и с нетерпением жду того момента, когда буду кушать рисовый пудинг твоего приготовления, а пока прощай, целую тебя крепко.
Твой отец Б. Пигута».
Это письмо растрогало Анюту, и она прямо заявила мужу, что его мать и сёстры – бесчувственные, чёрствые люди, и что во всей их семье только один порядочный человек – это отец. Такое заявление Анюты вызвало бурное негодование Дмитрия Болеславовича, и в семье произошёл, пожалуй, первый серьёзный скандал. Он был особенно серьёзен и потому, что Анюта не сдержалась, а одновременно с высказыванием своего мнения о матери и сёстрах упрекнула Митю и в систематическом обмане, в бесконечных посылках этим «падшим женщинам» денег, в то время как они, узнав о таком несчастье в их семье, даже слова сочувствия, уже не говоря о какой-либо помощи, не прислали.
На самом же деле Дмитрий Болеславович, оберегая покой матери и сестёр, даже не сообщил им о постигшем его несчастье, а только успокаивая жену, сказал, что сделал это. Ну и, конечно, получилось значительно хуже. Он, чувствуя себя неправым, вероятно, тоже наговорил лишнего. Одним словом, супруги основательно поссорились.
В городе продолжали циркулировать слухи о том, что врача Пигуту подожгли не зря, что ещё ему мало досталось, потому что он нос дерёт. А он на самом деле продолжал себя вести по-прежнему, не давая спуску торговцам и тем из владельцев всевозможных мастерских, которые продолжали нарушать санитарные правила.
Слухи эти дошли до ушей Дмитрия Болеславовича и Анны Николаевны, но они не придали им большого значения. Однако найти другую квартиру им очень долго не удавалось, хотя свободных в городе было много. Наконец, один из домовладельцев, соглашаясь сдать квартиру, заломил за неё несуразно высокую цену, сказав при этом:
– Господин доктор, простите великодушно, вам что – у вас жалование. Погорите, на новую квартиру переедете. А у меня, если дом сгорит, так мне побираться придётся....
Услыхав это, Анюта категорически потребовала, чтобы Митя немедленно оставил этот ужасный город и ехал устраиваться куда-нибудь в другое место, пусть даже и в худшее, лишь бы выбраться из этой проклятой Медыни. Да и сам Дмитрий Болеславович, кажется, начал понимать, что плетью обуха не перешибёшь и что из Медыни надо уезжать.
Решив для начала воспользоваться радушным приглашением Болеслава Павловича, они направились к нему. Через месяц после пожара они были уже в Рябково. Лето провели чудесно. А с осени Дмитрий Болеславович Пигута был принят на должность санитарного врача в Кинешемскую уездную управу, где затем и проработал долгое время.
Они сняли большую, светлую и удобную квартиру на 2-й Напольной улице в доме Куликова (и здесь и в других местах я называю фамилию владельца дома, потому что в то время в таких городках номеров на улицах не имелось).
Обставить квартиру помог Болеслав Павлович. Он отдал часть мебели из Рябково, в том числе и большой угловой диван. Кроме того, он дал небольшую сумму, с тем чтобы Анюта могла купить кое-что необходимое для хозяйства.
О своём переезде в Кинешму Дмитрий сообщил матери, чему та обрадовалась, считая, что сын теперь будет ближе к Нине и к Рябково.
Начавшаяся в июле 1914 года война застала семейство Дмитрия Пигуты уже акклиматизировавшимся в Кинешме. Война у них особых тревог не вызвала. Как и многие образованные люди того времени, Дмитрий Болеславович считал, что война для России – гибель, что царская Россия в этой войне обязательно потерпит поражение, так как чиновничье-бюрократический аппарат её по сравнению с 1904 годом не изменился, не улучшился, и, следовательно, всё будет обстоять так же, как и в то время. Понимал он также и то, что эта война народу, кроме дополнительных тягот и несчастья, ничего не принесёт. Но он, как и многие интеллигенты, предпочитал помалкивать или высказывать такие суждения только в кругу самых близких друзей.
Лично самому Пигуте эта война никакой угрозы не представляла. Ещё в 1904 году он, как мы знаем, был уволен из армии после полученной им контузии вчистую, и вряд ли мог быть призван теперь.
Его жена Анна Николаевна тоже не одобряла войны, но, видя в окружавших её людях патриотический подъём (а её окружал мелкий чиновничий люд, знакомые и сослуживцы её мужа, среди которых в начале войны такое настроение господствовало), пошла работать в открывшийся в городе военный госпиталь сестрой милосердия.
Очевидно, что к этому её побудило не столько стремление проявить свой патриотизм, сколько и, это было, пожалуй, главным, домашняя скука и стремление получить некоторую самостоятельность. Поступая на службу, Анна Николаевна получала материальную независимость от мужа. Её жалование, в конце концов, являлось средствами, которыми она могла распоряжаться сама.
Таким образом, с первых же дней войны сестра милосердия Пигута надела форменное серое платье, повязала белую косынку с красным крестом и окунулась в работу, которую отлично знала и любила. Дмитрий Болеславович вначале пытался протестовать, но Анюта, поддержанная и Болеславом Павловичем, и многими знакомыми, победила, и ему пришлось сдаться.
Отсутствие детей, частые ссоры из-за денег и родственников, не желавших считаться с мнением и даже просто существованием жены, никогда её не вспоминавших в своих письмах, поставило Дмитрия Болеславовича в чрезвычайно трудные условия. Он горячо любил жену, но он любил и мать, и сестёр и, не умея примирить их, а своими действиями только ожесточая друг против друга, стоял на грани развала своей семьи. К 1914 году дело дошло до того, что и мать, и Елена Болеславовна уже не писали ему совершенно на дом, а только на общих знакомых. Одной из таких знакомых была О. И. Сперанская. Только ещё одна Нина писала ему на домашний адрес, да и её письма, хоть в них и не было ничего предосудительного, он старался жене не показывать.
Конечно, сведения об этой тайной корреспонденции мужа до Анны Николаевны теми или иными путями доходили, и нервировали, и раздражали её ещё больше. Кончилось тем, что к этому времени Анна Николаевна уже откровенно ненавидела и Марию Александровну, и Елену Болеславовну, и считала, что они делают всё, чтобы отнять у неё мужа и разрушить их семью.
Когда Дмитрий Болеславович получил письмо от матери с просьбой поехать в Плёс и побыть несколько дней у постели больной Нины в связи с наступающими у неё родами, первой мыслью его было попытаться скрыть как-то от жены истинную цель поездки. Но, не придумав никакой отговорки, он решился, невзирая ни на что, сказать правду, заранее ожидая крупного скандала.
К его изумлению, никакого скандала не было, Анна Николаевна отнеслась к его сообщению совершенно спокойно и заметила:
– Если бы, Митя, ты мне всегда говорил правду о том, что ты собираешься сделать для твоих родственников, я, может быть, и не всегда была бы с тобою согласна, но вряд ли бы посмела серьёзно возражать, а когда ты скрываешь свои действия, то этим приносишь только вред и мне, и им. Во всяком случае, ссор у нас было бы меньше. Поезжай, поехала бы и я сама, да сейчас очень много раненых, и мы не справляемся.
Вот таким образом Дмитрий Болеславович Пигута очутился в январе 1915 года в Плёсе, где и встретился впервые со своими племянниками Борей и Славой.
Боря с осени 1914 года уже ходил в городскую школу, куда его приняли после долгих проволочек и придирок, ведь ему ещё не было и семи лет, а обучение в школе начиналось с восьми. Кроме того, его просто не знали куда посадить. По возрасту он был мал и для первого класса, по знаниям из арифметики и чтения вполне мог быть даже в третьем, но зато по чистописанию и церковнославянскому чтению едва-едва годился для второго класса. В конце концов, всё-таки разрешили ему ходить во второй класс.
В результате получилось так, что большая часть времени у Бори в школе была не занята. На уроках арифметики и на уроках чтения он сидел без дела. Всё, что объяснял учитель на этих уроках, Боре было знакомо, и он от скуки начинал шалить. А так как мальчик он был очень подвижный и живой, отличался к тому же способностью ко всяким выдумкам и проказам, то очень скоро приобрёл в школе славу неслуха и многие часы вынужден был проводить за доской, куда обычно отправляли учителя непоседливых шалунов. Часто пребывание там происходило и на коленях. Зато, когда учитель хотел перед каким-нибудь заезжим начальством похвастаться успехами своих учеников, то для чтения или решения какой-нибудь задачки всегда вызывал Борю Алёшкина, и тот никогда его не подводил.
Доставалось Боре и на уроках чистописания, правда, стараниями Петра Петровича, занимавшегося с ним в прошлом году, он много преуспел, но терпение его в этом довольно-таки нудном труде иссякало быстро. И если первые строчки письма были ещё более или менее удовлетворительными, то к концу страницы буквы опять начинали смотреть вкривь и вкось, а вокруг них появлялись многочисленные кляксы.
Посмотрев на Борин труд, учитель подзывал его к своему столу, приказывал положить руки на стол и отвешивал по ним несколько крепких ударов толстой линейкой. Это было больно, но мальчик терпел и почти никогда не плакал. Другое наказание ему не нравилось больше, оно заключалось в том, что учитель, отпустив весь класс домой, оставлял Борю, а иногда и других провинившихся, и заставлял их переписывать по нескольку раз все слова, в начертании букв которых находил ошибки. Часто такие повторные переписывания получались хуже первоначальных.
Несмотря на некрасивый почерк и грязь в тетрадках, Боря писал для своих лет вполне грамотно, этому помогло большое количество прочитанных им книг. Ошибок при диктантах он делал мало. Но и тут был камень преткновения, зарытый в употреблении некоторых букв, которых в нашем современном алфавите нет и о которых теперешние школьники даже понятия не имеют.
Вот эти злосчастные буквы: ер – ъ, он писался в конце всех слов, оканчивавшихся твёрдо, например, домъ, дымъ, столъ, стулъ, шаръ и др. Боря не понимал необходимости этой буквы так же, как и чистописания вообще, и потому ставить его часто забывал, чем вызывал очередное наказание.
Не понимал он и того, почему вместо е надо в некоторых словах ставить ять. В слове «здесь» – ять, а в слове «шесть» – е, в слове «нет» – ять, а в слове «не» – е, и т. д.
Непонятны были и причины, заставлявшие вместо обычных букв ф, и ставить диковинные фиту, ижицу, и десятеричное (с точкой). Правила применения этих букв зазубривались, а Борис зубрёжку ненавидел, поэтому поводов для наказаний оказывалось предостаточно. Единственное, что его спасало, так это прекрасная зрительная память, лишь благодаря ей он справлялся с правописанием, вспоминая, как то или иное слово выглядело в книжке.
С церковнославянским чтением стало легче. Впрочем, и этому помог случай. Во втором классе школы Закон Божий преподавал старенький, очень добрый и тихий священник Алексей Воздвиженский, он никого никогда не наказывал, и на его уроках дети сидели тихо. В программе второго класса изучались молитвы: «Отче наш», «Молитва перед учением», «Молитва перед едой», «Верую» и другие, обязательно читался Часослов. В большинстве школ всё это заучивалось механически, и ученики, не понимая значения заданных слов, так их перевирали, что педагоги потом только за голову хватались.
Отец Алексей не только подробно и старательно объяснял содержание молитвы и каждого произнесённого слова, но и иллюстрировал их рассказами из Священного Писания, преимущественно из Ветхого Завета, а иногда и весь урок рассказывал какую-нибудь интересную историю из жизни того или иного пророка или святого.
Такой метод преподавания приохотил к изучению этого вообще-то не очень любимого предмета и Борю, и других учеников, способствовал он и лучшему чтению на церковнославянском языке.
Боре вообще легко давалось чтение, и уже к Новому году он довольно бегло читал Евангелие, имевшееся у Ксюши, чем приводил её в умиление.
Славе шёл третий год, он был тихим, спокойным мальчиком, полной противоположностью Бори. Он очень любил старшего брата и по возвращении того из школы следовал за ним, как тень. Борис тоже полюбил братишку, жили они дружно, никогда не ссорились, и Боря, вообще-то очень непоседливый и задиристый ребёнок, заслуживший в школе репутацию не только шалуна, но и порядочного забияки, никогда не обижал своего младшего брата. Это очень радовало их мать, и она, видя такую дружбу детей, уже совсем оставила мысль о том, чтобы отправлять куда-нибудь Борю.
Нина Болеславовна, вынужденная работать очень много, так как кроме своей больницы и амбулатории ей приходилось оперировать и в военном госпитале, недавно открытом в городе, где врачей не хватало, дома днём и даже вечером почти не бывала. Николай Геннадиевич находился на военной службе. Дети оставались на попечении прислуги, а следовательно, большую часть времени проводили вдвоём. Поэтому появление нового лица – дяди Мити ребятишки восприняли очень радостно. Они быстро освоились с ним, и так как в зимние каникулы Боря целыми днями находился дома, то оба мальчика не отходили от дяди ни на шаг.
Они водили его на гору, с которой катались на санках, показывали место, где чуть не убился Слава, показывали и все другие достопримечательности Плёса. Конечно, главным рассказчиком и показчиком был Боря, Славке лишь изредка удавалось вставить какое-либо слово. Дядя привёз игрушек и сластей, и хотя в это Рождество ёлки не было, первые дни Нового 1915 года у них прошли весело. К этому же времени подоспела и посылка от бабуси – толстая большая книжка, годовой комплект журнала «Золотое детство», в ней ребята нашли много красивых картинок и интересных рассказов.
В посылке, кроме того, была и ещё одна книга, «Робинзон Крузо». Борю вначале её название разочаровало: у него уже была книга с таким названием, правда, тоненькая, а эта была большая и толстая. Когда же он рассмотрел её как следует и начал читать, он увидел, что это совсем не то. Присланная оказалась намного интереснее, и, начав её читать, Боря так и не смог оторваться, пока не закончил. Читал он, как говорила мама, запоем, поэтому и новую книгу проглотил быстро.
Прочитав один раз, начал сначала, и в течение короткого времени запомнил её почти наизусть. Его пленили мужество и находчивость Робинзона, и с тех пор надолго его любимым героем стал этот человек, а любимой игрой – игра в робинзонов.
Дети своей непосредственностью и любознательностью покорили дядю Митю. Его радовало, что ребятишки сразу признали в нём родного, близкого человека и нисколько не дичились его. В глубине души он завидовал сестре, ведь у них с Анютой детей всё ещё не было.
Чуть ли не на второй день после приезда брата Нина была отвезена в больницу, где через несколько дней и родила третьего ребёнка – дочку. Случилось это в ночь на третье (16-е нов. стиля) января 1915 года.
После родов мать почувствовала себя немного лучше, тошнота как будто уменьшилась, почти совсем прекратились и боли в животе. Все недуги, которые так досаждали ей в последние месяцы беременности, Нина относила на её счёт, а потому ничего и не сказала о них брату. Теперь её продолжала беспокоить только общая слабость, но и её она относила за счёт родов, протекавших довольно долго и тяжело.
Отпуск Дмитрия Болеславовича кончался, он должен был уезжать, а оставлять сестру с тремя детьми в очень слабом состоянии он не решался. Мирнова ни по его просьбе, ни по ходатайству Шипова со службы не отпустили, и тогда Дмитрий обратился к отцу, сообщил ему о бедственном положении Нины и просил прислать хотя бы на короткое время Дашу. Написал он и ей самой.
Болеслав Павлович, поздравляя дочь с новым ребёнком, в то же время в своём письме замечал: «И зачем ей столько детей? Война. Неизвестно, как будет обстоять дело с её вторым мужем, всё может случиться… Это легкомыслие…». – Далее он сообщал: «К сожалению, Даша приехать не сможет. Она простудилась, лежит с высокой температурой и чувствует себя очень плохо. Когда она поправится, не знаю, да думаю, что и после выздоровления она вряд ли сможет поехать. У неё большие неполадки с сердцем. Да и вообще она за последнее время сильно ослабела…»
Дмитрий, посылая отцу известие о положении сестры, между прочим, рассчитывал и на то, что если не сможет приехать Даша, то, может быть, приедет сам Болеслав Павлович, или, в крайнем случае, окажет ей какую-нибудь материальную поддержку. Но ни того, ни другого не произошло, и пришлось Мите опять помогать Нине самому. А у той положение было отчаянным: она болела около месяца, жалования или какого другого пособия, естественно, не получала, все имевшиеся средства подошли к концу, из-за своей слабости выйти на службу ранее, чем через месяц Нина Болеславовна не могла, а тут предстоял ещё и переезд в Николо-Берёзовец.
Оставив сестре имевшиеся при нём деньги и пообещав через некоторое время выслать ещё, Дмитрий Болеславович наконец выехал домой.
Сообщив о рождении дочери мужу и получив от него просьбу назвать дочь Ниной, Алёшкина крестила девочку в ближайшей церкви. Естественно, что и этот её ребёнок получил фамилию и отчество её первого, законного мужа.







