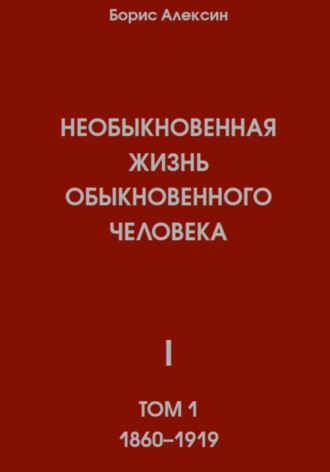
Борис Яковлевич Алексин
Необыкновенная жизнь обыкновенного человека. Книга 1. Том 1
Во-первых, в глазах всего общества дети, прижитые Николаем Геннадиевичем и Ниной Болеславовной в гражданском браке, были всё-таки незаконными, а следовательно, в какой-то степени стыдными детьми. И объяснить их появление в своей порядочной семье даже ближайшим соседям и знакомым было непросто. Ведь надо помнить, что и Слава, и Нина носили фамилию Алёшкины, поэтому родственники Мирнова, беря их к себе, как бы прикрывали незаконное, грешное и постыдное сожительство сына и племянника с чужой женой.
В то же время среди родственников и знакомых Пигуты о младших детях Нины было такое же мнение. Единственный человек, готовый без колебаний взять всех детей дочери к себе, – Мария Александровна, но она уже содержала одну внучку, и сама была довольно серьёзно больна. Оставить всех детей у своей матери Николай Геннадиевич не мог и по другой причине – материальное положение её было очень трудным (мать получала небольшую пенсию, а помощи ей ждать было не от кого).
И вот что интересно: все эти люди знали о существовании Болеслава Павловича Пигуты, знали о сравнительном материальном благополучии его, но ни у кого из них даже и не возникало намерения отвезти внуков к деду. Видно, Нина так была настроена против отца, что не только не обратилась за помощью к нему, когда в этом была необходимость для неё самой, но и сумела внушить и Николаю такое предубеждение против Болеслава Павловича, что и он при поисках места для размещения детей даже и не вспоминал об их родном деде.
Вот так и оказались разлучёнными эти ребятишки, причём братья – на всю жизнь.
В это время в доме Александра Александровича Шипова уже жила его сестра. В момент приезда Мирнова с Борей она находилась в отведённой ей комнате на втором этаже. После перенесённой болезни она была ещё слаба и большую часть времени проводила в своей комнате, сидя с книжкой в большом кресле у окна, выходившего на двор. Даже кушала она в этой же комнате одна, так как всё ещё находилась на диете. С братом, занятым на работе, она виделась только вечерами.
Но она не скучала. После шумной Москвы, тяжёлых дней около умирающей дочери, после весьма неприятного времени, проведённого в Цандеровском институте, в тягостном ожидании грозного, чуть ли не смертного приговора после установления диагноза её болезни, здесь, у брата, в тихом, спокойном месте, она стала чувствовать себя гораздо бодрее и лучше. И если бы не беспокойство о внуках, особенно о Боре, она чувствовала бы себя совсем здоровой. С нетерпением ожидала она возвращения Николая Геннадиевича из Берёзовца и того разговора с ним, которым думала решить судьбу старшего сына дочери.
Она часто задумывалась о будущей судьбе этого мальчика. Так задумчиво сидела она и в тот вечер, когда ребёнок, о судьбе кого она так беспокоилась, вместе с отчимом находился здесь же. Камердинеру Ивану и в голову не приходило докладывать ей о привезённом мальчике: она гостья, и всё происходившее в доме её не должно касаться.
Так и получилось, что Боря и его любимая бабуся находились в нескольких шагах друг от друга и не знали об этом.
Приехавший в семь часов вечера Шипов был раздражён – на службе всё обстояло скверно. Занятый своими мыслями, он пропустил мимо ушей доклад Ивана о привезённом мальчике, а тот не решился повторить. Кроме того, он не был уверен в правильности своего поступка: стоило ли оставлять ребёнка? Но в то же время Иван знал, что Мирнов как бы родственник барина, как же было ему отказать? И поэтому он решился нарушить правила хорошего тона, и когда Александр Александрович, переодевшись в домашний халат и осведомившись, обедала ли Мария Александровна, приказал подавать обед, Иван спросил:
– Простите, Ваше превосходительство, а мальчик с вами будет кушать или его прикажете покормить отдельно?
– Какой мальчик, что ты говоришь?
Иван понял, что барин не слушал или не слышал его доклада, и повторил его вновь. Едва он кончил, Александр Александрович воскликнул:
– И давно он здесь?!
– Часа три. Николай Геннадиевич привезли их, вероятно, около четырёх, я усадил их в гостиную, дал им журнал, они, наверно, читают-с.
– Постой, постой, и Николай Геннадиевич тут?
– Никак нет-с, они оставили мальчика, а сами уехали в казарму, сказывали, что завтра приедут-с.
– Так он там один три часа сидит? Он, поди, там уж обревелся.
– Никак нет-с, я только что заглядывал, сидят-с и книжку смотрят-с.
– А моей сестре об этом мальчике ты не говорил?
– Никак нет-с.
– Ну за это молодец. Иди, прикажи подавать нам обоим обед, а я пройду к мальчику.
С этими словами Александр Александрович отправился в гостиную. Он очень боялся, что внезапное появление Бори может взволновать сестру, и это ухудшит состояние её здоровья. А после только что перенесённых потрясений и болезни в её возрасте всякие волнения были весьма нежелательны, ведь ей как-никак уже более шестидесяти лет. Он решил пока сестре ничего не говорить, посмотреть на него самому, поговорить с ним и Николаем Геннадиевичем, подготовить Марию Александровну, а уж после этого и показать ей Борю.
Войдя в гостиную и увидев худенького, бледного, длинноносого мальчугана, бедно и неряшливо одетого, очевидно, давно нестриженного, соскочившего с дивана при его появлении и недоумевающе вопросительно смотревшего на него, Александр Александрович почувствовал жалость к этому несчастному ребёнку. Он подошёл к нему, ласково погладил его по голове и сказал:
– Ну, здравствуй, Боря! Я твой дедушка. Тебе придётся пожить у меня, ты согласен?
Боря немного помолчал, потом спросил:
– А какой дедушка?
– Ну как тебе сказать? Я брат твоей бабушки – Марии Александровны Пигуты, мамы твоей мамы. Ты помнишь её?
– Конечно, помню. Значит, вы брат бабуси, да? А где она? Я так хочу её видеть! Мама больная в Москве, папа ушёл в казарму, Славу отдали какому-то толстому дяде в Ярославле, Нину увезла сердитая бабушка в Кострому, а я остался совсем один. Совсем, совсем один! – грустно повторил Боря и на глазах его появились слёзы.
Александр Александрович был очень тронут монологом этого, видимо, смышлёного мальчика. Ему стало его жалко ещё сильнее, и он решил оставить пока Борю у себя. Ведь Маша будет не в состоянии взять его к себе, слишком уж она ослабела. Кроме того, у неё уже воспитывается одна внучка, где же ей справиться с двумя! Он думал: «Пусть уж пока Боря поживёт хоть год у меня, а там, даст Бог, и война кончится, вернётся Николай Геннадиевич, а может быть, и Борин родной отец отыщется».
В это время вошёл Иван и доложил, что обед подан. Шипов взял гостя за руку и сказал:
– Ну почему же один? И бабуся у тебя есть, и я вот теперь ещё отыскался. Не грусти, пойдём-ка лучше обедать и спать ляжем. Утром что-нибудь придумаем. Утро вечера мудренее.
Боря, однако, остановился и смущённо произнёс:
– У меня руки грязные, надо помыть.
Иван провёл его в туалетную комнату. Мальчик первый раз в жизни видел такой блестящий умывальник, такие краны и такие сверкающие белизной и чистотой вещи в уборной.
Через несколько минут Боря умытый, с чистыми руками и немного приглаженными стараниями Ивана вихрами входил в огромную (как ему показалось) столовую. Комната эта действительно была велика. Её величина подчеркивалась ещё и тем, что кроме длинного обеденного стола, окружённого тяжёлыми стульями с высокими прямыми спинками, и стоящего у одной из стен большого старинного буфета, мебели в ней не было. На одной из стен этой комнаты висела большая картина с изображением разных фруктов, овощей, рыб и убитых птиц. Противоположная сторона комнаты состояла из высоких окон, завешанных тёмными шторами. На одном конце стола стоял столовый прибор, и такой же – на другом. За один конец стола сел дедушка, а за другой при помощи Ивана уселся Боря. Стулья были тяжелы, и мальчик сам свой отодвинуть не мог. Это сделал Иван, он же повязал Боре большую хрустящую белую салфетку. Он же всё время прислуживал за столом, разливая принесённый другим слугой суп, раскладывая второе. Наконец, поставил перед гостем стакан клюквенного киселя, а перед дедушкой чашку кофе.
Первый раз в жизни Боря ел в такой обстановке. Ему всё это показалось настолько роскошным и изысканным, «прямо как в настоящем дворце!» Его воображение ещё больше разыгралось, он уже совсем вообразил себя принцем и решил поступать так, как это описывалось в его любимых книгах. Он стал вести себя за этим царским столом достаточно достойно: не чавкать (он знал, что это неприлично), не тянуть суп из ложки с хлюпаньем, стараясь не пролить и не уронить что-нибудь на скатерть.
Собственно, сплошной скатерти, такой, как дома, покрывающей весь стол, тут и не было, да он думал, что на такой огромный стол даже и не найти подходящей по размеру скатерти, а около каждого прибора была разостлана небольшая салфетка, остальная же часть стола ничем не закрыта, и её тёмная полированная поверхность блестела, как стеклянная. Кушанья вкусные, а так как Боря основательно проголодался, то, несмотря на твсе волнения и фантазирования, ел с большим аппетитом.
В Николо-Берёзовце, когда мама была дома, они обедали в столовой, небольшой комнатке с круглым столом посередине. Кроме мамы, их троих, няни и Ксюши, почти всегда у них обедал кто-нибудь из соседей или служащих больницы, поэтому во время таких обедов было шумно и весело. Когда же мама уехала, они, только свои, ели в кухне за кухонным столом, покрытым клеёнкой.
А здесь обед происходил в такой торжественной обстановке, и всё окружающее было так необычно и удивительно, что, хотя этот обед был единственным в Бориной жизни, он ему запомнился навсегда.
После обеда, встав с помощью Ивана из-за стола, Боря громко поблагодарил нового дедушку. Тот подозвал мальчика к себе, погладил его по голове и сказал камердинеру:
– Поместим молодого господина в угловой комнате наверху. Приготовьте всё, помогите ему лечь и спуститесь ко мне. Иди, Боря, спать, завтра увидимся.
Гость пожелал дедушке спокойной ночи и отправился вслед за Иваном. Ему на самом деле очень хотелось спать: дорога, новизна и необычность окружающей обстановки порядочно утомили мальчика, да он ещё и не окреп после перенесённой болезни.
Через полчаса, растянувшись на большой кровати с высоким пружинным матрацем, на мягких простынях, укрытый тёплым пушистым одеялом, он уже безмятежно спал, чему-то улыбаясь. Замечательное время – детство!
В течение последних месяцев Боре довелось испытать столько, сколько не доводилось за всю его прежнюю жизнь: отъезд мамы, тяжёлые болезни, смерть девочки – соседки по палате, разлука с братом и сестрёнкой, ссора с костромской бабушкой, поездка с папой в поезде, а теперь вот пребывание в этом сказочном доме. Его даже самое ближайшее будущее было неопределённо и неясно, ему столько предстояло испытать и пережить, а он…
Попав в благоприятные жизненные условия, почувствовав даже небольшое участие к себе и ласку, уже всё забыл, перестал думать о грядущих невзгодах и заснул сладким сном.
* * *
Пока Иван укладывал мальчика, Александр Александрович задумался о его судьбе. Внук своей вежливостью и даже воспитанностью прямо поразил старого холостяка. Из рассказов сестры, из знакомства с Николаем Мирновым он прекрасно понимал, что дома Боря не мог получить особенно хорошего воспитания, и потому с некоторым беспокойством ожидал, что мальчуган может допустить ряд серьёзных промахов за столом, и ему заранее было неудобно перед своим старым камердинером, до тонкости разбиравшемся в правилах хорошего тона. И потому Шипов удивился и обрадовался, заметив, что Боря вёл себя вполне-вполне удовлетворительно.
Он приписал это тем началам воспитания, которые мальчик получил ещё во время пребывания у Марии Александровны, и был отчасти прав. Но главное, что определяло поведение Бори в тот вечер, заключалось не в полученном им когда-то воспитании, а в его неуёмной фантазии, заставившей его вообразить себя и изображать принца. Так изображать, как он вычитал в своей любимой книжке «Принц и нищий», и как, по его мнению, должен был вести себя этот принц.
Ну а если бы этому довольно-таки взбалмошному мальчишке пришло в голову изображать из себя не принца, а нищего? Впрочем, не будем гадать. Отметим только, что когда впоследствии Александр Александрович выразил сестре своё удивление Бориным воспитанием и вежливостью, то она, знавшая своего внука получше, чем её брат, удивилась не меньше его и поняла такую воспитанность гораздо позже, когда Боря поведал ей о своей игре в принца.
Но всё это было значительно позже. А пока Шипов продолжал ломать себе голову над тем, что же делать с Борей дальше. Где находится его настоящий отец, никто не знал, разыскивать его в настоящее время было просто невозможно, да и времени на это потребуется много, а вопрос надо решать немедленно.
Отчим – Николай Геннадиевич Мирнов, вообще-то согласный воспитывать мальчика как своего сына, в настоящее время проводит в запасном полку последние дни, на днях этот полк уходит на фронт. Родственники его взять Борю отказались категорически.
Митя взять его тоже не может. У него только что появился свой ребёнок, и сейчас в доме и без племянника забот много.
Оставить внука у себя? Но это значит переделать весь уклад своей жизни, а он к нему так привык. Трудно перестраивать свою жизнь в 65 лет, а Шипову было как раз столько. Да и его служебное положение стало очень шатким. Начальство меняется чуть ли не ежемесячно. Ни один министр удержаться не может. Та же участь в любой момент может постигнуть и его. Что он тогда будет делать с чужим ребёнком? Поместить мальчика в приют – жалко!
Видимо, придётся всё-таки отдать его Маше. Она так любит его, ведь всё время о нём только и говорит. Здоровье её как будто немного улучшилось, она окрепла, пусть уж берёт. Завтра надо осторожно подготовить её, а потом и свести с Борей.
В этот момент в кабинет, где предавался своим мыслям Александр Александрович, осторожно ступая своими мягкими ботинками, вошёл Иван. На вопрос барина о мальчике он ответил, что после ванны тот уложен в постель и сейчас спит.
Александр Александрович достал из ящика письменного стола деньги и, подавая их камердинеру, сказал:
– Купите утром для ребёнка новую, более приличную одежду, обувь, каких-нибудь игрушек и книжек, пригласите парикмахера постричь его. Завтраком покормите в его комнате. Пока из неё никуда не выпускайте. Можете идти. Слуга поклонился и вышел.
Глава одиннадцатая
Барин вышел вслед за ним, проследовал в гостиную и уселся за рояль. Это был инструмент Шрёдера – одной из лучших фирм по изготовлению роялей, достался он Шипову по случаю и попал в хорошие руки. Из всей семьи Шиповых Александр Александрович считался самым талантливым музыкантом. Его игрой восхищались даже профессионалы. В продолжение многих лет он играл на фортепиано часа два–три ежедневно, и это было для него самым лучшим отдыхом.
В то время во Владимире не имелось постоянной профессиональной хорошей труппы, любительских спектаклей и концертов он не любил, в карты не играл, близких знакомых или друзей как-то не завёл, поэтому всё выбиравшееся свободное время отдавал роялю. Почти каждый вечер по его огромной квартире, занимавшей половину большого двухэтажного особняка, разносились мелодичные звуки музыки.
Александр Александрович любил играть классические произведения Бетховена, Моцарта, Глинки, Чайковского, Шопена, Мендельсона, Грига. В тот вечер, находясь под впечатлением своих раздумий о Боре, он начал свой импровизированный концерт не с бурных мелодий Бетховена или оживлённо-радостных произведений Моцарта, а с меланхоличной «Песни без слов» Мендельсона.
Звуки музыки достигли той комнаты, где находилась Мария Александровна, она, как и все в семье Шиповых, очень любила игру брата. Отложив в сторону книгу, она поднялась с кресла и быстро (медленно она ходить не умела) спустилась в гостиную. Она вошла так тихо и незаметно, так осторожно устроилась в одном из кресел, стоявших у недавно истопленной и испускающей приятное тепло блестящей кафелем печки, что Шипов, поглощённый своими мыслями и игрой, ничего не заметил.
Мария Александровна и сама недурно играла на фортепиано, но её игра ни в какое сравнение не могла идти с виртуозной техникой и проникновенным пониманием музыкального произведения, исполняемого её братом. Она любила и умела слушать хорошую музыку, поэтому и сейчас следила за игрой, затаив дыхание. А когда он закончил, и закончил блестяще, очень трудную и сложную в фортепианном исполнении «Песнь Солвейг» Грига, она не выдержала и, как в театре, захлопала в ладоши.
– А я думал, что ты уже уснула. Я не разбудил тебя своей музыкой? Как ты себя чувствуешь? – обернулся на её аплодисменты Александр Александрович.
– Что ты, что ты, Саша! Во-первых, я не спала, во-вторых, если бы я пропустила твою музыку, я бы себе этого никогда не простила! Бог знает, когда мне ещё придётся наслаждаться твоей игрой. Ведь так, как играешь ты, играют очень немногие. Тебе бы не финансистом быть, а профессиональным музыкантом.
– Что ж, может быть, ты и права, Маша, я и сам иногда так думаю. Наверно, из меня получился бы довольно приличный музыкант, и это было бы лучше, чем быть никудышным финансистом. Однако ничего не поделаешь: взялся за гуж – вот теперь и тяну…
– Саша, у тебя опять новые неприятности на службе?
– Да нет, неприятности-то старые, а вот министр финансов действительно новый, не знаю уж, надолго ли.
– Да что ты! Что же это у нас делается-то? Ведь чуть ли не месяц тому назад прежнего-то назначили, а теперь опять другой.
– Да, да, другой теперь министр финансов, но, к сожалению, замашки-то у него такие же, как и у предыдущего. Да я как раздумаюсь, наверно, им и нельзя иначе, они там около двора, как в шорах, все ходят. Как извозчичьи лошади: только в одну сторону смотрят, а с боков глаза шорами завешаны, чтобы ненароком не испугались чего-нибудь. Проклятая война ежедневно уйму денег берёт, прости, Маша, за грубость, доходы государства падают, долги его растут, а они, точно этого и не видят, без конца приказывают всё новые и новые партии бумажных денег выбрасывать. Если так дальше пойдёт, то рубли будут стоить дешевле той бумаги, на которой они напечатаны. Вот ведь как! Впрочем, господа министры, да и ещё кое-кто, кто поумнее и похитрее, это видят, недаром все свои капиталы за границу стараются побыстрее переправить, а что с Россией будет, когда всё её золото растащат по разным швейцарским да французским банкам, до этого никому дела нет.
– А что же царь? Он что, не знает об этом?
– Ах, Маша, что царь! Видишь, трудно сейчас сказать, что видит наш самодержец… Если он не видит даже того, что делается в его собственном доме, то где же ему видеть то, что в государстве делается.
– Ну, Саша, ты прямо революционер какой-то стал! Мне даже удивительно. Если бы я что-нибудь подобное сказала или вон Митя мой, так это понятно: мы давно слывём среди наших родных потрясателями основ, но ты?! Я не понимаю!
– Чего тут не понимать, всё очень просто. С годами люди становятся зорче и умнее немного, Машенька, так-то. Кроме того, если бы ты слышала, что говорят про царскую семью, и про самого государя, и про императрицу люди, стоящие гораздо выше меня, ты бы, наверно, просто испугалась…
О том, что дальше рассказывал брат, Мария Александровна и сама немного знала. Финансовые дела Российской империи всё более и более запутывались. Царское правительство, упорно продолжавшее уже почти проигранную войну, всё глубже и глубже залезало в долги к правительствам Франции, Англии и даже Америки. Рубль всё более и более обесценивался, и весь финансовый аппарат страны, в том числе и Государственное казначейство, возглавляемое Шиповым, находился постоянно в лихорадочном состоянии.
Уже почти совсем вышли из обращения серебро и медь, золото перестало появляться ещё раньше. В казначейство удалось стянуть незначительную часть металлических денег, большая пряталась в кубышках спекулянтов, торговцев и зажиточных крестьян. Заменили эти деньги бумажными: полтинниками, напечатанными на розовой бумажке с надписью «50 коп.» посередине, а более мелкую монету и просто почтовыми марками с портретами различных царей: 10 коп. – Николай II, 15 коп. – Николай I и 20 коп. – Александр I. Ну а появление этих бумажек уже полностью вытеснило металлические деньги. Медь была и не нужна. Нищим, по привычке просившим копеечку, стыдились подавать меньше гривенника.
Всё знал и видел Александр Александрович и прекрасно понимал, что ни к чему хорошему это не приведёт. Он занимал высокий пост в финансовом мире России, добился этого поста благодаря своему труду и знаниям и, хотя и получал большой оклад и имел чин, особой приверженности к монархии не испытывал, а царствующего императора и вовсе считал личностью весьма малозначительной.
Конечно, об этих своих мыслях он не осмелился бы сказать ни одному, даже самому ближайшему другу, но в сознании своём представлял: Россия стоит накануне каких-то больших перемен и прежде всего потому, что финансовое положение государства на грани краха.
Он понимал: царское правительство не сумеет выиграть войну, поражение принесёт с собой полную финансовую катастрофу. Видел он также и то, что ни царь, ни его правительство не сумеют, да, видно, не умели и раньше разумно руководить Россией. А что касается царицы, то ходившие тогда среди высокопоставленного общества сплетни про неё и Распутина были настолько неприличны и грязны, что Шипов, будучи человеком высоконравственным, приходил в ужас при одной только мысли, что эти сплетни могли иметь под собой хоть какую-нибудь мало-мальски правдоподобную почву.
Не будучи ярым приверженцем данного царя, да, пожалуй, и царского дома вообще, Александр Александрович в то же время горячо любил Россию и считал, что передовые люди страны должны что-то делать, чтобы спасти государство от гибели. Он ни на минуту не становился на путь революции, он был слишком далёк от революционных воззрений, хотя и был знаком с сущностью некоторых революционных теорий. Он полагал, что и при худом царе можно получить необходимое упрочение государства, если за дело возьмутся серьёзные люди и сумеют убедить монарха в необходимости проведения ряда реформ, укреплявших финансовое положение страны и позволивших бы более или менее успешно закончить эту ненужную России войну.
Как видим, его взгляды были довольно наивны и, с нашей сегодняшней точки зрения, просто элементарно безграмотны, но по рассказам людей, близко знавших Шипова, они были именно такими.
Считал он также совершенно необходимым немедленное запрещение всем капиталовладельцам перевода их капиталов в заграничные банки. Ведь такие переводы вызывали утечку валюты и золота за границу, что ускоряло падение рубля. Видя в этом огромное зло, Шипов не сдержался и в сегодняшнем разговоре по телефону с вновь назначенным министром намекнул ему о необходимости такой реформы. В ответ он получил такую отповедь, что понял: ни о какой реформе подобного типа не может быть и речи. Понял также, что его предложение расценено как крамола и что с такими мыслями вряд ли он удержится на своём посту.
Уже по дороге домой он вспомнил, что многие лица царствующего дома, да и сам вновь назначенный господин министр совсем недавно перевели почти все свои капиталы в какой-то швейцарский банк. После этого Александр Александрович вполне ясно представил себе свою ошибку. Видимо, весьма скоро его попросят уйти в отставку, и вряд ли он получит пенсию.
Кстати сказать, уж не знаю почему, но Шипов оставался на своём посту ещё довольно долго, а распекавший его министр просуществовал в министерстве менее месяца. Вообще, в это время в царском правительстве уже началась министерская чехарда. Министры сменяли один другого с калейдоскопической быстротой, а основные работники этих министерств продолжали оставаться на своих местах и в меру своих сил и умения наиболее честные из них старались в своём деле сохранить какой-то порядок. К числу таких служащих, видимо, принадлежал и Шипов, на них держалась хоть какая-нибудь работа министерств, их поэтому и не трогали.
– Но оставим политику, мой друг, – прервал свои излияния Александр Александрович, – хватит того, что целыми днями про неё думать и говорить приходится. Ты ведь так и не ответила на мой вопрос: как ты себя чувствуешь. Хорошо ли тебе у меня? Ты, пожалуйста, распоряжайся всем, как дома, не стесняйся.
– Спасибо, Саша, мне у тебя очень хорошо и покойно. А чувствую я себя вполне здоровой, во всяком случае, гораздо здоровее, чем при выезде из Темникова. Кормят меня прекрасно, птичьего молока только не хватает, – пошутила Мария Александровна. – Но душа моя неспокойна, чувствую я, что хватит мне лентяйничать, пора ехать домой. Там, наверно, дел накопилось невпроворот, да и по Жене соскучилась. Как-то она без меня? Здорова ли? Хоть и под надёжным присмотром (Янина Владимировна Стасевич – чудесный человек), а всё сердце болит. Завтра бы уехала, как мне ни хорошо у тебя… Не обижайся, в гостях хорошо, а дома всегда лучше. Вот одна забота меня держит: как там у Нины, что с её детьми, где они? И главным образом, что с Борей, где он? О нём я думаю больше всего. Привязалась я к нему и жаль мне его очень. У других хоть отец есть, а у него теперь по существу ни матери, ни отца. Так бы и поехала в Берёзовец и забрала его. Боюсь только, как бы дорогой не расхвораться, ведь дороги сейчас очень тяжелы, и опять вам придётся со мной возиться. Думаю, что на днях Мирнов вернётся, тогда и узнаю о Боре. Может быть, уговорю его отдать внука мне, ведь я всё-таки на него больше всех прав имею. Ты, Саша, не знаешь точно, когда он вернётся?
– Да он уже вернулся. Возможно, завтра ему удастся и к нам зайти. Я его не видел, о его возвращении передал Иван. Боря, кажется, совсем поправился. Да ты не волнуйся, он отдаст Борю, завтра переговоришь с ним. Не волнуйся! Пойдём-ка лучше спать. Времени уже много, тебе, как больной, давно уже пора быть в постели, да и я сегодня что-то устал…
С этими словами, торопясь скрыть своё смущение, Александр Александрович встал из-за рояля, подошёл к сестре, помог ей подняться с кресла, проводил её до комнаты и, пожелав ей спокойной ночи, направился в свой кабинет. Он едва сдержался, чтобы не сказать ей, что Боря уже здесь, всего в нескольких шагах от неё.
На следующий день часов в 11 утра пришёл Мирнов. Они сидели в кабинете Александра Александровича. Николай Геннадиевич, извинившись за такое неожиданное вторжение с Борей, начал рассказывать о том, как он распорядился всем в Берёзовце и как обстоит дело с детьми. В этот момент в кабинет вошла Мария Александровна.
Александр Александрович представил ей Мирнова, после взаимных приветствий Мария Александровна сразу же обратилась к волновавшему её вопросу:
– Николай Геннадиевич, я хотела просить вас о том, чтобы вы отдали мне Борю. Ведь вам, и особенно вашей маме, он почти совсем чужой, а мне –прямое воспоминание о Нине, да и воспитывала его я до четырёх лет, так что привязалась к нему, как к своему ребёнку. Вы сами сейчас находитесь на военной службе и заботиться о нём не сможете. Вашей матушке дай Бог справиться с двумя младшими… Где Боря? Дайте мне письмо, и я сейчас же поеду в Кострому и возьму его к себе. Я ещё крепкая старуха, немного приболела, но это пустяки. Я вполне смогу воспитать его, во всяком случае, пока вы в армии или пока не отыщется его родной отец.
Мирнов недоумённо смотрел то на неё, то на Александра Александровича и наконец, немного опомнившись, проговорил:
– Дорогая Мария Александровна, да я сам считаю это наилучшим выходом из положения! Я ведь и пришёл просить, чтобы вы, или Дмитрий Болеславович, или даже вот Александр Александрович хотя бы на время взяли Борю к себе. Моя мать даже двоих не согласилась воспитывать, взяла только самую младшую – Ниночку. Славу мне пришлось отдать на воспитание моему дяде в Ярославль… Я буду очень рад и признателен вам, если вы возьмёте Борю… Пока не нашёлся его родной отец, пока он на него своих законных прав не предъявляет, я считаю его своим сыном, и считаю себя обязанным позаботиться о нём… Если же вы его возьмёте к себе, то этим снимете с меня огромную тяжесть, и я спокойно смогу ехать на фронт, куда, кстати сказать, наш полк выезжает завтра…
– Так где же он? Почему вы его не привезли сюда? – воскликнула Мария Александровна.
Николай вновь недоумённо и даже немного испуганно посмотрел на хозяина дома, и только было собрался спросить его, что случилось с Борей, как тот вмешался сам:
– Постой, Маша, не горячись! И ради Бога не волнуйся так. Сядь-ка вот сюда, на диван, вот так. А теперь слушай. Борю Николай Геннадиевич привёз ко мне ещё вчера. Но, во-первых, я не знал его намерений, а не выяснив их, не хотел волновать тебя понапрасну. А во-вторых, и это, пожалуй, главное, мальчик после всех волнений последних дней и перенесённой болезни устал, встреча с тобой, да ещё такая неожиданная, могла бы дурно отразиться на его здоровье, вот я и решил эту встречу сделать сегодня, когда всё выяснится, когда и ты немного успокоишься, и мальчик опомнится после дороги. Посиди немного, успокойся сама и пойдёшь к нему. Помни, ведь его волновать нельзя!
После этих слов Мария Александровна, пытавшаяся было вскочить и сразу бежать разыскивать Борю, села и, вытерев невольно набежавшие слёзы, сказала:
– Ты, как всегда, прав, Саша. Его волновать нельзя. Я сейчас успокоюсь. Дайте мне, пожалуйста, воды, – обратилась она к Николаю Геннадиевичу.
Тот, подав ей стакан с водой, заметил:
– Я ещё не предупредил вас, уважаемая Мария Александровна, ведь Боря о смерти Нины Болеславовны не знает, он думает, что она в больнице. Пожалуйста, не проговоритесь, я не знаю, как он это воспримет. Наверно, надо будет сказать ему об этом позднее, как-нибудь подготовив его. Сейчас этого делать, во всяком случае, нельзя. Болезнь его очень измотала. Когда я его увидел, то прямо не узнал, настолько он был бледен, худ и слаб. Вы только не очень расстраивайтесь при его виде, ведь дети тяжело переносят болезни, но поправившись, приходят в нормальное состояние быстро.
– И вы это говорите мне, имевшей своих пятерых и ещё двух внуков, – ответила с укоризной Мария Александровна. – Но в одном вы оба правы: волновать мальчика нельзя. Я постараюсь и думаю, что сумею, и, пожалуй, лучше – без вашей помощи. Вот ещё посижу минут пять и пойду к нему. И где ты его только запрятал? – погрозила она пальцем брату.
Александр Александрович в своих аргументах нашёл, вероятно, самый правильный путь, чтобы успокоить Марию Александровну: если бы он стал говорить о том, что боялся разволновать её (как оно было на самом деле), то, конечно, ничего бы не вышло, она бы серьёзно обиделась, а когда был поставлен вопрос о здоровье Бори, она сразу же взяла себя в руки.







