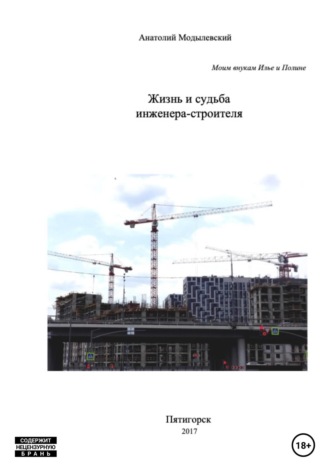
Анатолий Модылевский
Жизнь и судьба инженера-строителя
Подготовив весь материал, я пошёл к Миронову, но оказалось, что он в отпуске; я заволновался, ведь мой отпуск заканчивался, а диссертацию надо было сдать в Совет НИИЖБа, учёный секретарь которого назначает оппонентов, и согласно очереди определялся срок защиты. Я выяснил, что С.А. находится не в Москве, а на даче; у его дочери Людмилы, работающей в лаборатории Малининой, узнал адрес и поехал на электричке на дачу; С.А. повёл меня в мансарду, в которой на столе, кроватях и даже на ковре были разложены листы рукописи его книги; мы рассмотрели принесённый мною материал, который шефу понравился, ведь я выполнил для него необычайно важную работу; попросил его подписать титульные листы диссертации; он начал листать первый экземпляр и читать отдельные куски текста; меня взяло зло: какого чёрта он ещё тянет с подписью, никогда ранее не интересовался содержанием и знает, что Лагойдой всё проверено и выверено, что ему ещё нужно? Я не вытерпел, спокойно взял у него том, открыл титульный лист и сказал без пожалуйста: «Сергей Андреевич, подписывайте»; по моему тону он всё понял, взял со стола ручку и подписал все титульные листы, а также реферат. Я заторопился уезжать, уже темнело, но С.А. настоял, чтобы я остался поужинать вместе с семьёй, что было кстати, ведь я не обедал; прощаясь, попросил С.А. не вычёркивать мою фамилию из текста книги и в списке литературы дать ссылку на публикацию моих разделов, что он в дальнейшем и сделал; это было важно для меня, поскольку книгу перевели на иностранные языки и издали; вернулся в общежитие к полуночи, а утром пришёл к Лагойде за подписью; он посмеялся над моей вчерашней эпопеей и сказал: «Из клещей шефа так просто не вырвешься», и быстро всё подписал; в канцелярии поставили печати, я сдал три экземпляра в Совет; через два дня мне сообщили, что по рекомендации Лагойды моими оппонентами назначены д.т.н. проф. Шишкин из ЦНИИСКа и к.т.н., доцент Павел Сергеевич Костяев; им обоим я передал диссертацию и составленные мною памятки-«болванки» для написания отзыва, по пунктам изложил результаты своих исследований, которые в научной литературе были опубликованы впервые.
В комнате общежития жил соискатель из Донецка; как и я привёз готовую диссертацию; это был маленького роста симпатичный черноволосый еврей; от него я впервые услышал о ядерно-магнитном резонансе (ЯМР), подумал, что этот метод может быть с успехом применён в наших исследованиях, однако в Красноярске моё сообщение ни у Лазарева, ни у Замощика не вызвало интереса. С двумя экземплярами диссертации я вернулся в Красноярск, передал Замощику привет от Миронова, сообщил, что сдал диссертацию в Совет; мы договорились, что я доложу свои результаты на учёном Совете в НИИ; через некоторое время я изготовил три плаката, сделал доклад на Совете, не получил ни одного замечания, затем оформил официальную бумагу, в которой институт рекомендовал диссертацию к защите. Позже я получил отзывы из строительных трестов о внедрении бетонов с новыми комплексными противоморозными добавками.
LX
Я ожидал вызова на защиту, готовил доклад и созванивался с оппонентами, просил их не затягивать с отзывами. Костяев, известный в Союзе учёный, занимающийся применением химдобавок, в т.ч. противоморозных, для бетонов на объектах транспортного строительства, отнёсся к отзыву очень серьёзно и в феврале 1975 г. передал его в Совет НИИЖБа, а один экземпляр прислал мне в Красноярск; доцент МИИТа Павел Сергеевич Костяев был в курсе моих работ в области промышленного строительства, знал обо мне, поскольку участвовал в совещаниях, был дружен с Лагойдой; даже после моей защиты я в течение ряда лет поддерживал с ним связь, интересовался его деятельностью; в 2005 г. в Пятигорске я познакомился с 83-х летним полковником ж/д войск в отставке, который в молодости окончил МИИТ; в разговоре я упомянул Костяева, и вот что рассказал мой знакомый: «Павел Сергеевич вёл курс «Строительные материалы», был любимым преподавателем, всегда относился к студентам доброжелательно, свои занятия выстраивал по проблемной тематике, не терял связи с выпускниками после окончания института»; у меня остались самые тёплые воспоминания об этом замечательном человеке, к которому всегда питал глубокое уважение.
С моим первым оппонентом, доктором наук Шишкиным из ЦНИИСКа пришлось помучиться: даже когда я накануне защиты в марте 1975 г. прибыл в Москву и встретился с ним, выяснилось, что за полгода он не нашёл времени по заготовленной мною болванке написать отзыв, сообщил мне, что диссертацию не читал, а болванка куда-то делась; пришлось мне срочно составить черновик отзыва с несколькими формальными замечаниями, Шишкин его одобрил и подписал; когда я показал отзыв Миронову и рассказал о Шишкине, С.А. крепко выругался и сказал; что знает его ещё с 1930-х годов, вместе в молодости пришли в науку и всегда Шишкин отличался рассеянностью и необязательностью.
LXI
В конце декабря начались в школе зимние каникулы; Галя устроилась в детский дом отдыха, расположенный в сосновом бору на берегу Енисея, взяла с собой Кирюшу и Сашу. Не работая уже в тресте КАС, я не забывал о своём друге Сергее Климко; как когда-то заметил Высоцкий: «Дружба – это не значит каждый день звонить друг другу, здороваться и занимать рубли. Это просто желание узнавать друг о друге новое, слышать и довольствоваться хотя бы тем, что вот мой друг здоров, пускай ещё здравствует»; судьба расставила всё по своим местам; Сергей стал тем, кем стал: начальником СМУ, затем крупного строительного объединения; я же двинулся в науку и преподавание в вузе. 31 декабря встречал новый 1975 год вместе с семьёй Климко в посёлке ЦБК у родителей Алёны; собралась вся большая семья Господаревых, но мне особенно понравилась и запомнилась мама Алёны, милая, доброжелательная женщина, а что касается её сибирского угощения и солений, так я сразу вспомнил Алтай, незабвенную нашу Тихоновну; мысленно перенёсся к моим родителям, к своей молодости, к детству и как этот день всегда у нас праздновался: сколько радостей, сколько удовольствия, ёлка! Первого января поехал в дом отдыха поздравить Галю и детей, погулять с ними по лесу и выйти на берег Енисея. У Киры после каникул продолжились занятия в 95-й школе.
LXII
В 1975 году намечалось провести в Москве 2-й международный симпозиум по зимнему бетонированию (1-й состоялся в 1957 г. в Копенгагене) под эгидой РИЛЕМ, международной организации по бетону, находящаяся в Париже; Миронов сообщил, что готовятся сборники докладов и мне надо обязательно опубликовать статью; отправил её в оргкомитет, и она была опубликована в трудах симпозиума. В конце февраля я получил извещение из НИИЖБа о том, что защита диссертации состоится 15 марта в 14-00, но на работе об этом никому не сообщил, и как показали дальнейшие события, правильно сделал; теперь готовился основательно: дома, разложив эскизы плакатов, репетировал и отшлифовывал доклад, уложился в положенных на защите 20 минут.
В феврале к нам в гости приехали из Ростова баба с дедом, имея при себе большой багаж; мы их встретили на вокзале, я с разрешения грузчиков погрузил с Кирой на станционную багажную телегу все вещи, усадили там деда (в то время у него сильно болела нога) и повезли по привокзальной площади к стоянке такси, что, конечно, милицией запрещалось делать; увидев сидящего на вещах инвалида, милиция препятствий не чинила; телегу мы отвезли на место и двумя машинами такси добрались домой; старики жили у нас долго, баба гуляла с Сашей, а по выходным, когда женщины занимались готовкой, четверо мужчин отправлялись кататься на санках и лыжах; этой зимой в Красноярске проходила зимняя спартакиада народов СССР, к началу которой на сопке построили трамплины, в т.ч. трамплин-гигант.
Недалеко от нашего дома был небольшой базарчик, куда колхозники привозили овощи и соленья; баба Вика, привыкшая к ростовским высоким ценам, удивлялась тому, что большое ведро хорошей картошки стоит всего рубль; как-то, идя на базар, Галя поскользнулась, упала на руку; рентген обнаружил трещину в кисти, наложили гипс, лечение было долгим; все последующие годы при перемене погоды Галя ощущала боль в кисти. Ближе к весне мы проводили стариков.
LXIII
В начале марта институтом было получено письмо из Минтяжстроя с указанием прислать специалиста по бетону для работы в комиссии, которая должна обследовать аварийное состояние объектов в Мурманской области; я уже выяснил, что Замощик не хотел участвовать в работе министерской комиссии, не зная, чем это может для него обернутся, Лазарев был в отпуске; свалившееся как снег на голову новость весьма обрадовала меня; я подумал, что командировку можно совместить с поездкой в Москву на защиту диссертации, тем самым сэкономить деньги на авиаперелётах, и не брать отпуска за свой счёт; когда директор вызвал меня, я прикинулся незнающим о его переговорах с моим шефом, сказал, намекнув про Замощика, что в лаборатории есть специалисты лучше меня; однако Крупица настоятельно просил не отказываться от командировки, и я дал согласие; странно, что этот мой план прекрасно сработал, несмотря на все непредвиденные обстоятельства. Как учит нас Сперанский: «Наука различать характеры и приспособляться к ним, не теряя своего, есть самая труднейшая и полезнейшая в свете; тут нет ни книг, ни учителей; природный здравый смысл, некоторая тонкость вкуса и опыт – одни наши наставники; разгадать этот сложный ребус, который представляет собою твой начальник, изучить его натуру незаметно-неприметно для него самого, найти в многозвучии его характера заветную струну и потом исторгнуть из себя звук, подобный её звуку, – зазвучать ей в унисон и звучать так громко, чтобы услышал он твоё звучание, почувствовал в тебе родной для себя инструмент, – это занятие не может не быть захватывающим; оно в чём-то сродни охоте, где ты, именно ты – ловец-охотник, а начальник твой – твоя добыча; он обманут, он пойман тобою, сам того не подозревая». Директор также сказал, что ему самому надо быть по делам в Мурмансктяжстрое, и попросил встретить его в аэропорту; таким образом, всё складывалось удачно: я полетел в Мурманск через Москву; в НИИЖБе пришлось задержаться на один день: во-первых, из-за неготовности отзыва оппонента Шишкина (об этом ранее писал), во-вторых, я забрал готовые хорошо выполненные 22 плаката и оставил их в лаборатории у Лагойды.
В Мурманске поселился в гостинице «Полярные зори» и на следующий день поехал в аэропорт встречать своего директора; в те времена ещё не было гражданского аэропорта, пользовались военным; приехал я заранее, погода была хорошая с лёгким морозцем, сияло солнце, стал осматривать местность: прямо возле лётного поля располагались ангары, каждый из них представлял собой земляной холм с воротами, откуда выкатывали самолёты и тащили на лётное поле; всё было интересно: примерно 15 реактивных истребителей МиГ серебристого цвета с красными звёздами на крыльях установили в шеренгу; рядом со мной был мужчина из местных, который иногда давал пояснения; первый самолёт, который вырулил на взлётную полосу, был командирский двухместный, «спарка», со штурманом; механик, одетый в синий комбинезон, снял красный флажок с фюзеляжа, поднял руку, взревел мотор, самолёт тронулся и сначала на малой скорости проехал метров 50; затем раздался страшный грохот, лётчик включил форсаж, самолёт быстро начал набирать скорость и взмыл в небо; затем к месту старта подъехал первый одноместный самолёт, за ним последовательно взлетали остальные, уходили за горизонт; в течение 20 минут я наблюдал за взлётом и отметил некоторые интересные моменты: во-первых, после выхода из ангара, на стоянке и старте никакой проверки готовности, как это всегда делается у гражданских самолётов, не производилось; во-вторых, обратил внимание на то, что низ фюзеляжа был сильно «запачкан» жёлтыми выхлопными газами; но самое неизгладимое впечатление оставил момент, когда самолёт отрывался от земли: набрав максимальную скорость, он взлетал, принимал вертикальное положение, чтобы быстрее набрать высоту – очень красивое зрелище и «зрители» получают эстетическое удовольствие; набрав нужную высоту, самолёт в горизонтальном положении уходил за горизонт; при этом я отметил, что для разбега ему нужна была очень короткая взлётная полоса длиной менее 500 метров; я спросил соседа, куда улетели истребители, оказалось – на учебные стрельбы.
Наступила тишина. Я посмотрел на часы, самолёт из Москвы должен был уже садиться, но его не было. Прошло около получаса и нам открылось новое красивое зрелище: со стороны запада на сверхзвуковой скорости в полной тишине шли на посадку серебристые истребители; на подлёте к аэродрому они снижали скорость, делали полукруг, чтобы выйти точно на полосу и только тогда до нас доходил громкий звук двигателей; приземляясь на приличной скорости и едва коснувшись земли, они выбрасывали по два тормозных парашюта и останавливались где-то в конце двухкилометровой полосы, разворачивались и быстро заезжали в ангары; минут через десять совершил посадку ТУ-134; я встретил Крупицу, который сказал, что их самолёт почти час почему-то кружил в небе, я объяснил причину: у военных лётчиков были учебные стрельбы. Поехали мы в главк, обратил внимание, что у К.К. был очень тяжёлый портфель, кирпичи, что ли там были, но спрашивать не стал;
В кабинете начальника главка состоялась короткая беседа, К.К. вспоминал, как в войну он в упорных боях оборонял от немцев Мурманск, а Колу, где был ранен, помнил всегда; начальник главка пообещал свозить его на место боёв; я обратил внимание, что у главы Мурмансктяжстроя на всей верхней стороне кисти была большая наколка – якорь, возможно, когда-то был моряком; начальник технического управления, небольшого роста очень толстый и неповоротливый человек, сообщил мне, что члены комиссии прилетят из Москвы на днях, надо подождать; здесь же, когда принесли Крупице обратные авиабилеты и сдачу, он открыл портмоне и хотел вложить туда деньги, не пересчитывая их; пожилой и добродушный начальник техуправления посоветовал пересчитать сдачу, напомнил: «Деньги любят счёт»; тогда я впервые услышал эту поговорку.
Я расстался с директором и отправился осматривать город, бухту, в которой стояли торговые и военные корабли и даже одна подводная лодка; затем в центре города пообедал в столовой, где с удовольствием впервые ел зубатку, приготовленную на пару; в театре купил билет на спектакль; вечером отправился в драмтеатр, который мне очень понравился: красиво оформленное фойе и уютный зрительный зал, нарядная публика и много офицеров флота в парадных мундирах; пьеса была на военную тему: немцы, наши разведчики, героиня-партизанка, мстители; сюжет незамысловатый, но местные артисты играли хорошо, очень старались, публика была довольна.
Наша комиссия собралась и главный механик Минтяжстроя, которому министр Голдин поручил возглавить комиссию, сделал перед поездкой на место сообщение о цели предстоящей работы; а дело состояло в том, что в городах Заполярный и Никель, расположенных на западе области недалеко от границы с Норвегией, сложилась аварийная ситуация: бетонные конструкции промышленных зданий и, главное, крупнопанельных жилых домов, стали разрушаться и уже из нескольких домов людей выселили и перевели во временное жильё. Мурманские власти обратились к Косыгину, чтобы были выделены деньги для строительства новых домов и цехов предприятий, поскольку разрушение продолжается; предварительный ущерб определён в 150 млн рублей – это очень большие деньги (для сравнения: сметная стоимость одного корпуса электролиза КРАЗа составляет 15 млн руб.); Косыгин поручил министру Голдину создать комиссию, дать заключение и рекомендации.
На следующий день я выехал рейсовым автобусом в Заполярный, а остальные члены комиссии добирались на самолёте или легковыми машинами; поездка длилась пять часов, но я ни сколько не пожалел; дорога от Мурманска шла по сплошной каменной пустыне – по обе стороны гранитные валуны и в расщелинах между ними росли карликовые с метр высотой берёзки, и никакого жилья; я, привыкший к российским и особенно сибирским пейзажам, с жалостью поглядывал в течение всей поездки на однообразную унылую природу; к тому же было раннее утро, накрапывал мелкий дождик, многие пассажиры спали; мой сосед сказал, что справа от нас на берегу Баренцево моря в скальных шхерах Линахамари напротив полуострова Рыбачий находятся наши подводные лодки, но издали их не было видно; через два часа автобус остановился на пограничном пункте – проверка документов; зашёл молоденький пограничник и начал проверять паспорта, все оживились, хоть какое-то событие на длинном пути; сержант проверял прописку и сличал фотографию с оригиналом; в середине автобуса сидела красивая девушка, солдат несколько раз смотрел на её лицо, сверяя с фото, затем вернул паспорт и двинулся дальше; проверив нескольких человек, он вернулся и снова попросил у девушки паспорт, стал опять на неё смотреть – это всех развеселило, пошли шутки, смех, подначки, а солдат невозмутимо сличал фото, чем окончательно смутил девушку; передо мной сидел небольшого роста немного выпивший мужчина, который, судя по рабочей одежде, ехал на стройку; посмотрев паспорт, солдат попросил его выйти из автобуса и позвал офицера; оказалось, что в паспорте отклеилась фотография, мужчину задерживали; мы слышали, как он слёзно просил разрешить вернуться в автобус, ведь он часто ездил, знал этого офицера и тот знал его, но всё-таки пассажира задержали и мы поехали без него.
Прибыв в Заполярный, я устроился в центральной городской гостинице и встретился с комиссией, а утром началась работа; моя задача заключалась в обследовании бетона и мне передали два научных отчёта, выполненных сотрудниками НИИЖБа несколько лет назад; оставив их в своём номере, направился в лабораторию строительного треста; там дали сопровождающего инженера ПТО, с ней мы начали осмотр аварийных объектов, построенных 10-15 лет назад; на заводе ЖБИ я увидел в неработающем теперь цехе ж/б колонны в многочисленных трещинах, а одна, фахверковая, расположенная в торце здания, изогнулась так, что пришлось демонтировать стеновые панели, прикреплённые к ней; затем мы прошли в город, подошли к дому, из которого выселили жильцов; все наружные стеновые панели были с трещинами, их демонтировали и складировали рядом с домом; плиты перекрытий с первого до пятого этажа были вывешены, т.е. опирались на стойки из подтоварника; что делать с этим домом никто не знал, в том числе и я; мы спустились в подвал дома, осмотрели стены, сложенные из бетонных блоков, в которых виднелись мелкие трещины; я подобрал с пола кусочки бетона, в котором щебень был чёрного цвета; после обеда отправился в гостиницу, чтобы ознакомиться с отчётами НИИЖБа и сразу обратил внимание на то, что эти работы были посвящены исследованию именно этого чёрного щебня, филлита; прочёл, что его брали из вскрышной породы при разработке шахт; горная порода, используемая в качестве заполнителя для бетона, отвечала требованиям прочности, да я и сам в этом убедился, разбивая щебень молотком; однако из отчётов я узнал, что плотная структура породы была чешуйчатой и во влажной среде она набухает, объём материала увеличивается; авторы не рекомендовали использовать бетон во влажной среде; но эти выводы были сделаны год назад, когда бетон в конструкциях, находящихся даже не во влажной среде, начал трескаться; вероятно, 15 лет назад заполнитель не исследовался должным образом в соответствии с ГОСТ, но об этом можно узнать из лабораторного журнала, в котором всё фиксировалось и давалось разрешение на применение в качестве заполнителя горной породы из вскрыши, взамен дорогого гранитного щебня; это было чьё-то рацпредложение, которое давало баснословный экономический эффект.
На следующий день я пошёл в лабораторию и узнал, что старый журнал исчез ещё год назад, виновников нет; набрал несколько обломков бетона с частично обнажённым заполнителем, попросил бинокулярную лупу с подсветкой и отправился в гостиницу; мне нужно было ответить на вопрос: почему разрушается бетон, который находится не во влажной среде? Прежде всего, я положил кусочек заполнителя в стакан с водой и оставил до завтра; затем стал внимательно рассматривать при 8-кратном увеличении заполнитель, взятый из треснувшего бетона, при этом концом перочинного ножа стал ковырять породу и сразу заметил её чешуйчатую структуру; начал поддевать чешуйки и без труда отделял их от казалось плотного камня; утром следующего дня увидел, что чешуйки камня, пролежавшего ночь в воде, набухли и легко рассыпаются, т.е. заключение, сделанное учёными НИИЖБа, подтвердились. Я задумался; какой же следует вывод? Всё-таки есть конструкции, которые простояли много лет и не разрушились, да и сейчас бетон в них не имеет трещин; вероятно, настал определённый момент, когда бетон в ряде других конструкций начал трескаться, деформироваться и даже кое-где рассыпаться; это под нагрузкой грозило аварией с человеческими жертвами; я понял, что за многие годы при различной относительной влажности воздуха (от 60% до 100% во время дождей и в продолжительный влажный, приморский зимний период) какое-то количество влаги попадало в бетон и накапливалось в нём; под воздействием влаги заполнитель постепенно набухал, расширялся и оказывал всё нарастающее давление на цементно-песчаный камень; пока давление было небольшим, в бетоне не было трещин, давление возрастало, трещины появлялись; но мы не можем знать, когда они появятся, будут видны и «сообщат» об угрозе разрушения; присланная министерством комиссия должна дать прогноз на будущее: будут ли разрушаться дома, в которых живут люди, и когда? Я понимал, возможно, от меня ждут каких-то рекомендаций, которые позволят избежать многомиллионных затрат на ремонт; погоди-ка, – сказал я себе, – ведь неизвестно, как это обернётся; были сомнения, но вспомнил девиз Льва Толстого: «Делай, что д̀олжно, и пусть будет, что будет».
Совершил я однодневную поездку в г. Никель, находящийся севернее; вспомнил из прочитанного, что немцы по приказу Гитлера должны были, наступая из поверженной Норвегии, спешно захватить рудники, чтобы обеспечить никелем производство танковой брони; наши немногочисленные войска отступали с кровавыми боями к Мурманску, но взять его немцам так и не удалось. Осмотрел я ж/б конструкции, плачевное состояние которых было почти такое же, как в Заполяром; но обратил внимание на ж/б колонны, которые поддерживали протяжённую горизонтальную транспортёрную галерею от обогатительной фабрики до морского причала; бетон в колоннах был хорошего качества, да и сама конструкция выглядела удивительно: рациональное сечение стоек и ригелей, гладкая поверхность бетона без каких-либо изъянов, даже вместо привычных острых граней были сделаны фаски; пожилой технолог рассказал, что старая довоенная галерея была нашими взорвана, а эту соорудили немцы, поэтому она и сейчас как новая.
Для себя сделал выводы, и их хотел изложить в официальном заключении: во-первых, разрушение бетона будет продолжаться, но никто не сможет сегодня сказать, как быстро или медленно будет идти этот процесс; во-вторых, требуется постоянный осмотр конструкций, особенно фундаментов и стен подвалов жилых домов; в-третьих, следует срочно принять меры, чтобы вода не попадала на междуэтажные перекрытия, стены, перегородки и особенно в подвальную часть здания; в-четвёртых, в аварийных домах, из которых уже выселены жильцы, надо смонтировать качественные стеновые панели и разработать проект усиления фундаментов и стен подвалов с использованием качественного бетона.
Мне предстояло ознакомить с этими выводами председателя комиссии; это был солидный мужчина, обладавший представительной внешностью: громадного роста, плечистый, крепкий, «тяжеловес»; рассказал ему суть процесса разрушения бетона, он прочёл мои выводы, которые ему не понравились, поскольку надеялся, что они будут более оптимистичными; тогда, зная, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, я сделал следующий ход, решил: всё, что можно растолковать коротко, не следует растолковывать длинно, и позвал его в комнату, где была бинокулярная лупа с подсветкой и образцы заполнителя; попросил председателя самому взглянуть; механик министерства, никогда не имевший дела с лупой, напоминающий микроскоп, стоял в нерешительности; сначала я сел на стул и навёл резкость на объект, затем пригласил его сесть и взглянуть в окуляр; сняв очки, 120-киллограмовый гигант очень осторожно сел и чуть наклонил голову к окуляру; понимая, что своими большими пальцами он не справится с наводкой на резкость, да и была опасность опрокинуть маленький прибор, он сказал: «А.Б., я буду смотреть, а вы регулируйте резкость»; когда он отчётливо увидел образец, я ножом стал отслаивать чешуйки и спросил его: «Вы видите, как они легко отслаиваются от этого на вид прочного камня?»; от напряжения шеф вспотел, но продолжал с интересом рассматривать, а когда я передал ему нож, он сам стал ковырять камень; затем я положил образец, который ранее пролежал в воде, и шеф убедился в его рыхлой структуре; мой эксперимент удался: председатель осторожно встал со стула, взял в руки сухой образец, на котором, естественно, чешуек не было видно, постучал им по столу, чтобы убедиться в прочности, и сказал: «Прочный, а на самом деле дерьмо»; это был вывод механика, который никогда не имел дела с бетоном; мне он сказал, чтобы печатал заключение. Вечером, пользуясь отчётами НИИЖБа, я подробно описал свойства шахтной породы, использованной в качестве заполнителя для бетона, в конце изложил своё заключение и рекомендации; утром машинистка отпечатала три страницы текста и я их вручил председателю, который внимательно всё прочёл и поблагодарил меня за работу; в 11часов на очередном заседании комиссии он выступил перед коллегами: «Товарищи, вы не знаете причины разрушения бетона, а я сам исследовал бетон и знаю, почему он разрушается и впредь будет разрушаться, потому что когда-то дурни-строители вместо местного гранита использовали в бетоне плохую шахтную породу, прискорбно, но это так»; после заседания он ещё раз меня поблагодарил и сказал, что я свободен.
На следующий день главный технолог стройтреста повёз меня к границе с Норвегией, это совсем близко; погранзастава находилась возле небольшого озера, с другой стороны которого были норвежцы; сопровождающий нас молодой офицер рассказал, что нередко в выходные дни командир норвежской заставы выходил на берег и звал своего друга, нашего командира, отобедать, полакомиться вкусной ухой и красной рыбкой; наш же закон о рыбнадзоре запрещал ловить рыбу в озёрах, об этом знали норвежцы и посмеивались. Офицер рассказал нам о недавнем случае нарушения границы; ночью каким-то образом школьник, сын большого городского начальника, повздорив с родителями, решил убежать за границу; пробрался через колючку (не везде же она без дыр, мальчишки всё знают), а утром наряд привёл его на заставу; норвежский командир не стал докладывать начальству, сообщил нашему и переправил мальчика обратно.
Недалеко протекала небольшая, но бурная речка, по центру которой проходила граница; по договорённости наши и норвежцы строили небольшую ГЭС (норвежцы – строительные работы, мы – гидроагрегаты), электроэнергию делили пополам. Я обратил внимание на рабочих, которые снимали использованную опалубку низа плотины, сбрасывали в воду, и река уносила её в море; на мой вопрос, почему не применяют второй раз опалубочные щиты, а ставят новые, норвежский прораб на сносном русском объяснил: сбрасывать в реку легко, а осторожно демонтировать щиты, складывать на берегу, ремонтировать их, оборудовать крепёжными болтами – это потребует значительно больших затрат, чем ст̀оят новые щиты.
Мне предстояло защищать диссертацию в НИИЖБе и чтобы не просить в НИИ отпуск за свой счёт, я, пользуясь благоприятным моментом, попросил председателя комиссии продлить командировку, чтобы я смог также повидать уже совсем старенькую маму в Ростове, шеф разрешил; я составил телеграмму в НИИ с просьбой продлить мне командировку на 10 дней в связи с производственной необходимостью, подписал её у шефа и отправил в Красноярск; из Мурманска вылетел в Москву.
LXIV
До защиты диссертации было ещё несколько дней; я разложил плакаты в комнате общежития и ещё раз повторил свой доклад; кстати, о плакатах, ещё ранее спросил Лагойду, можно ли, чтобы линии на графиках были цветными, ведь на чужих плакатах изображались чёрные линии; А.В. привёл мнение французов: «Зачем же были изобретены цвета, будет нелепостью не использовать их»; воспользовавшись советом, попросил художника кривые линии на графике сделать разного цвета; получилось красиво и, главное, их легко было анализировать, сравнивать.
15 марта в 14-00 первой защищалась по лёгким бетонам женщина из Баку; я через несколько минут вышел из зала, решил прогуляться по территории института; погода была тёплая, весенняя, таял снег; и вдруг, совсем не ожидая, меня начал бить мандраж: заколотилось сердце, но голова была ясная; старался унять овладевшее мною смятение, спрашивал себя, что такое со мной происходит; не понимал в чём дело, откуда взялось волнение; шагал между лужами, а мандраж не проходил; я обозлился, даже ругнулся; затем подбодрил себя напутственной речью: «Ты способен. Ты уверен. Ты можешь это сделать. Ты способен сделать это»; быстро пошёл к главному корпусу, и когда вошёл в зал, председатель сообщил результат предыдущей защиты: двенадцать членов за, против нет.
Был объявлен перерыв, в течение которого я прикрепил 22 плаката в два ряда по высоте и стал дожидаться момента начала защиты, никакого волнения у меня уже не было; и вот самый важный момент наступил, когда я начал доклад; переходя от плаката к плакату, чётко характеризовал полученные результаты исследований, хорошо ответил на вопросы; член комиссии д.т.н. Малинина язвительно спросила, что означают увеличенные фотографии структуры замёрзшего и оттаявшего бетона и зачем они на плакатах? Я спокойно дал обстоятельный ответ, но она сказала, что эти фото «за уши притянуты»; редко бывают взгляды, которые колют больнее, чем тот, каким она меня наградила. Затем в соответствии с процедурой были зачитаны мои данные, отзывы Красноярских трестов и начались выступления; первый оппонент Шишкин на защиту не пришёл, был зачитан его положительный отзыв; второй оппонент П.С.Костяев подробно остановился на новшествах в моей работе, слушали его внимательно; выступили мои руководители, Миронов и Лагойда, которые уделили основное внимание полученным ценным практическим результатам и разработанным мною рекомендациям для производственников; уж они-то знали высказывание В. Гёте: «Сильный ум, преследующий практические цели – лучший ум на земле». Председатель объявил результаты голосования: 10 за, 2 против, т.е. на принятом тогда жаргоне это означало, что мне «кинули два шара»; но важен был общий результат – 10:2 в мою пользу; в кулуарах я поблагодарил Миронова, Лагойду и Крылова, который сказал, что два шара – это даже хорошо, т.к. ВАК с подозрением относится, когда все члены комиссии единогласно за; такие диссертации часто отправляют на рецензии двум-трём учёным, следует разбирательство и из-за этого сильно задерживается утверждение ВАК и выдача диплома. Меня поздравили друзья, очные аспиранты, а Иркутская аспирантка Лагойды, Ольга Ларина вручила мне цветы; не могу выразить сладостного чувства, овладевшего мною в эту минуту.


