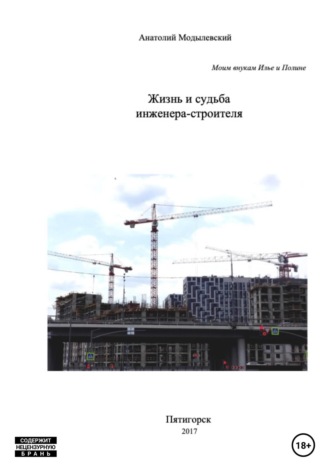
Анатолий Модылевский
Жизнь и судьба инженера-строителя
XV
В один из дней пребывания в НИИЖБе мне сообщили по телефону о смерти отца; бросив всё, я срочно вылетел в Ростов, куда приехал и Виктор из Краматорска; ещё год назад, когда отца, тяжело заболевшего положили в больницу на Сельмаше, я, будучи в командировке в Москве, приехал в Ростов и встретился с лечащим пожилым врачом Хентовым; это был старый человек, высокий, с седыми усами и седыми же волосами, похожий лицом на армянина, вежливый и спокойный; у него были глубокие и добрые синие глаза; я спросил Якова Самуиловича, чем можно помочь отцу, что я могу сделать? Доктор пожал плечами, сказал, что будет лечить, помощь не нужна. И вот теперь, до похорон, мы распределили обязанности: я пошёл к главному инженеру завода Ростсельмаш, он распорядился о памятнике; в механическом цехе с большим трудом выделили сварщика, к вечеру мы изготовили памятник, сверху которого рабочие установили красивую полированную острую верхушку; Виктор сумел в городской мастерской изготовить металлическую полированную пластину с фотографией и надписью, которую прикрепили к памятнику; гроб с покойником стоял в большой комнате нашей квартиры и люди непрерывным потоком шли прощаться с отцом; настал момент выноса гроба, сооружённого наспех из сырых досок; это была непростая задача, поскольку гроб длинный и очень тяжёлый (отец весил около 100 кГ), и вынести его с третьего этажа по узкой лестнице удалось лишь шестерым крепким мужчинам; на кладбище в мороз я сильно простудился и неделю проболел; улетая в Красноярск, в течение долгого полёта вспоминал многое из жизни своих родителей, ведь им, в отличие от моего поколения, пришлось вынести неимоверные трудности и потрясения 1920 – 50-х годов: голодную жизнь после революции, репрессии 30-х годов, войну и послевоенную жизнь на далёком Алтае; но, слава Богу, что в старости им, хотя и потерявшим здоровье, удалось всё-таки пожить нормально: не голодали, жили в тепле, радовались за детей и внуков, как говорится «был и стол и дом». Отец выполнил определённую миссию, пусть скромную и небольшую, он исполнил; совесть его была чиста перед Богом, собой и теми, кто его любил; потому в последние дни он был благостен и спокоен.
Оканчивался 1972 год, который дал мне маленькую надежду на успех; я летел из Москвы с мыслью, что теперь всё пойдёт хорошо; прибыв домой, был уверен, что начало положено; теперь задача заключалась в том, чтобы не дать счастью ускользнуть; но это можно было сделать только напряжённым трудом.
XVI
В январе 1973 г. в лабораторию прибыло пять молодых девушек, окончивших Орский строительный техникум; жили они в общежитии института и получали 80 рублей в месяц; почти все сотрудники отказались брать их к себе в качестве лаборантов; я взял троих, стал учить работать с добавками для бетонов; в этом хорошо помогала инженер Негадова Галина Александровна: среднего роста тридцатилетняя красивая женщина, иногда излишне напомаженная, спокойная, умная с правильной речью, проявляла себя хорошим специалистом; с молодёжью быстро нашла общий язык, тактично и терпеливо объясняла лаборантам суть работы; на первых порах я попросил её исследовать коррозию арматуры в свайных фундаментах, находящихся в агрессивной среде вечномёрзлых якутских грунтов; эти опыты увлекли её; честолюбивая Г.А. работала старательно и аккуратно; с этого момента у меня с ней начали складываться нормальные отношения, поскольку в начале моей работы она вела себя отчуждённо, приглядываясь к новому сотруднику; я никогда не допускал, чтобы она чувствовала себя подчинённой по отношению ко мне. У неё был критический, как вообще у инженеров, взгляд на всё; иной раз высказывалась резко, да и порой проявляла своё превосходство перед людьми; любила посплетничать и желчно высмеять, например, Пичугина, за его хамское поведение; довольно часто её охватывало пессимистичное настроение, однако, когда она говорила о своём сынишке, которого боготворила, то преображалась, не скрывала тёплых чувств к нему; муж её был офицером КГБ, и она подчёркивала, что его коллеги и друзья сплошь люди высокой культуры; я видел его только один раз, запомнил бесцветное лицо и штатскую одежду; накануне какого-то праздника он по просьбе жены подъехал на своих Жигулях к городскому холодильнику, где мы выдерживали на морозе бетонные образцы; они загрузили в багажник красную рыбу, которой всех нас угостило начальство.
Среди лаборантов выделялась серьёзностью Анна Сальникова, бывшая детдомовка; она не чуралась работой с химическими составами и бетонной смесью, а остальные тянулись за ней; я беспрестанно щупал пульс своим отношениям с ними и собственным ощущениям: всё это, конечно, мешало гладкому и лёгкому течению дня – надобно было спокойно и продуктивно работать. Теперь эксперименты можно было вести широким фронтом, ведь взятое направление было выбрано правильно; однако предстояло решить организационные проблемы и создать базу для непрерывной работы, поскольку результаты по прочности можно было получать лишь через 3-6 месяцев со дня изготовления образцов и выдерживания их на морозе; очень важно все этапы экспериментов выполнять качественно, чтобы они было достоверными, чистыми – этому постоянно я учил лаборантов.
Материальная база лаборатории была слабая: мало форм для изготовления образцов, не оборудованы бетономешалка для работы с малыми по объёму замесами, не было камеры для стандартного (по ГОСТ) выдерживания контрольных образцов, негде было хранить образцы на морозе в летнее время, не было химпосуды и некоторых приборов, отсутствовали запасы цемента и добавок, мелкого инструмента – всё это надо было быстро достать и наладить; но ради достижения основной цели я был готов взвалить на себя все эти заботы.
XVII
В первую очередь нам нужен был свежий, а не лежалый, цемент; я поехал в кабине трактора Беларусь с тележкой на Красноярский цементный завод; зам директора по снабжению сказал: «Шесть мешков цемента дать не могу, берите вагон»; заехали мы на территорию (проходная была пуста) и я обратился к рабочим, которые грузили мешки с цементом в ж-д выгоны; дал им денег на две бутылки водки, они тотчас забросили в тележку десять мешков цемента, который мы беспрепятственно вывезли с завода. Теперь предстояло ехать в Ачинск на АГЗ; написал письмо на завод от имени института с просьбой помочь с химпосудой, некоторыми приборами, поташом и СПС; когда пришёл к зам директору по науке Ш.Ф.Акбулатову подписывать письмо, он сказал, что письмо составлено неправильно; до этого я ещё никогда деловых писем с просьбами не писал и не умел это делать; Ш.Ф. объяснил, что излагая просьбу деловым людям, надо обязательно вначале объяснить цель, но так, чтобы она «зацепила» человека, а если этого нет, отказ обеспечен; пришлось мне несколько раз пересоставлять обращение, показывать Ш.Ф., который терпеливо объяснял и подправлял текст, пока письмо не получилось правильным; в дальнейшем я научился хорошо составлять различные письма, всегда помнил уроки Акбулатова. И ещё. Несколько позже, когда мы хотели совместно с НИИЖБ выпустить рекомендации для строителей и предварительно договорились об этом с С.А. Мироновым, тот замолчал и на наши письма не стал отвечать; это было странно, и тогда Ш.Ф. мне сказал: «Каждый человек имеет право на тайну и может не говорить, если знает о чём-то – это нормально, даже в семейной и общественной жизни такое право имеет каждый»; много позже, уже в перестройку, я вспомнил эти слова, когда Горбачёв ответил людям по поводу известного кровопролития в Тбилиси: «Об этом всей правды я не скажу никогда!», и я подумал, если это его тайна, так изволь, хотя бы молчать, ибо подобный ответ гражданам страны – верх цинизма; но я отвлёкся.
XVIII
В один из зимних дней я встретился утром с Петрусевым на вокзале, купили в киоске свежие газеты, а я ещё приобрёл для интереса малоформатную австрийскую газету на немецком языке; ехали в Ачинск три часа, беседовали, читали прессу, обнаружили в австрийской газете раздел с объявлениями о знакомствах; с этим, как и большинство советских людей, мы ранее не сталкивались, поскольку такое печатать запрещалось; я стал переводить с немецкого мужские и женские объявления, мы хохотали, нашли себе развлечение; кстати, в вагоне было холодно и в конце пути мы стали изрядно мёрзнуть; когда, подъезжая к Ачинску, решили пройти вперёд, чтобы выйти напротив вокзала и там согреться, обнаружилось, что в соседнем с нами вагоне было так жарко, что многие пассажиры ехали, сняв пальто и шубы. Впоследствии я часто попадал в подобные ситуации, мёрз, забывая опыт той зимней поездки в Ачинск.
На АГК зам директора комбината по снабжению отправил нас прямо на склад, предварительно позвонив туда; склад представлял собой огромный подвал под зданием заводоуправления; в помещении, где хранилась химпосуда, в том числе импортная, был страшный беспорядок; кладовщица посмотрела наш длинный список, сказала: «Мне некогда, можете сами искать, что вам надо», и ушла по делам. В предпусковой период АГК в ускоренном порядке снабжали разные заводы страны и зарубежные фирмы, поэтому кладовщики занимались приёмкой грузов, в том числе лабораторного оборудования, а на сортировку и комплектацию времени не было; склад химпосуды был переполнен, мы почти весь день провозились, отбирая всё нужное и укладывая в картонные ящики; набрали столько посуды, ареометров, термометров и пр., что обеспечили в своей лаборатории работу на многие годы. На следующий день в цехе соды и поташа я, объяснив мастеру цель визита и получив разрешение, с помощью рабочих лопатами отобрал прямо с транспортёрной ленты СПС, уложил её в шесть бумажных мешков; весь ценный груз был доставлен к нам в институт на попутном грузовике АГК, который использовался снабженцами в Красноярске.
XIX
В начале лета, когда я был в командировке, заехал в Ростов, прожил на 37-й несколько дней; все мы хорошо общались, в то время я был по признанию тёщи «любимым зятем»; мы готовились к отъезду в Красноярск, где нас ждали Галя и Кирюша; одним из любимых занятий маленького Саши был «батут» – оголённая панцирная сетка кровати, на которой он прыгал, не отрывая ног от неё, держась за спинку; гарцевал он на сетке вверх-вниз подолгу и с удовольствием, пока не надоедало; только позже мы поняли, что это была не забава, хотя при этом он мог смеяться и быть в хорошем настроении; как и любой ребёнок, Саша иногда капризничал, плакал и лучшим средством для успокоения был батут; безусловно, тёща, которая воспитывала его с пелёнок, лучше всех понимала, что это было нарушение психики, которое сгладилось с годами; но ещё долго, в т.ч. в школьные годы, Саша непроизвольно мог, стоя на полу в ванной или в своей комнате, чтобы никто не видел (стеснялся) подпрыгивать, не отрывая пальцы ног от пола, получая при этом большое удовольствие.
В Красноярск мы полетели втроём с тёщей и Сашей; из Москвы я взял тёще льготный билет по моему аспирантскому удостоверению и, таким образом, в семейной истории она осталась аспиранткой НИИЖБа; в аэропорту Домодедово перед взлётом в большом салоне ИЛ-18 стояла полная тишина; вдруг раздался довольно громкий голос трёхлетнего Саши: «Баба, я какать хочу!»; пассажиры оживились, заулыбались – это была для них разрядка, а тёща посадила внука на горшок в проходе между рядами кресел. Летом в Красноярске на Ульяновском Саша хорошо проводил время: возился в песочнице, изучал, вечно стоящую во дворе, машину УАЗ или молотком «ремонтировал» фанерный ящик, любил садиться отдыхать на «пунёк». В сентябре тёща и Саша вернулись в Ростов.
XX
Мне предстояло заняться оборудованием подвального помещения нашей лаборатории; я составил схему расстановки всего необходимого: лари для песка и щебня разных фракций, для красноярского и ачинского цементов, химдобавок, стеллажи хранения химпосуды и столы для приготовления водных растворов добавок, бетономешалка и расположенный за ней длинный и низкий стол, обитый тонким железом, на котором формовались бетонные образцы; небольшой вибростол для уплотнения бетонной смеси в формах – многого чего не было и предстояло сделать самим. Поскольку бетономешалка была большой ёмкости, она не подходила для небольших замесов, пришлось изготовить малую грушу, вставить её внутрь большой и прикрепить к основным лопастям бетономешалки; когда всё было сделано, мы начали срочно делать замесы, чтобы успеть воспользоваться холодами в конце февраля и марта для выдерживания образцов при отрицательных температурах; а с наступлением весны нам разрешили частично использовать 8-кубовую морозильную камеру, производства ГДР, которая находилась в испытательном зале института.
Контрольные бетонные образцы-кубики традиционно в нашем подвале хранились 28 суток в ящиках и при этом температура и влажность воздуха мало кого интересовали, т.е. нарушались требования ГОСТ при определении марки бетона. Я решил построить настоящую автоматизированную камеру нормального хранения (КНХ) образцов при температуре 18-22 градуса и относительной влажности воздуха равной 100%; потратив большие усилия и время, была построена хорошо освещаемая просторная камера, оборудованная полками, большим испарителем, укреплённым на потолке, вентилятором; температура регулировалась при помощи термопары и реле; поддерживалась она «паровозом» (на электроплитке при температуре в КНХ 18 градусов автоматически подогревался поддон с водой, а при 22-х градусах подогрев отключался); таким образом, всё было нами сделано по науке и в соответствие с требованием ГОСТ.
Летом Б.А.Крылов побывал в Красноярске, посетил НИИ и отметил преимущество нашей схемы, ибо пол камеры представлял собой металлический поддон с залитой водой, что обеспечивало 100%-ную влажность; поддон перекрывался деревянной решёткой, по которой ходили лаборанты; в НИИЖБе вода круглые сутки стекала сверху по стенам камеры; было там тесно, грязно и неудобно. Нашу камеру, которая была лучшей среди других в Красноярске, я с гордостью показывал вежливому, тактичному и доброжелательному Крылову, работавшему уже заместителем директора НИИЖБа; он спокойно выслушал, поблагодарил; а впереди меня ждала ещё не одна встреча с ним, и вот что любопытно: всякая новая встреча происходила в ином месте: Новосибирск, Иркутск, Москва, Братск; Б.А., безусловно, рассказал Миронову о нашей КНХ, дал ей высокую оценку и отметил достоверность полученных с её помощью результатов испытаний; это было очень важно, поскольку укрепляло доверие Миронова к полученным мною результатам исследований.
Здесь я хочу сразу отметить, что С.А. имел большой опыт работы с аспирантами,
его пристальное внимание ощущали на себе все, я особенно; он знал их ухищрения для приукрашивания (подчистки) результатов экспериментов в свою пользу, а не в пользу объективности научных данных; разум большого учёного позволял видеть связь общего с частным; С.А., быстро взглянув на таблицу с цифровыми данными, легко ловил недобросовестных исполнителей; помню, как-то, сидя рядом с ним, мы просматривали присланную на отзыв чью-то диссертацию; С.А. быстро находил в таблицах с полусотней цифровых значений подогнанные данные, показывал их мне, сокрушаясь халтурой; я приучил себя с самого начала достоверно указывать не только положительные и отрицательные результаты, но и всегда описывал методику их получения; поэтому в течение более шести лет общения с Мироновым, никогда не подделывал результаты и он, зная об этом, уже со второго года аспирантуры полностью доверял мне; его московские аспиранты-очники, которые стали моими друзьями, в следующий мой приезд говорили, что С.А. ставил меня в пример, не скрою, мне это льстило. Но, впрочем, к чему лукавить с самим собой? Работа над диссертацией привлекала меня поначалу не как научная работа, призванная осмыслить происходящие процессы в зимнем бетоне, а как погоня за положительными результатами, чтобы оправдать поставленную цель; но это было только на первых порах, т.е. в течение полутора лет; после достижения положительных результатов и приобретения достаточных знаний, я почувствовал вкус к научной работе и потребность извлечь из неё практические рекомендации для строительства.
XXI
Для выполнения экспериментальной части диссертации мне потребовалось найти много металлических сборно-разборных стальных форм для изготовлений бетонных образцов; где только я их не одалживал: во ВНИИГе, на заводах ЖБИ, КЖБМК, КЗСК и никто не отказывался мне помогать. Помню, приехал я в лабораторию КЗСК, где заведующей работала выпускница РИСИ Лина Андреева, Галузинская по мужу; встретились как старые друзья, ведь на целине в 1957 г. строили клуб вместе (в прежних главах подробно писал об этом); она передала мне свободные формы и мы пошли обедать в столовую КЗСК; там большое удивление принесла мне встреча с бывшим нашим прорабом на строительстве объекта М8 Иваном Андреевичем (о нём тоже писал ранее), который теперь на КЗСК работал в ОТиЗе; прошло без малого десять лет, я его сначала не узнал, а И.А. окликнул: «Борисович!»; в первое мгновение я подумал, что он в обиде на меня за то, что я, по существу, выгнал его с участка за плохую работу и частую пьянку; но я ошибся – он приветствовал меня с большой радостью, расспрашивал, похвалился, что работает в отделе и у него всё нормально; я тоже порадовался за него, похвалил, он был хорошим добрым мужиком, но вредная привычка чуть не сгубила его.
В поисках форм для изготовления бетонных образцов мне пришлось обратиться в Красноярской филиал ВНИИГа им. Веденеева, который располагался недалеко от нашего НИИ; мне очень повезло, поскольку завлаб Епифанов Анатолий Павлович (впоследствии он стал директором института) и с.н.с. Гаркун Леонид Михайлович доброжелательно отнеслись ко мне, заинтересовались моей тематикой; они разрешили воспользоваться холодильниками и передали мне на время около десяти форм-тройчаток, чем сильно выручили меня.
Итак, после многомесячной подготовки наступило время для постановки основных экспериментов, сложность которых заключалась в одновременном изготовлении большого количества образцов (часто более сотни) с различными вариациями видов и количеств добавок. Наша группа начала активно изготавливать бетонные образцы, чтобы можно было получить стабильные результаты по прочности в процессе твердения; дело было поставлено на поток, «Аппетит приходит во время еды», – посмеивался я над собой. Едва заканчивалось проектирование следующего большого эксперимента, как мой темперамент тут же заставлял развернуть самую бурную деятельность; слава Богу, что моя группа, состоящая из лаборантов и инженера Негадовой была дружна; вместе со мной они выполняли эту важную работу, которую надо было обязательно окончить до конца рабочего дня и выставить многочисленные тяжёлые формы-тройчатки с образцами на мороз; а также контрольные – в камеру нормального твердения, расположенную в нашем подвале; хочу обязательно отметить: за все четыре года выполнения очень объёмных экспериментов, сбоя ни разу не было – слава моим трудягам-лаборантам! Я ранее отмечал лаборантку Анну Сальникову; эта девушка чуть выше среднего роста, с добрым лицом, волевая, серьёзная и энергичная, трудолюбивая и ответственная, способная увлечь людей, как-то естественно стала лидером в нашей группе; другие лаборанты и работавшая вместе с ними Негадова сразу оценили Анну, её скромность, честность, неравнодушие, отзывчивость, и постоянную готовность помочь; была она не болтливой и презирающей сплетни, признавала свои ошибки, хотя порой проявляла упрямство; обладала развитым чувством справедливости, понимала шутку и смеялась задорно; я снова вспомнил: «по смеху можно узнать человека, и если вам с первой встречи приятен смех кого-нибудь из совершенно незнакомых людей, то смело говорите, что это человек хороший». Анна вышла замуж за Владимира Борисовича Гордеева, поступившего на работу в НИИ после службы в армии; хороший скромный парень, в которого она влюбилась; сыграли шумную комсомольскую свадьбу; со временем в семье родились два мальчика. Прошло более тридцати лет, я уже в семидесятилетнем возрасте последний раз заехал на неделю в Красноярск по пути из Иркутска в Пятигорск; в один из вечеров встретился с Гордеевыми в их квартире; Аня стала теперь Анной Михайловной Гордеевой, мамой двух красивых и успешных сыновей, бабушкой своих внуков; она пригласила свою подругу, и когда та вошла в комнату, я с трудом, но всё-таки узнал бывшую лаборантку Надю Даньшину, которая в те далёкие времена работала в группе лёгких бетонов; Надя крупнее Ани, её круглое лицо с приятной улыбкой выдавало истинную русачку; в лаборатории была она поначалу наивной, чрезмерно доверчивой, постепенно освоилась, все стали уважать её за позитивный настрой, незлобивость в характере и хорошее чувство юмора; заметно было, что она любила людей, и они любили её. Теперь я увидел солидную женщину, сын которой работает успешным менеджером; я взял с собой фотоаппарат и Володя сделал несколько памятных снимков; было приятное общение со старыми друзьями; мне ещё понравилось, как Надежда сказала: «… я теперь работаю в строительной фирме, мне очень нравится эта работа, мы строим, я вижу результат своего труда».
Возвращаюсь к работе в НИИ. Однажды после формования и уплотнения на вибростоле бетонных образцов, мы по цепочке передавали друг другу тяжёлые стальные формы-тройчатки, доносили их до окна приямка и выставляли на мороз; это делалось быстро, чтобы в тёплом подвале бетон не схватился; кто-то нечаянно острым углом формы ударил меня в спину; ночью возникла довольно большая опухоль, которая осталась на всю жизнь; иногда побаливала, особенно когда её чем-нибудь заденешь; через пять лет в Ростове я хотел её удалить, посоветовался с хирургом, который сказал: «Если эта доброкачественная опухоль вам не мешает, лучше не трогать»; возможно, он хотел предостеречь о худших последствиях после операции, рак или ещё что-то нехорошее.
XXII
Теперь осталось решить последнюю большую проблему: где хранить изготовленные образцы в летнее время при отрицательных температурах? Холодильных камер, в которых можно было хранить образцы 1-3 месяца при постоянной температуре минус 15 градусов, ни в нашем, ни в других организациях не было; я позвонил в Новосибирск в институт СИБЗНИИЭП к.т.н. Валентине Смелик, которая сообщила, что они хранят образцы бетона с добавками в городском пищевом холодильнике; это был выход, ведь Красноярский холодильник находился недалеко от нас, рядом с заводом телевизоров. Я легко договорился с начальством, поскольку запасов мяса в те годы почти не было и свободного места в камерах полно. В лаборатории мы изготовили деревянный ящик с толстыми стенками, заполненными пенопластом, приобрели в магазине тележку с велосипедными колёсами и быстро доставляли отформованные образцы в холодильную камеру постоянного холода минус 15 градусов. Кстати, я дома сделал такой же, но небольшой ящик, в котором ранней весной при оттепелях прекрасно хранилась большая кастрюля с замороженной солёной капустой.
Самая первая транспортировка образцов на тележке отличалась своеобразием: девушки-лаборанты выкатывали тележку из институтского двора и, выезжая на Свободный проспект, останавливались, говоря: «А.Б., вы идите с тележкой вниз по проезжей части (это под уклон примерно 150м), а мы будем идти по тротуару, чтобы наши знакомые парни случайно не увидели, чем мы занимаемся». Делать нечего, когда я миновал проспект, девушки меня сменяли, шли переулками к холодильнику; также мы проходили и обратный путь порожняком. На проходной городского холодильника нас уже знали и пропускали, а с кладовщиками, которых я заверил, что мясо мы воровать не будем, легко было договариваться: они открывали двери камеры, мы быстро перегружали образцы в картонные ящики и удалялись; через проходную везли пустой ящик открытым. За три года у нас с кладовщиками конфликтов не было, только уважительные взаимоотношения; один раз накануне 8 марта 1974 г. мы воспользовались привилегией: с разрешения зам директора нам продали несколько килограмм вкуснейшей слабосолёной стерляди, которая, как и другая «рыба не для всех», хранилась в особой камере, её открывали только в присутствии ответственного лица из администрации. И ещё. В этот же день, минуя проходную, мы заметили перед ней вереницу автомобилей «Волга» и первой была машина ОБХСС со своими опознавательными знаками (следили за хищениями). Идя вдоль машин, я вдруг увидел знакомого по былым временам начальника УМ-2 Боровлёва (о нём писал ранее), стоящего в очереди возле своей «Волги»; дело прошлое, поздоровались, но говорить было не о чем.
XXIII
Для больших экспериментов всё было налажено и работала наша группа слаженно; я проектировал и рассчитывал очередной эксперимент, давал задание лаборантам и Негадовой на подготовку: чистка форм и всего оборудования, приготовление растворов добавок, взвешивание цемента и инертных и т.д.; эта несложная, но точная работа, когда можно было и немного отдыхать, длилось обычно несколько дней; но в день изготовления больших серий образцов все вместе со мной, переодевались, спускались в подвал и дружно работали без отдыха и без обеда, т.к. сразу требовалось быстро отвозить образцы в холодильник; после возвращения в институт, я отпускал лаборантов домой, завлаб не возражал. Сам переодевался в чистое, и продолжал работать, сидя в лаборатории за письменным столом. Когда мы ещё только начинали работать с бетонной смесью, для меня лично встал вопрос, где можно переодеваться? Лаборантам было проще – они закрывали комнату на ключ, никого не впускали, и переодевались. Не буду же я портить свою одежду, работая в пыли и с бетонной смесью, хотя другие мужчины работали в чистом и пачкали свою одежду (Рюмин, Петрусев, Шевченко). В лаборатории имелась узкая комнатка-пенал, бывший туалет с отключённой водой, в котором находился разный хлам; я всё вычистил и это место стало не только моей раздевалкой, но и небольшой кладовкой; принёс из дома списанную одежду и в ней смело работал в подвале. Кстати, однажды сотрудник какой-то лаборатории привёз из турпоездки по Австрии журнал «Плейбой»; давал некоторым на несколько минут полистать в тайне от всех; это же было опасное время, когда КГБ вербовало стукача в каждом, даже маленьком коллективе, в нашей и других лабораториях они были; я тоже попросил журнал, сказал, что посмотрю, запершись в своей кладовке; первый раз в жизни рассматривал любопытные картинки, меня поразило, прежде всего, высокое качество цветных эротических фотоснимков, какого не было ни в одном из советских журналов; детали были так проработаны, что каждый волосок на теле был отлично виден; вернул я журнал и заверил, что никому об этом не скажу, кладовка помогла.
XXIV
В НИИ ежегодно печатались сборники трудов со статьями, посвящёнными результатам последних исследований; мне тоже нужны были публикации, без которых защита диссертации невозможна; я внимательно ознакомился со статьями в старых сборниках и начал описывать свою выполненную работу; как всегда при изложении своих мыслей, начало – это самое трудное; написал несколько предложений, они явно не вытанцовывались, стал улучшать, снова не то, муза, как известно, капризна; почему всегда бывает так трудно начинать? Работа не клеилась, всё не нравилось – просидел с бумагами полдня – безрезультатно, ведь никто этому меня не учил. В обеденный перерыв встретил Лиду Роман; когда-то в Братске мы трудилась вместе в СМУ ТЭЦ на строительстве; теперь в лаборатории теплотехники, в которой работали Хворостовская, Гавриш и её руководитель Коновалов, она завершала диссертацию. Я поделился с Лидой неудачным опытом; после перерыва она попросила рассказать, чем я занимаюсь; выслушав, сказала: «У тебя много хорошего материала для статьи, но отсутствует навык что-либо описывать»; Лида по собственному опыту знала и объяснила мне, что сначала не надо обращать внимание на оформление, стилистику и качество только что написанного; наоборот, надо просто писать, пусть и коряво, всё, что имеется в голове и хочется изложить, т.е. следует «выплеснуть» на бумагу все данные для статьи, которые накопились, в т.ч. свои мысли о результатах выполненных экспериментов и выводах; при этом не надо ничего стесняться, ведь это личная закрытая лаборатория пишущего; затем надо не спеша заняться отделкой текста, показать статью специалисту по бетону, который даст замечания и напишет отзыв, затем ещё раз подработать текст, написать аннотацию (этого слова раньше я вообще не слышал) и сдать статью в редакционную комиссию сборника. По совету Лиды я вечером дома «выплеснул» на бумагу из головы весь материал, который хотелось изложить в статье, и в течение недели окончательно оформил её; таким образом, Лида научила меня писать, за что я ей безмерно благодарен; в будущем использовал её метод во всех 45-и своих публикациях и научных отчётах.
XXV
В 1974 г. по результатам своих исследований и внедрения я разработал рекомендации по применению противоморозных добавок для Красноярских строителей, и они были изданы под грифом нашего НИИ и НИИЖБ; документ очень важный для успешной защиты диссертации; я поставил свою фамилию первой – за ней Миронов, Лагойда и завлаб Замощик, хотя он к работе не имел отношения; но я это сделал в порядке подхалимажа, поскольку наши отношения к тому времени начали портиться. Однако самой важной публикацией, которой горжусь, была моя большая статья во Всесоюзном журнале «Промышленное строительство», подписанная Мироновым и мною (без подписи С.А. она вряд ли была бы опубликована из-за большого количества статей, скопившихся в редакции). Кроме СССР этот журнал, как и «Бетон и железобетон», неизменно выписывали учёные многих стран; в этом я убедился в 1975 году во время международного симпозиума по зимнему бетонированию, беседуя с проф. Скейлтоном из Вашингтонского института бетона, профессором Середой из академии наук Канады и профессором Бергстрёмом из Стокгольма. Когда первое преклонение перед печатной строкой прошло, я почувствовал свои недостатки, и стал более внимательно подбирать слова и выражения для раскрытия сути явления при описании экспериментов.
XXVI
Опыт научных Советов в НИИ, на которых я старался присутствовать, помог вырабатывать научный подход к решению любых проблем; к сожалению, как показал мой жизненный опыт, таким подходом не обладают производственники, и это естественно, поскольку им просто «некогда думать», да и читать литературу, чтобы научиться научному подходу, который имеет свои принципы; а ведь слияние производственного и научного подходов при решении производственных проблем даёт наилучший результат. С.А.Миронов из опыта своей деятельности отлично это понимал; в военные годы ему пришлось на Урале заниматься непосредственно производственными проблемами при зимнем бетонировании ж/б конструкций цехов, возводимых в срочном порядке для военного производства; и после войны он активно участвовал в восстановлении нашей военно-морской базы и города Севастополя. Ещё в 1968 г. на совещании в Красноярске в своём генеральном докладе он проводил мысль о том, чтобы в науку шли производственники, имеющие хороший опыт; как мне рассказывал Лагойда, на совещаниях в лаборатории, Миронов приводил в пример мою работу и отмечал своим сотрудникам, что, несмотря на начальные отрицательные результаты, я сумел всё-таки решить ряд проблем и переломил ход исследований в нужную сторону.


