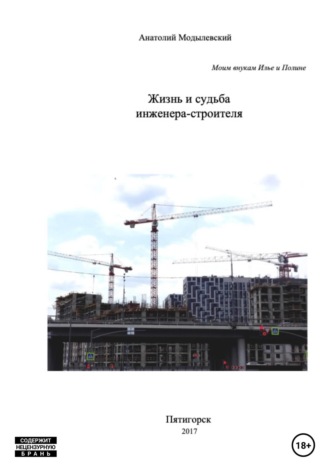
Анатолий Модылевский
Жизнь и судьба инженера-строителя
VII
Сразу пошёл в лабораторию к Миронову, сказал ему, что в заочную аспирантуру поступил и хочу делать диссертацию под его руководством; С.А. спросил о ближайших планах, я был к этому готов и рассказал, что намерен делать в этом году; выслушав, он направил меня в сектор по исследованию и применению химдобавок для бетонов к руководителю, к.т.н. Александру Васильевичу Лагойде, которому я также изложил свой план. А.В. весьма сдержано встретил новичка, а сотрудники Евгений Ухов и Борис Усов, сидевшие здесь же в тесном кабинете, настороженно на меня поглядывали; когда я беседовал с А.В., Ухов сидел прямо, прислушивался, его уши вздрагивали. В дальнейшем я ближе познакомился с коллегами; Евгений Ухов был даже красивый собой, но производивший какое-то неприятное впечатление: скрытный, угрюмый, подозрительный, завистливый, нахмуренный, глядит исподлобья; у него были чёрные волосы, белая кожа, лицо круглое, гладкое и, то ли совершенно непроницаемое, то ли попросту пустое; глаза голубые, как лёд, от которых ничего не ускользало, и в которых ничего нельзя было прочитать; он был среднего роста, неспортивный, рыхлый; когда я однажды обратился к нему с каким-то вопросом по применению добавок (ведь он был одним из авторов Указаний для строителей, изданных НИИЖБом), он высокомерно открыл таблицу в приложениях, намекая, чтобы я сам разбирался; больше я никогда не обращался к нему за помощью; был он каким-то безрадостным флегматиком.
Борис Усов по внешности и характеру был полной противоположностью Ухову; ростом выше среднего, худощавый, спортивный парень; характер сангвинический, открытый, приветливый, отзывчивый; позже я понял, что оказался конкурентом Ухову, который будучи соискателем, делал диссертацию по противоморозным добавкам уже около пяти лет, но никак не мог её окончить, хотя имел публикации; симпатичный мне Боря Усов занимался тепловой обработкой бетона; с ним мы сдружились; позже он стал работать в отделе информатики и стандартизации, но связь с ним не прекратилась.
А.В.Лагойда, который был выпускником МХТИ, дал мне ознакомиться со своей диссертацией, в которой наиболее полно была выражена суть механизма взаимодействия поташа с минералами цемента в бетонах, твердеющих при отрицательных температурах; полдня я бегло знакомился с этой научной работой; впоследствии она стала для меня образцом написания диссертации, но об этом ниже; получив напутствие своих научных руководителей С.А. Миронова и А.В. Лагойды, взяв в лаборатории научные материалы и нормативные документы по применению химдобавок в бетонах, а также список рекомендованной литературы, я отбыл в Красноярск; рассудил просто: попробую (помнил «если вы попробуете, у вас есть два варианта: либо получится, либо нет; а если вы ничего не будете делать, то вариант только один»), если за год успеха не будет, уйду из НИИ и буду работать на производстве.
Обучение в аспирантуре имело некоторые важные для меня льготы; во-первых, в удостоверении не было указано, что я заочник и поэтому мог летать на самолёте за 50% стоимости билета, а однажды, когда я был в служебной командировке, по моему льготному аспирантскому авиабилету летела со мной в Красноярск тёща с маленьким Сашей; во-вторых, согласно постановлению правительства, заочному аспиранту, где он бы не работал, предоставлялся один свободный день в неделю (т.н. библиотечный день); я этой льготой почти никогда не пользовался, но мои руководители в НИИ знали о существовании свободного дня; через три года перед защитой отдел аспирантуры помог мне бесплатно отпечатать в типографии реферат и, главное, предоставил мне институтского художника, который прекрасно выполнил 22 плаката, что стоило бы у частника очень больших денег.
В конце командировки предстояло подписать отзыв на научно-технический отчёт по якутской теме; в лаборатории коррозии меня принял В.М.Москвин; теперь я впервые лично познакомился с ним: он был бодр и великолепно выглядел; полистал отчёт со снисходительной улыбкой, и отправил меня к Иванову; при этом взгляд его был холодный и твёрдый, как угол чемодана; я не стал напоминать ему о публикации 1936 года, когда он, молодой учёный, преждевременно остановил свои исследования по химдобавкам; подумал, что возможно ему это напоминание будет неприятно услышать, да и посчитает, что я хвалюсь. Позже, бывая в НИИЖБе, я видел, как свои 70 лет В.М. носил с небрежной лёгкостью, сбегал по ступенькам парадной лестницы с третьего этажа главного корпуса института; видимо, у него не было большого желания показывать всем, как сильно он постарел; не хотел, чтобы его запомнили дряхлым, ковыляющим стариком.
На следующий день я встретился с Фёдором Михайловичем Ивановым в его кабинете; рассмотрел его внимательно; это был элегантный и сильный мужчина лет пятидесяти; высокого роста, широкоплечий и статный с добрым лицом и мягкой улыбкой; он просмотрел отчёт и подписал отзыв; мы разговорились, я его спросил о случаях коррозии бетона (т. н. белая смерть бетона); он рассказал о своей работе в командировке на Дальнем Востоке; в шхерах, где стояли подводные лодки, несущая бетонная облицовка со временем стала так сильно коррозировать, что выделяемые из бетона белые порошкообразные новообразования приходилось убирать при помощи лопат; при последующем ремонте применялся гидрофобный цемент для жёсткого и хорошо уплотняемого бетона. В последующем при частых наездах в НИИЖБ, я постоянно встречался с симпатичным Ивановым; мы здоровались, он всегда приветливо улыбался; я вспоминал свой промах на экзамене и его смех; «о человеке легче всего судить по смеху и походке»; его, замечательного человека, походка была ровна и спокойна.
VIII
В июне Галя с Кирюшей уехали в Ростов и оттуда на море в Леселидзе, где она работала воспитателем в группе малышей Ростовского пионерлагеря «Солнечный»; Кирюшу определили в старший отряд. В августе я пошёл в отпуск; кстати, в те времена, надо было обязательно использовать годовой отпуск, иначе он пропадал; т.е. не брать отпуск по причине производственной необходимости и накапливать отпуска, как это имело место на строительстве, не разрешалось. Я на ИЛ-18 полетел в Сочи, чтобы оттуда прибыть в Леселидзе; хорошо запомнилась посадка для дозаправки самолёта в Оренбурге: когда вышли из охлаждаемого кондиционером салона самолёта на трап и пошли к зданию аэровокзала, сразу попали в жару плюс 45 градусов в тени, дышать было очень трудно.
В самолёте я сидел слева у окна, рядом со мной школьница – старшеклассница, круглолицая, румяная, со светло-русыми волосами, гладко зачесанными за уши, которые у ней так и горели; своими большими глазами с удивлением посмотрела на меня, когда я садился; улыбка её была совсем детская и очаровательная, а голубые глаза – чистые, как кристалл; через некоторое время к ней подошёл командир экипажа, её отец, мужчина громадного роста, крепкий, широкоплечий, статный, настоящий гигант, сильный и довольно красивый; он сказал, что сейчас будем пролетать над Эльбрусом и можно всё хорошо рассмотреть при ярком солнце; мы прильнули к иллюминатору, смотрели на снежные шапки, склоны Эльбруса с большими трещинами в ледниках, разглядели зелёное Баксанское ущелье; через полчаса приземлились в Адлере, оттуда на автобусе я прибыл в Леселидзе. Мы с Галей сняли комнатку в домике, расположенном напротив лагеря через дорогу и хорошо отдыхали; съездили в Гагры, где побывали впервые; посетили знаменитый ресторан Гагрипш, полностью занятый интуристами, но на самом верху нашлось местечко и для нас; побывали в Сочи, обедали в ресторане «Каскад», где насладились вкусным кавказским мясным блюдом, приготовленным в керамических горшочках; затем отправились в дендрарий. Вернувшись в Ростов, несколько раз всей семьёй и Галиными родителями проводили время на Дону; переходили протоку по понтонному мосту на 29-й линии, затем шли через остров на хороший песчаный пляж основного русла Дона, где была чистая вода; все, в т.ч. маленький Саша, купались, играли на пляже; позже устроились на базе отдыха завода «Красный Аксай», где с нами жили тётя Тася Рябцева с внучкой Наташей Кувичко; по возвращении в Красноярск экипировали Кирюшу, который первого сентября пошёл в школу; учился в Роще до нашего переезда в Северо-Западный микрорайон
.
IX
Осенью в Красноярск из Краматорска приехал с коллегами по работе мой брат Виктор в командировку на завод Сибтяжмаш; мы были рады повидаться, вместе в выходной день поехали на строительство КГЭС; им очень понравилась природа и живописная дорога к Дивногорску, огромная плотина самой большой в стране электростанции и приготовленные к монтажу многотонные лопасти гидроагрегатов, доставленные из Ленинграда по Северному морскому пути и далее по Енисею на стройку; мы выбрали в тайге местечко, пообедали, чем Бог послал, хорошо выпили, отметив нашу встречу.
Поступив в аспирантуру и получив напутствие руководителей, я наивно подумал, что успех уже похлопал меня по плечу; однако начав выполнять эксперименты с противоморозными добавками в сочетании с известными пластификаторами CCБ и СДБ, получить хорошие результаты по удобоукладываемости бетонной смеси не удавалось; публиковать эту работу не было смысла; пробовал увеличивать количество СДБ сверх рекомендованной нормы в 0,15% массы цемента до 0,25%, но улучшений не было; вычертил на двух больших листах миллиметровки графики с неутешительными результатами экспериментов и прибыл в лабораторию Миронова, чтобы доложить и получить помощь; С.А. собрал основных сотрудников в своём кабинете, я подробно рассказал о работе. Как же я был наивен, думая, что мэтры мне что-то подскажут, укажут на ошибки, помогут советом, как действовать дальше, но меня выслушали в молчании; С.А. сказал, что пока всё плохо, и надо работать дальше; эта неудача сильно меня обескуражила, но удар, несмотря на его тяжесть, всегда можно пережить; «Без м̀уки нет и науки», – говорил мне Лагойда; в общем, его напутствие было примерно следующим: «Отправляйся, и без хороших новостей не приезжай»; вернулся я в общежитие расстроенным, а весь следующий день провёл в библиотеке, где собрал всю литературу по добавкам в бетоны, в т.ч. и пропаренных на заводах ЖБК; я снова внимательно посмотрел в маленькой брошюрке, изданной в 1936 г. В.М.Москвиным, его исследования по применению добавки хлористого кальция вместе с ССБ; обратил внимание: на графиках роста прочности пропаренных бетонных образцов, она увеличивалась по мере увеличения количества ССБ, что позволяло снизить расход цемента, но в определённый момент при дозировке 0,2% массы цемента происходил небольшой спад прочности бетона, и Москвин прекратил опыты, остановился и не пошёл дальше, считая, что увеличение количества ССБ отрицательным образом повлияет на прочность бетонных изделий. В одном из сборников докладов я обнаружил статью ленинградского исследователя, который на заводе ЖБИ занимался добавкой хлористого кальция с СДБ; он смело увеличивал количество пластифицирующей добавки до 0,3 – 0, 5% и доказал, что прочность бетона не снижается. В моём случае добавки поташа и содопоташевой смеси применялись не для пропаренного бетона при изготовлении сборных конструкций, а в монолитном бетоне, твердеющем на морозе. В Красноярске решил попробовать увеличить количество добавки пластификатора СДБ и посмотреть её влияние на удобоукладываемость и прочность бетона; переговорил с Лагойдой по телефону, он посоветовал продолжить эксперименты, используя этот опыт; и я начал широким фронтом при многочисленных вариациях искать оптимальное количество СБД в бетоне с добавками, твердеющими на морозе, доводя количество СДБ до 0,75 – 1,25%; попытка оказалась успешной в плане требуемой удобоукладываемости бетонной смеси; слава Богу, температура в конце февраля была низкая, мы выносили отформованные образцы бетона сразу на мороз; после месячного выдерживания при отрицательных температурах, можно было определить набранную прочность и сравнивать её с прочностью контрольных образцов, твердевших при стандартном хранении в соответствии с ГОСТ, и сделать выводы; оставалось ждать и преодолевать трудности: «Per aspera ad astra» – «Через тернии – к звездам» (из Овидия: «через трудности к высокой цели»); много было поставлено опытов, ведь моя работа над диссертацией требовала, чтобы я отдавал ей всё своё время и силы.
X
Я продолжил эксперименты с бетоном; иногда во второй половине дня посещал заседания учёного Совета института, которые проходили регулярно под председательством зама по науке Акбулатова; теперь разглядел его лучше, чем во время первой беседы, когда он сидел за письменным столом: был он немного выше среднего роста, несколько полный, даже рыхлый, совершенно неспортивный; выслушав докладчика, умный и рассудительный руководитель, сначала просил присутствующих задавать вопросы, затем говорил сам, но медлителен был во всём: в движениях, в речи; отличался скромностью и осторожностью, мне он всё больше нравился.
Я слушал доклады ведущих научных сотрудников о результатах исследований; в это время, когда я ко всему, что совершалось вокруг, так жадно приглядывался, эти заседания, естественно, производили на меня сильнейшее впечатление; я нетерпеливо стал вникать во все подробности этих новых для меня обсуждений, задавал вопросы и слушал, слушал…; впрочем, помню, я тогда же сделал одному докладчику, кажется Куземе, странное замечание, за верность которого особенно не стою, по поводу конструкции окон для Севера; неясность в видении этой проблемы не смущала; как бывшего производственника, меня в основном интересовали вопросы использования полученных результатов в строительстве; я, новичок, сидя в последних рядах и слушая доклады, считал многие проблемы совершенно ясными, мысленно подвергал авторов критике, но не высказывался; со временем, когда в работе сам столкнулся с решением научных проблем, ощутил своё невежество при поверхностной оценке исследовательских работ сотрудников, докладываемых на Совете; как говорится: «Дураку всегда всё ясно»; при этом постоянно ощущал, что мои и их представления – это разнонаправленные векторы; имея немалый производственный опыт и при этом преувеличенное честолюбие, я всегда был далёк от мелочного тщеславия, но в тот период жизни приятно тешился сознанием своего превосходства; хотя, что я знал об этой жизни в науке и что эта жизнь знала обо мне? Прежде всего, я думаю, они щадили мои чувства, понимая, что я должен стыдиться этого, как стыдились бы они сами, будучи на моём месте, впервые попав на Совет. Я не считал себя дураком, знал высказывание Джордано Бруно: «Особенностью живого ума является то, что ему нужно лишь немного увидеть и услышать для того, чтобы он мог потом долго размышлять и многое понять»; поэтому, слушая отчёты исследователей, читая книги и статьи учёных по цементу и бетону, я чувствовал своё глубокое невежество; в любую свободную минуту налегал на изучение нужных мне материалов, особенно дома, разбираясь с ними до позднего вечера; мне была необходимо постоянная, требующая напряжения всех сил работа.
На Советах выделялся зав одной из крупных лабораторий Ковальчук, долговязый молодой симпатичный мужчина, очень энергичный и страшно худой; к сожалению, он рано ушёл из жизни. Из симпатичных мне людей были разновозрастные супруги, работавшие вместе (имя и фамилию не помню); он был значительно старше жены, занимался вопросами канализации; однажды я спросил про наземный большого диаметра ж/б протяжённый коллектор, который начинался от Зелёной рощи, миновал пос. Инокентьевский, и далее, уже под землёй, соединялся с городской канализацией; ответ я услышал: «По данному канализационному коллектору все нечистоты из большого микрорайона идут в очистные сооружения; и добавил: «я ведь всю жизнь занимаюсь говном»; его жена Валентина, невысокого роста, полненькая блондинка, обладала спокойным и мягким характером; славянское лицо её нравилась мне, часто мы обедали вместе за одним столом.
Работал в одной из лабораторий некто Дюндик, крупный мужчина высокого роста, полный брюнет с глазами навыкате и в странном костюме; был он с тупым, совершенно бессмысленным лицом и с дурацкой приклеенной улыбкой; какой-то нескладный, ходил в огромных ботинках, чем занимался, не помню, а вот необычная внешность его в памяти осталось; да, еще запомнились выпуклые линзы в его очках, отчего и глаза казались выпуклыми; человеческая природа явно повернулась к нему своими не особенно привлекательными и, во всяком случае, далеко не божественными сторонами; когда я впервые увидел этого энергичного амбала, сильно удивился, подумал, как он попал в НИИ, ведь он должен был, по крайней мере, вкалывать на производстве или заниматься штангой, боксом или борьбой; мне понравился решительный блеск в его глазах, но не понравилась его грубость; кивнув в знак приветствия, я прервал рукопожатие.
Посещая фотолабораторию, находящуюся в подвале, познакомился с молодым тридцатилетним мужчиной, штатным институтским фотографом; позже сдружился с ним на почве приобретения за пару бутылок водки списанного универсального увеличителя, чтобы дома мог печатать фотографии с широкой плёнки от моего фотоаппарата «Искра»; я был благодарен ему за мелкие услуги, а вскоре заметил, что он сильно выпивает и почти ежедневно во второй половине дня бывает никаким; как-то он просил занять денег на водку, я отказал; совсем немного времени прошло, и я узнал, что он умер от цирроза печени.
Выше я упомянул симпатичного мне Кузему, с которым позже познакомился; он проектировал окна зданий, расположенных на Крайнем Севере; часто, выходя из ворот института, и направляясь вечером домой, я с интересом наблюдал, как он и его жена прогуливались по тротуару, катили перед собой детскую коляску; молодая мама, красивая женщина, привлекала моё внимание.
XII
Со временем меня стала угнетать мысль о, возможно, неудачно выбранной теме диссертации; дело в том, что с самого начала работы в НИИ я сказал себе, что если за год не добьюсь успеха, то не имеет смысла вообще работать за 157 рублей в месяц и держать семью на голодном пайке; жили мы в то время небогато: о денежных проблемах той поры свидетельствует даже то, что Кира помимо школьной одежды, ходил в латанных-перелатанных штанах и ремонтированной обуви, а вместо зимнего пальто Галя перешила ему старый плащ и прикрепила ватную подстёжку; сама одевалась скромно и в основном носила ещё ростовскую одежду; у меня был один пиджак, в котором ходил на работу; другую одежду также донашивал; зимой в морозные дни я носил т.н. «гэсовку» – тёплую шубу с прочным плащевым верхом, толстой подкладкой из натуральной овчины и меховым воротником; ей было уже порядочно лет, носил ещё в Братске; мы решили самостоятельно и экономно почистить её; кто-то подсказал, что это можно сделать в слабом водном растворе поташа (углекислый калий); в ванной приготовили раствор и на ночь уложили шубу мехом вниз; утром решили почистить мех и увидели, что он некоторыми местами расползался клочьями; гэсовку высушили, я отвёз её в ателье, расположенное в центре города, чтобы заменить верх, поскольку старая плащёвка потеряла приличный вид; когда мы приехали забирать шубу, мастер извинилась за то, что принимая заказ, внимательно не посмотрела мех, а когда начала отпарывать подкладку, обнаружила, что он весь разваливается и ничего сделать нельзя; мы, естественно, не стали предъявлять претензии, поскольку знали, что сами испортили шубу в поташе, попросили выбросить её, не везти же домой это барахло; чтобы завершить эпопею с гэсовкой на мажорной ноте, мы, смеясь, посетили известное кафе на ул. Мира, полакомились вкусным пирогом с черёмухой. В те времена единственно на чём мы не экономили, так это на питании; как и у многих мужчин того времени в кармане имелся один рубль, выданный женой на транспорт и на обед из трёх блюд; это ещё была не нищета (она появилась позже), но всё же, давила на меня и заставляла напряжённо работать в лаборатории на результат. Материально было очень тяжело, слава Богу, частые командировки в Москву оплачивал институт, а междугородные переговоры с моими научными руководителями Мироновым и Лагойдой надо было вести постоянно, но как? Ехать в центр города на переговорный пункт и платить деньги, так на это зарплаты не хватит.
В вестибюле института возле гардероба стоял городской телефон, которым иногда по необходимости пользовались сотрудники, поскольку в лабораториях были только внутренние телефоны; однажды я случайно увидел, как один сотрудник разговаривал по межгороду; я попробовал по коду набрать Москву и, о радость, ответил мне Лагойда, с которым и переговорил; понравилась эта халява, и теперь довольно часто я стал разговаривать по этому телефону; через некоторое время бухгалтерия обнаружила много счетов на оплату с этого номера; ведь не я один так ухитрялся нахально пользоваться телефоном; и вот однажды, когда в очередной раз разговаривал с НИИЖБом, завхоз Клава, которой поручили пресечь междугородние разговоры, накрыла меня, накричала и велела положить трубку, при этом глаза её сердито блеснули; я, поскольку выполнял министерскую тему, пробовал просить разрешение у начальства позвонить в Москву, но бесполезно; иногда, зная, что беспокойная Клава где-то отсутствует, тайно звонил – будь что будет, пока снова не попался вредному завхозу.
Клава была в институте весьма заметной фигурой: среднего роста, полная блондинка, с глазами пивного цвета, сверхактивная, крикливая, злая и придирчивая, с грубо-решительным голосом, высокомерная и призирающая людей, склонная видеть в людях только худшее; нередко поступала как самодур, и однажды учинила скандал в буфете во время обеденного перерыва, возможно, в тот день неё был плохой желудок; вообще, считала институт своей вотчиной, а сотрудников – как безответную тварь; сама сознавала своё ничтожество и вымещала свою духовную ущербность на людей. Вспоминаю «Унтер Пришибеев» А.П.Чехова: «А ежели беспорядки? Нешто можно дозволять, чтобы народ безобразил? Где это в законе написано, чтоб народу волю давать? Я не могу дозволять-с. Ежели я не стану их разгонять да взыскивать, то кто же станет? Никто порядков настоящих не знает, во всем селе только я один, можно сказать, ваше высокородие, знаю, как обходиться с людьми простого звания, и, ваше высокородие, могу все понимать». Входила Клава в «руководящий круг» администрации – умел наш директор подбирать «кадры».
Что же мне оставалось делать, как связываться с Москвой? Позвонил один раз с городского переговорного пункта, дорого, а звонить надо, работа над диссертацией была в разгаре; ничего не поделаешь, звонил, но не часто; однажды заметил в кабинке молодого мужчину, который долго разговаривал и не всовывал монеты в аппарат; когда он вышел, я спросил об этом; не знаю почему, но он мне, незнакомому человеку, объяснил: надо вставить одну монету и набрать код (я его запомнил), после гудков раздаться щелчок и теперь без монеты набираешь московский код и номер – разговаривай, сколько хочешь бесплатно; первый код оказался почему-то Алма-Аты, но специальный; к тому времени я уже знал о существовании специальных кодов и прямых переговоров (энергетики, обкомы партии, военные, КГБ, и пр.); как он узнал код, меня не интересовало, «голь на выдумки хитра», и теперь я разговаривал свободно; правда, гораздо позже, уже после защиты диссертации, я как-то попробовал позвонить, но не получилось, видно, навели порядок.
Работая в низкооплачиваемой должности старшего инженера, я был озабочен содержанием семьи и о том, как заиметь для себя в КПИ лишний час занятий с вечерниками, а по субботам и воскресеньям – с заочниками, чтобы свести концы с концами; заведующим кафедрой ТСП был доцент, к.т.н. Александр Иванович Веретнов, мужчина высокого роста лет пятидесяти с серьёзным выражением на лице, спокойный, ответственный и справедливый; скупой на эмоции, несколько даже суховат, но сквозь эту сухость чувствовалось настоящее расположение. Однажды, чтобы получить лишние 50 рублей, я решился на обман: сдавая лаборанту месячный финансовый отчёт почасовика, приписал несуществующие часы занятий в надежде, что номер пройдёт; однако зав кафедрой, проверяя отчёт, обнаружил липу, но не стал мне выговаривать, а вернул отчёт через лаборанта; увидев там исправления, я чуть было не сгорел от стыда, первое время избегал встреч и смотреть заведующему в глаза, чувствуя себя шкодливым котом. Александра Ивановича я уважал, в моих виноватых глазах он видел: «очень прошу вас, простите меня, будьте настолько добры»; конечно, он, неравнодушный, простил меня, зная о моей семье и низкой зарплате в НИИ; когда я позже работал на кафедре в КПИ, наши взаимоотношения всегда были честными и уважительными.
Деньги постоянно требовались и на обеспечение жизни, и на расходы для подрастающих сыновей; нам не к кому было обращаться с просьбами финансового характера, выкручивались сами, часто приходилось занимать деньги в институтской кассе взаимопомощи; хорошо, что сыновья чуть ли не ежегодно с наступлением сезона проводили лето на море в Леселидзе, где Галя работала в пионерлагере воспитателем; это было большое финансовое подспорье.
XIII
.
Наступила осень, дождливая и ветреная, но это было с давних времён моё любимое
время года для творчества; хотя дни становятся короткими, зато более ясными и устойчивыми – сидишь в пустой тёплой комнате за письменным столом, смотришь в окно, залитое дождём, никто не мешает думать; на столе нужные записи, книги и стопка чистых листов бумаги для написания первой главы диссертации – литературного обзора; под шум дождя и ветра работается легко и с удовольствием; это прекрасная возможность анализировать и делать выписки из публикаций, или уйти от всего лишнего, суеты и погрузиться в раздумье над результатами экспериментов, осмысливая возможные пути решения проблем – это уже материал для основных глав диссертации; за несколько часов такой продуктивной работы успеваешь сделать так много полезного, что в конце невольно вспоминается: «Ай да Пушкин, ай да молодец!»; у Александра Сергеевича осень была самым продуктивным временем, и не только Болдинская; помню, ещё со школьных времён осенними днями в Рубцовске (осень там очень похожа на украинскую) ходили мы с ребятами в Забоку за поздней ягодой: в полной лесной тишине, ни ветерка, на душе умиротворённость; придя домой, садишься писать заданное сочинение или с удовольствием читать пушкинскую прозу; «осень подпитывает творческую силу человека! Унылая пора, очей очарованья – лучше нашего гения не скажешь, точнее его состояние души не выразишь. Прекрасное свойство человеческой памяти – забывать плохое и приближать, помнить хорошее, душу грустно успокаивающее» (из Виктора Астафьева).
XIV
Когда были получены первые положительные результаты, о которых я доложил по телефону Лагойде, он снова посоветовал продолжить работу, чтобы окончательно определить пределы дозировок в зависимости от многих факторов; а в начале декабря я уже докладывал на Научном Совете лаборатории Миронова свои новые результаты, которые были одобрены; через несколько дней на совещании учёных-бетонщиков я, в числе других аспирантов, докладывал свои результаты исследований; зав лабораторией бетонов, подвергаемых термообработке на заводах ЖБИ, д.т.н. Малинина (в молодости аспирантка Миронова) отметила расплывчатость моих научных результатов; в ответ С.А. несколько резко высказал своей бывшей ученице, что у меня конкретная цель – дать строителям правильные ориентиры при использовании бетонов в зимнее время; результаты моей работы были признаны положительными, а совет Малининой я учёл; в заключительном слове поблагодарил её. Теперь мне пришлось задуматься об описании полученных результатов в тексте диссертации; но я совершенно не имел понятия о её структуре в полном объёме, поскольку в Красноярске не было возможности познакомиться с текстом какой-либо чужой защищённой диссертации; однажды в кабинете Лагойды на столе я увидел чью-то готовую диссертацию, присланную ему на отзыв; попросил её на один день, чтобы ознакомиться со структурой текста; быстро отправился в фотолабораторию института, чтобы сделать копию весьма объёмной (более 200 страниц) работы; однако фотограф был сильно загружен и посоветовал обратиться напрямую в фотолабораторию п/я, расположенного недалеко на Рязанском проспекте; по его наводке я купил бутылку коньяка и нашёл это предприятие; там уже в 1971 г. имелось самое современное импортное оборудование; фотографом оказался мужчина лет шестидесяти, высокого роста, сухой, жилистый, широкоплечий, с тонкой талией, с прямым носом и бородкой, абсолютно трезвый не в пример нашему фотографу; буквально за полчаса всё было отснято, плёнки он начал проявлять, последовательно развешивая их; сушил десять плёнок с помощью спирта; когда я пришёл на другой день, весь текст был отпечатан на фотобумаге; я вручил отличному профессионалу дополнительную бутылку водки и поблагодарил за помощь; в типографии НИИЖБа, опять же за бутылку, мне переплели листы, получилась толстая книга; теперь я мог досконально познакомиться с структурой диссертации, её особенностями и, что важно, с правильно изложенной первой главой – литературным обзором; возвращая взятую на прокат диссертацию, сказал Лагойде, что всё в порядке; он похвалил меня и отметил: «Вот говорят, что у людей в стране нет валюты, но это не так, водка – самая крепкая валюта!». Я был счастлив этим приобретением, с радостным чувством возвращался в Красноярск; значительно позже прочёл у Артура Шопенгауэра о радости примерно следующее: «… обычно радость, если её ждёшь, не приходит; ведь различные ликования, крики «радости», салюты и прочее, т.е. помпа – это простая личина, наподобие театральной декорации, не содержащая в себе сущности дела; всё это – вывеска, символ, иероглиф радости, но самой радости мы большей частью здесь не встретим, она одна только не участвует в празднестве; где же она действительно есть, там она обычно появляется без приглашения и предуведомления, сама собою и sans facon («без фасона»); даже прокрадывается втихомолку, часто по разным и неожиданным поводам и событиям: она, как золото в Австралии, рассеяна здесь и там, по прихоти случая, без всякого правила и закона, большей частью самыми маленькими крупинками, крайне редко – в больших массах». Перед увольнением из НИИ я передал эту диссертацию молодому соискателю Вячеславу Шевченко.


