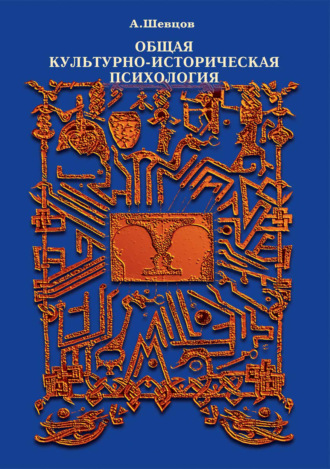
Александр Шевцов (Андреев)
Общая культурно-историческая психология
Глава 4
Поведение человекообразной обезьяны
Итак, Лев Семенович Выготский был верным марксистом в психологии, избравшим нести марксизм в науку по зову души… наверное, Корниловской…
Поэтому он исходил в своих работах из основополагающих мыслей Маркса об отличии человека от паука и пчелы. Естественно было развить это положение на примере более сложных существ, таких, как обезьяна, что Выготский и сделал – строго по следам Энгельса – около 1930 года. Им были написаны совместно с Лурией «Этюды по истории поведения», в которых два первых очерка принадлежали Выготскому.
Что это была за работа?
Попросту сказать – попытка нарастить научные мышцы на скелет, выложенный Энгельсом в «Труде в процессе превращения обезьяны в человека». Энгельс был порезан на куски, которые перемежались объемными комментариями Выготского, который старательно штудирует при этом работы немецкого зоопсихолога Кёлера. Своего там, можно сказать, и нет.
Работа эта предельно идеологизирована, и никакой новой мысли к тому, что сказано Энгельсом о том, что человек – животное, необъяснимым образом научившееся трудиться, не добавляет, поэтому я не в силах заниматься ею, как таковой. Я вынужден просто показывать саму преемственность марксистской мысли в основных трудах культурно-исторического подхода. Начну с первого очерка Выготского, называвшегося несколько пугающе: «Поведение человекообразной обезьяны».
Если верить первым строкам, посвящена она «развитию поведения от его самых простых форм, какие мы наблюдаем у низших животных, до самых сложных и высших, которые мы видим у человека» (Выготский, Этюды, с. 23). Поскольку статья имеет исходной задачей привить естественнонаучное мировоззрение, то уже с этой строки ощущаешь, что тебя в это мировоззрение и затаскивает, причем с немалой силой. А как только это случается, появляется соответствующая мысль: действительно, поведение должно развиваться от простых форм до сложных…
Похоже, очарование естественной науки было настолько сильно, что никто не обратил внимания на то, что это не исходное рассуждение, а исходный обман. Причем обман многосторонний. Судите сами: как может профессионал своего дела, а именно психологии, начинать работу, посвященную поведению, с некоего утверждения, в котором содержится самое главное понятие его исследования, не определив его? Он использует его как само собой разумеющееся.
Иначе говоря, гений советской психологии в этой работе обращается ко всем своим читателям, либо исходно предполагая, что они знают, что такое поведение, что они понимают, что он понимает под «поведением», и что они все верно последуют с ним к его цели. Либо же ему и не важно, ни что такое поведение, ни поймут ли его. Ему важно нечто совсем иное, для чего сойдет и такое небрежное начало. Например, привить этот самый марксистский взгляд на природу человека.
Моя придирка может показаться излишним академизмом, требованием строго соблюдать методологические принципы научного исследования. В отношении главного методолога революционной реформы всей психологии это уже не пустое требование. Но это не главное для меня. Просто вдумайтесь в то, что звучит в русском слове «поведение». Оно очевидно связано с понятием «вести себя», то есть, брать и вести некое существо, которое ты считаешь собой. Может ли такое понятие быть применено к низшим животным?
Хуже: может ли оно быть применено к высшим? Применимо ли оно вообще к кому-либо кроме человека? Ведь для того, чтобы «вести себя», необходимо осознавание и себя, и того, что ты делаешь при этом с собой. Иначе говоря, как это сейчас называет наука, нужно обладать способностью к рефлексии, то есть к отторжению своих действий от самого себя, к разделению себя и своего действия, и к возможности выбора способов действия из какого-то количества имеющихся в памяти вариантов.
Могут ли это животные? Или же они проявляют себя цельно и нерасторжимо с тем, что делают? Как это говорится, отождествляясь с собственными действиями, ощущая их собой в разных состояниях.
Я не берусь пока ничего утверждать, я лишь показываю, что Выготский уж слишком небрежен с тем понятием, которое решил исследовать. И допускаю, что то, что он имеет в виду, говоря о поведении, лишь случайно названо им поведением. Просто вспомните, как вы наблюдаете за насекомыми или рыбами. И вы обнаружите, что слово поведение к ним не подходит за исключением тех радостных мгновений, когда вам кажется, что они действуют совершенно по-человечески. Однако как раз про них Выготский чуть ниже скажет, что это всего лишь инстинкты.
Что такое инстинкты, в действительности никто не знает. Выготский определяет их через то же самое поведение: «Первую ступень в развитии поведения образуют у всех животных наследственные реакции, или врожденные способы поведения. Их обычно называют инстинктами» (Там же).
Нельзя определять иностранное понятие «инстинкт» через неопределенное русское понятие «поведение», да еще при этом определяя поведение через поведение. Родится неопределение неопределенности. Чувствуя это, Выготский и ссылается на обычай. Стыдно. Для психолога и методолога – стыдно!
Но ему некогда. Как раз такой ерундой, как поведение, он в этой книге о поведении заниматься не хочет. Ему нужно как можно быстрее проскочить к главным трудам своей жизни, для чего и нужно выложить марксистский мостик над неведомым. Поэтому он проскакивает мимо самого главного и быстро бежит к очаровавшему его успеху Кёлера, который так прославился, всего лишь поиграв несколько лет с обезьянами.
Но начинает он со скрытой цитаты из Энгельса:
«Инстинктивным реакциям животное не научается в процессе своей жизни, они не возникают в результате проб и ошибок, удачных и неудачных опытов, они не являются также следствием подражания – в этом их главное отличие.
Биологическое значение инстинктивных реакций заключается в том, что они являются полезными приспособлениями к окружающей среде, выработанными в борьбе за существование и закрепленными путем собственного отбора в процессе биологической эволюции.
Происхождение их поэтому объясняется так же, как и происхождение “целесообразной” структуры и функций организма, то есть законами эволюции, открытыми Дарвиным» (Там же, с. 23–24).
Второй ступенью оказывается «ступень дрессуры или условных рефлексов» (Там же, с. 24). Это как раз то, чем занимался Павлов. Не могу удержаться и не привести тот образ, что более всего пришелся по душе Выготскому из всех опытов Павлова. Думаю, в нем было что-то чрезвычайно важное для всей советской науки, да и для марксизма, наверное, ведь это единственное, что Выготский рассказывает о Павлове в этой работе.
«Наконец, следует отметить и то обратное влияние, которое оказывает вторая ступень на первую. Условные рефлексы, надстраиваясь над безусловными, глубоко их видоизменяют, и очень часто в результате личного опыта животного мы наблюдаем “извращение инстинктов”, то есть новое направление, полученное врожденной реакцией благодаря условиям, в которых она проявлялась.
Классическим примером такого “извращения инстинкта” может служить опыт академика Павлова с воспитанием у собаки условного рефлекса на прижигание кожи электрическим током.
Сначала животное отвечает на болевое раздражение бурной оборонительной реакцией, оно рвется из станка, хватает зубами прибор, борется всеми средствами. Но в результате длительной серии опытов, в течение которых болевое раздражение сопровождалось пищевым, собака стала отвечать на наносимые ей ожоги той реакцией, которой отвечает обычно на еду.
Присутствовавший при этих опытах известный английский физиолог Шеррингтон сказал, глядя на собаку: “Теперь я понимаю радость мучеников, с которой они всходили на костры”.
Этими словами он наметил огромную перспективу, которая открывалась этим классическим опытом» (Там же, с. 25).
Перспектива эта называлась Гулаг. И Саша Лурия именно в это время подписался делать детектор лжи для ГПУ, за что и был признан как «психолог» во всем мире. Само же это садомазохистское извращение стало сутью всей советской психологии. И не только в том смысле, что именно этим и занимались советские ученые, но и в том, что сами они дружно отвечали на болевые раздражения радостными пищевыми реакциями… вроде «этюдов» Лурии и Выготского.
Далее Выготский переходит к третьей ступени, но понять, что это такое, значительно сложней. В действительности, это есть попытка решить как раз ту «проблему», что была намечена еще Энгельсом: между человеком и животным есть качественное отличие, которое эволюционными объяснениями не устраняется. Попросту говоря, Выготскому очень нужно было связать человека с животными, наверное, чтобы больше не мучаться угрызениями совести, когда ставишь над ним такие же опыты, как Павлов…
«Над этой второй ступенью в развитии поведения возвышается третья и для царства животных, видимо, последняя ступень, хотя и не последняя для человека. С несомненной научной достоверностью наличие этой ступени было констатировано только в поведении высших человекообразных обезьян. На поиски и открытие третьей ступени именно у этих животных толкала теория Дарвина.
Из данных сравнительной анатомии и сравнительной физиологии с совершенной достоверностью установлено, что человекообразные обезьяны являются нашими ближайшими родственниками в эволюционном ряду.
Оставалось, однако, до последнего времени незаполненным одно звено в эволюционной цепи, связывающее человека с животным миром, именно звено психологическое. До самого последнего времени психологам не удалось показать, что поведение обезьяны стоит в таком же отношении к поведению человека, в каком ее анатомия стоит к человеческой» (Там же, с. 26).
Далее вся работа посвящена тому, как В.Кёлер «задался целью заполнить это недостающее психологическое звено дарвиновской теории и показать, что и психологическое развитие шло тем же эволюционным путем – от высших животных к человеку, как и развитие органическое» (Там же).
Иными словами Выготский использует Кёлера для того, чтобы окончательно убрать душу из психологии и доказать, что вся эта «так называемая душа» есть не более, чем усложнение нервной системы, то есть тела, в процессе эволюции.
Итогом всего усилия явилось вот такое признание, скромно спрятанное где-то посреди статьи:
«Мы еще очень далеки от настоящего физиологического объяснения интеллектуальной реакции. Мы можем строить на этот счет только более или менее схематические и более или менее вероятные предположения» (Там же, с. 51).
Усилие оказалось семипудовым пшиком. Доказать, что души нет, не удалось, зато удалось убедить всех, у кого не хватило терпения дочитать до этого места. Да и те, у кого хватило, по большей части уже не соображали, что означают эти слова… К этому времени они были уже вполне очарованы или зазомбированы естественнонаучностью новой психологической физиологии.
Обратите внимание – именно физиологии, именно раздел физиологии хотел создать Выготский, считая именно физиологию знаком качества своей культурной психологии.
Как бы там ни было, но эволюционизм и физиологизм были лишь тем основанием, на котором Выготский хотел совершить свою революцию. Это был базис, к нему требовалось добавить надстройку. И надстройкой этой оказался марксизм, в частности, требование историзма, выдвинутое классиками. Его-то и пыталась привить школа Выготского к проверенно успешной в общественном мнении эволюционно-физиологической основе.
Вот задача, которую поставил Выготский перед своей школой в 1930 году, после того, как было завершено исследование предшествовавших подходов, из которых и делался новый синтез:
«Но есть еще третий план развития, который гораздо меньше, чем эти, вошел в общее сознание психологов и который отличается глубоким своеобразием по сравнению с этими двумя типами развития, – это развитие историческое.
Поведение современного культурного человека является не только продуктом биологической эволюции, не только результатом развития в детском возрасте, но и продуктом развития исторического. В процессе исторического развития человечества изменялись и развивались не только внешние отношения людей, не только отношения между человечеством и природой, изменялся и развивался и сам человек, менялась его собственная природа» (Там же, с. 67).
Как вы видите, в этом небольшом рассуждении описана вся школа Выготского. Если опустить критическое исследование предшественников, то в нем намечены три больших этапа или ступени: биологическая психология, психология детского возраста, и психология историческая или культурная.
Сам Выготский, как это общеизвестно, разработав такой образ своей психологии, погрузился в «спор с Пиаже». Попросту говоря, занялся психологией детства в рамках заимствованной с Запада науки Педологии. Собственно культурно-исторических исследований было сделано только одно – экспедиция Лурии в Среднюю Азию.
Я не буду рассказывать о том, как Выготский понимал детскую психологию. Понимал он ее не просто, хотя, возможно, и сделал в ней немало открытий. Но мне нужна только культурно-историческая психология, поэтому для меня все, что прямо в нее не входит, является лишь слоем помех, мешающих в моем собственном исследовании. И преодолею я этот слой не прямо, а через его отражение.
Точнее, посчитав работы Выготского отражением трудов Пиаже. Насколько бы он ни пошел дальше, основа все-таки здесь. А уж труды Пиаже никак нельзя считать принадлежащими к культурно-исторической психологии.
Вот после этого можно будет заняться и единственной культурно-исторической работой школы Выготского.
Небольшое психологическое отступление. Пиаже
Швейцарский психолог Жан Пиаже (1896–1980), ученик психолога и психиатра Пьера Жане, был ровесником Льва Выготского и считался таким же гением психологии, изменившим лицо этой науки. Начинал он как биолог, изучавший моллюсков, но уже к 1920 году, то есть ко времени окончательной победы научной революции в мире, перешел в психологию, где имел колоссальный успех именно потому, что был естественником. Как вы понимаете, душа его не интересовала, он служил тому же делу, что и Выготский, то есть искал, как связать человека с животными.
В психологии Пиаже разрывался между двух полюсов: с одной стороны, он хотел дать всей психологии биологическое объяснение, а с другой, – логическое. Точнее, все свои исследования психологии он вел не для того, чтобы понять душу, а для того, чтобы понять логику.
Самая первая его работа, о которой больше всего и говорил Выготский, вышла в 1923 году под названием «Этюды о логике ребенка». И начиналась она с постановки задачи, которую, кажется, не осознал никто из русских психологов, так восхищавшихся им:
«Мы попытаемся разрешить здесь следующий вопрос: какие потребности стремится удовлетворить ребенок, когда он говорит? Данная проблема не является ни чисто лингвистической, ни чисто логической— это проблема функциональной психологии. Но именно с нее-то и надо начинать всякое изучение логики ребенка» (Пиаже, Речь, с. 11).
Насколько я могу судить, наши психологи попадались на первую часть этого высказывания, которая выглядела не просто психологической, но и очень верно выраженной: какие потребности стремится удовлетворить ребенок, когда говорит? Иначе: что заставляет ребенка, да и вообще человека, говорить? Что в нем такое происходит, что происходит в его душе, что звучит наружу словами или речью? Прекрасная постановка психологической задачи.
Вот только задача эта для Пиаже была служебна, а нужно это было, как вы уже видели, для того, чтобы изучить логику…
Самое неприятное, что Пиаже, подобно Выготскому, говорящему о поведении, говорит о логике, не определяя, что он имеет в виду. Это не естественное ни для одного живого языка словечко «логика» оказывается для него настолько завораживающим, что он считает его само собой понятным и одинаковым для всех людей и, кажется, и для детей.
Впрочем, во втором томе «Этюдов» Пиаже даст своеобразное определение, правда, не логики, а своего понимания логики:
«…нужно предполагать, что детское рассуждение значительно отличается от нашего и что оно менее дедуктивно и в особенности менее строго.
Ибо что такое логика, как не искусство доказывать? Рассуждать логически – значит связывать свои предложения так, чтобы каждое обосновывало последующее и, в свою очередь, было бы доказано предшествующим… Логическое рассуждение всегда есть доказательство» (Там же, с. 193).
Вот что искал Пиаже с помощью психологии. Не буду сейчас вдаваться в то, что это неверное понимание логики, примерно, такое же точное, как высказывание: солнце – это то, что делает мне тепло…
Соответственно, психология, которой он занимался в первый период своего творчества, называлась Функциональной, но никак не культурно- исторической. Выготский тоже много писал о функциях, словно бы следуя за Пиаже. К примеру, в 1931 году он издает большую работу «История развития высших психических функций», в которой, возможно, первый раз спорит с Пиаже. Да и тематика его работ удивительно совпадает с тематикой исследований Пиаже.
Впоследствии Пиаже будет говорить об операциональной и генетической психологии. Выготский же будет развивать инструментальную теорию и ту же генетическую психологию. И все эти многочисленные науки обоих психологов были посвящены изучению детского развития, имея главной задачей показать, насколько ребенок близок к животному, точнее, как он выделяется из животного или биологического мира, и становится человеком, обретя «интеллект». Словечко это тоже не объяснялось, но из содержания можно было понять, что интеллект – это и есть способность к «логике».
Уже после смерти Выготского, в 1948 году, Пиаже напишет работу с названием из несочетающихся между собой слов – «Психология интеллекта», – которую начнет как раз с объяснения связей психологии с логикой. Это начало делает понятней и те ранние работы Пиаже, что были доступны Выготскому. В сущности, в нем говорится, что психология наука вторичная, а значит, подсобная в рамках настоящих наук. Пиаже в то время еще не знал работ Выготского, но звучит так, будто продолжает рассуждения Выготского о высших психических функциях.
«Всякое психологическое объяснение рано или поздно завершается тем, что опирается на биологию или логику (или на социологию, хотя последняя сама, в конце концов, оказывается перед той же альтернативой). Для некоторых исследователей явления психики понятны лишь тогда, когда они связаны с биологическим организмом.
Такой подход вполне применим при изучении элементарных психических функций (восприятие, моторная функция и т. д.), от которых интеллект зависит в своих истоках. Но совершенно непонятно, каким образом нейрофизиология сможет когда-либо объяснить, почему 2 и 2 составляют 4 или почему законы дедукции с необходимостью налагаются на деятельность сознания.
Отсюда другая тенденция, которая состоит в том, чтобы рассматривать логические и математические отношения как несводимые ни к каким другим и использовать их для анализа высших интеллектуальных функций. Остается только решить вопрос: сможет ли сама логика, понимаемая как нечто выходящее за пределы экспериментально-психологического объяснения, тем не менее послужить основой для истолкования данных психологического опыта как такового?
Формальная логика, или логистика, является аксиоматикой состояний равновесия мышления, а реальной наукой, соответствующей этой аксиоматике, может быть только психология мышления. При такой постановке задач психология интеллекта должна, разумеется, учитывать все достижения логики, но последние никоим образом не могут диктовать психологу его собственные решения: логика ограничивается лишь тем, что ставит перед психологом проблемы.
Двойственная природа интеллекта, одновременно логическая и биологическая, – вот из чего следует исходить» (Пиаже, Психология, с.61).
Историки психологии однозначно признают за Пиаже, что он менялся с годами. Вот и в приведенном отрывке видно, что он изменил свое отношение к логике. Через четверть века после выхода его первых работ, она перестала для него быть главной целью. Однако последнее предложение сводит на нет это достижение: с годами Пиаже уходил от логистики к «психологии интеллекта», но понимал ее все более биологично. Логика или не логика, но в любом случае прочь от души…
То, как понимали Пиаже в Советском Союзе, стоит показать отдельно. В 1969 году, издавая Пиаже, ведущие советские философы и психологи В.Лекторский, В.Садовский и Э.Юдин выводят из работ Пиаже вот такое непростое определение интеллекта:
«Таким образом, согласно Ж.Пиаже, интеллект есть особая форма взаимодействия между субъектом и объектами, специфическая деятельность, которая, будучи производной от внешней предметной деятельности, предстает как совокупность интериоризованных операций, скоординированных между собой и образующих обратимые, устойчивые и одновременно подвижные целостные структуры» (Лекторский, с. 31).
При этом наши психологи ужасно любили Пиаже и очень гордились дружбой с ним. Вероятно, потому, что он был одним из немногих западных ученых, которые ездили в Советский Союз. Сам же он, однако, говорил, что все-таки лучше всех его понял Выготский…
Я не буду сейчас вдаваться в то, что Пиаже выводил свое понятие интеллекта не из этой странной, полумарксистской «специфической деятельности», из которой его вывели наши энтузиасты, а из понятия внутреннего равновесия организма, очень похожего на теорию гомеостаза. Собственно Пиаже меня не интересует как раз потому, что те же советские психологи четко заявили про его психологию:
«В своих исходных определениях Ж.Пиаже не выходит за рамки индивидуальной психологии с четко выраженной биологической направленностью» (Там же, с.32). И никаких намеков на культурно-историческую психологию, что значит, что именно так и понимали Пиаже в Советском Союзе, то есть на родине культурно-исторической теории.
Что же касается Выготского, то его отношение к Пиаже, а точнее, его взаимоотношения с Пиаже определяются тем, как он сам описывает их в работе 1934 года «О природе эгоцентрической речи». Она прямо посвящена Выготским «противопоставлению двух теорий эгоцентрической речи – Пиаже и нашей», то есть самого Выготского.
В ней Выготский рассказывает об экспериментах, проведенных Пиаже и описанных в той самой его первой книге «Этюды о логике ребенка», а затем рассказывает о себе:
«Мы организовали поведение ребенка таким же образом, как и Пиаже, с той только разницей, что мы ввели целый ряд затрудняющих поведение ребенка элементов. Например, там, где дело шло о свободном рисовании детей, мы затрудняли обстановку тем, что в нужную минуту у ребенка не оказалось под рукой необходимого ему цветного карандаша, бумаги, краски и т. д……» (Выготский, О природе, с. 74).
Еще в тридцать четвертом году Выготский все еще спорил с Пиаже и, если судить по библиографии его работ, все сильнее уходил в психологию детства, педагогическую психологию и дефектологию. И все повторял и повторял его…
Хочу сказать лично свое мнение: и его труды, и труды Пиаже очень важны для понимания мышления как такового, но культурно-исторического подхода в них либо нет совсем, либо же он там присутствует строго в рамках марксизма. Это значит, что основной объем трудов Выготского является для культурно-исторической психологии разработкой частного вопроса об устройстве мышления и о его отражении в том, что философы называют «логикой». Что и становится очевидным, если всмотреться в диалог Выготского с Жаном Пиаже.







