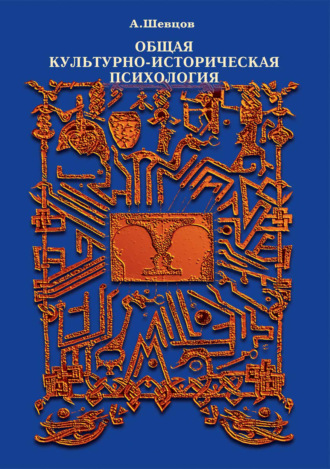
Александр Шевцов (Андреев)
Общая культурно-историческая психология
Глава 2
Прогресс и эволюционная теория. Конт, Дарвин, Спенсер
Рождение и развитие этнологии как науки нельзя понять вне того времени, в котором она зарождается. А зарождается она одновременно с мощным прорывом Науки в мировоззрение Европейских народов, сломавшим правящее представление о том, что мир и человек сотворены Богом и являются неизменными. С середины девятнадцатого века для любого прогрессивного человека очевидно, что Бог не имел отношения к творению того, что нас окружает, потому что все развивалось само, «естественно» усложняясь от простейших форм или видов до того, что мы видим сегодня.
Этот подход в естествознании называется эволюционной теорией, но мировоззренчески он рождается из понятия прогресса, сотворенного революционной идеологией восемнадцатого века. О прогрессе надо сказать несколько слов особо. Для этого я воспользуюсь размышлениями прекрасного американского антрополога Альфреда Редклифф-Брауна.
В одной из лучших книг, посвященных истории этнологии – «Метод в социальной антропологии» 1958 года – он рассказывает о том, как в девятнадцатом веке зарождается эта наука в своеобразном философском переходе количества в качество:
«Накопление знаний об обитателях различных районов мира поставило перед мыслящими людьми проблему объяснения величайшего многообразия форм человеческого общества. Ответ на этот вопрос был найден в теории человеческого прогресса, или эволюции.
Эта теория состоит в том, что на протяжении всего существования на Земле человечества происходило развитие знания и социальных институтов, причем в разных районах мира неравномерно, вследствие чего туземные и варварские общества Африки, Америки и Океании представляют в общих чертах состояния, подобные (но не идентичные) тем, через которые цивилизованные общества уже прошли.
Эта идея, разумеется, не была чем-то уж совсем новым. Еще Лукреций предложил доктрину прогрессивного восхождения человечества в области искусств, а Фукидид выдвинул предположение, что варварские народы дают нам некоторое представление о том, какими раньше были цивилизованные народы.
Хотя идея человеческого прогресса эпизодически высказывалась в семнадцатом веке— например, Гроцием, Фонтенелем и Джоном Локком, – систематическое развитие она получила лишь в восемнадцатом веке…
С принятием идеи прогресса у мыслителей восемнадцатого века появилась идея о том, что человеческие социальные институты— язык, право, религия и т. д. – имеют естественное происхождение и развиваются естественным образом и что изучение более простых обществ, описанных путешественниками, даст средства для лучшего понимания человеческой природы и человеческого общества» (Рэдклифф, с. 226–227).
Это очень верные замечания. Но это замечания антрополога, а не психолога. С его точки зрения, сравнительное изучение различных обществ, которым так восхищался еще Макс Мюллер, действительно позволяет извлекать знания о человеке и даже о себе… И если это так для современного антрополога, то, наверное, было так и для мыслителей восемнадцатого века.
Но Редклифф-Браун забывает о целях, к которым стремились эти самые мыслители восемнадцатого века, а это, в первую очередь, мыслители Франции. И сходятся они все в одной кровавой точке 1789 года…
Мыслители восемнадцатого века готовили Великий переворот, который для многих выглядит политическим или экономическим, но в действительности был сменой одной из опор Власти – Наука победила своего врага Религию и заняла ее место в новом мире. Вот суть всего восемнадцатого века.
Тогда, когда творились разные теории, можно было строить предположения о том, что же хотят их создатели. Но история – это чудесное средство, волшебное оконце из будущего в прошлое, позволяющее видеть истинные цели, просто сличая обильные слова участников исторических событий с тем, к чему привели их усилия. И если усилия мыслителей восемнадцатого века привели к революции, значит, теория прогресса была одним из орудий этого переворота.
Если поглядеть на нее уже с этой точки зрения, найдутся ли подтверждения? Безусловно. Судите сами. Прогресс – это то, что отменяет обычный или традиционный способ видеть мир, как вечное возвращение. Прогресс разрывает годичный круг и круг жизни и вытягивает их в линию, точнее, в последовательность годичных черточек, делая дорогой из ужасного прошлого в светлое будущее. Это исторический факт.
К тому же, есть факт психологический. Вот только что на Руси ценилось то, что художник-иконописец мог не отступить от исходного образа ни на мазок, тем самым не нарушив ни божественной красоты, ни исходного замысла, и вдруг у нас уже ценится оригинальность, то есть способность отвергать все старое и в каждом произведении поражать воображение толпы новизной! И как сейчас звучат слова: прогрессивный человек? Отнюдь не как Иуда, предатель своей Родины, заветов собственных предков, а как «человек хороший». А вот ретроград – это мракобес, который мешает прогрессу и людям…
Никто не может перевести слово прогресс на русский, потому что любые переводы не передают того, что в нем угадывается жаждущими приобщения умами. Прогресс – это всего лишь движение. Или продвижение. Как он превратился в религию нового времени?
Только как главное орудие уничтожения религии прежнего времени. Только вытеснив христианство из умов европейских народов. Соответственно, и теория эволюции, которую, как вы видели, Редклифф-Браун просто приравнивает к теории прогресса, рождалась строго как способ доказать, что все утверждения религии о том, что человек, животные и вообще мир сотворены такими, как мы их сейчас застаем – мракобесие и тьма, нужная церковникам, чтобы держать серые народные массы в подчинении. Вот чего не учитывают антропологи, говоря об этом периоде становления своей науки.
А вот политики и революционеры осознавали связь эволюционной теорией с возможностью переворота общества вполне отчетливо. Личный секретарь одного из известнейших социалистов-утопистов Сен-Симона Огюст Конт (1798–1857) в 1844 году начинает «Дух позитивной философии» с «Закона интеллектуальной эволюции».
Стадии, которые, на его взгляд, проходит в своем развитии человеческий разум, воспринимаются как бред, но при этом в них отчетливо видно жесткое намерение раздавить с помощью эволюционной теории Религию и утвердить власть Науки над миром.
«Согласно моей основной доктрине все наши умозрения, как индивидуальные, так и родовые, должны неизбежно пройти, последовательно, через три различные стадии, которые смогут быть здесь достаточно определены обыкновенными наименованиями— теологическая, метафизическая и научная…
Первая стадия, хотя сначала необходимая во всех отношениях, должна отныне всегда рассматриваться как чисто предварительная; вторая – представляет собой в действительности только видоизменение разрушительного характера, имеющее лишь временное назначение— постепенно привести к третьей; именно на этой последней, единственно вполне нормальной стадии, строй человеческого мышления является в полном смысле окончательным» (Конт, Дух, с. 10).
Звучит он здесь почти как марксист. И надо отдать ему должное, в своем капитальном труде «Курс положительной философии» он предвосхитил довольно много марксистских откровений, за что был откровенно нелюбим марксистами. Они еще в середине прошлого века писали о реакционном характере его философии. Однако реакционной она не была, как раз наоборот, она была теорией прогресса и эволюции, как вы видели сами. Правда, эволюция эта еще была излишне откровенно направлена на разрушение врагов и навязывание своего мировоззрения.
Первая теория эволюции, в которой, кроме политики, была и попытка действительно понять, как же устроен этот мир, все-таки была создана Чарльзом Робертом Дарвином (1809–1882). В 1859 году он написал «Происхождение видов путем естественного отбора, или сохранение благоприятствуемых пород в борьбе за жизнь».
Дарвин, безусловно, «двигает науку» и навязывает научный образ мысли, а с ним и естественнонаучный образ мира. Но это никак не умаляет того, что при этом он описывает наблюдения над действительностью, которые не только показывают, как возможно то, что мы имеем, но и объясняют наличие всех предшествующих современным древних видов живых существ. Иными словами, после Дарвина история Земли единым скачком углубилась с шести тысяч лет до шести миллиардов. А рассказы Библии о Творении стали лишь символами, которые, быть может, и имеют под собой некую действительную основу…
Чтобы показать, как же Дарвин видел теорию эволюции и что было заимствовано у него этнологией, я воспользуюсь гораздо менее известной его работой – «О выражении эмоций у человека и животных», написанной в 1872 году. Выбор мой объясняется тем, что эта книга имеет хоть какое-то отношение к психологии. Какое это отношение?
Удивительное!
Эта книга издана в России в серии «Психология-классика». Вот и всё!
Психологи могут мне сказать: как же так, ведь в психологии существует целый раздел этой науки, изучающий именно эмоции!
Вот это любопытнейшая ловушка мысли. Во-первых, никаких эмоций у русского человека нет, их придумали, чтобы не переводить английское слово emotions, которое сами же английские толковые словари объясняют словом feelings – чувства. Русское психологическое понятие «эмоции» – это морок, мираж, пустышка. Попытка обмануть общественное мнение и быть впереди всей планеты, как полагается служителям прогресса. Если прогресс тянет из Англии, надо говорить о русских чувствах на аглицкий манер, авось сойдешь за настоящего ученого…
Это первое. Второе, – это то, что пишут сами издатели Дарвиновской книги в аннотации:
«Книга Чарльза Дарвина… положила начало научному изучению мира человеческих эмоций».
Начало! Одни психологи пишут, другие читают, и никто не задумывается о том, что это значит. А значит это то, что когда эта книга писалась, в психологии не было такого раздела, как психология эмоций, а Дарвин писал что-то иное. Да он и сам ни разу не говорит, что пишет какую-то психологическую работу. Для него она не имела никакого отношения к психологии.
А к чему и зачем он ее писал?
Из начала книги это понять невозможно. Она написана бездарно, просто сходу описывает тот предмет, который интересен Дарвину – исследования эмоций, проделанные его предшественниками. Но зато заключительный вывод полностью выдает цель, ради которой все делалось.
«Мы видели, что изучение теории выражения до некоторой степени подтверждают тот вывод, что человек происходит от какой-то низшей животной формы, а также подкрепляет убеждение в видовом или подвидовом единстве различных рас; впрочем, насколько я могу судить, в таком подтверждении едва ли есть надобность.
Мы видели также, что само по себе выражение или, как его иногда называли, язык эмоций, без сомнения, имеет большое значение для благополучия человечества. Мы должны были бы быть очень заинтересованы в том, чтобы понять по возможности источник или происхождение различных выражений, которые мы можем ежечасно видеть на лицах окружающих нас людей, не говоря уже о домашних животных.
Все это дает нам основание для вывода, что философия этого вопроса вполне заслуживала того внимания, которое ей уже уделило несколько превосходных наблюдателей, и что предмет этот заслуживает дальнейшего изучения, особенно со стороны какого-нибудь даровитого физиолога» (Дарвин, с. 345).
Вот и свидетельское показание самого обвиняемого: он не писал психологию, он собирал материалы для физиологии. Как психологи усмотрели в этом свою классику? Наверное, не случайно.
Далее: что же хотел сделать этой книгой Чарльз Роберт? С очевидностью одно: подтвердить ею свою теорию видов, а значит, усилить ею тот удар, который он нанес по религиозному мировоззрению, обосновав теорию эволюции. Попросту: доказать, что человек – это животное. Вот зачем писалась книга.
И как же он ведет исследование?
Издатели-психологи усмотрели в этой работе множество полезных для себя находок и открытий великого прогрессора. Однако в действительности книга эта очень слабая и должна бы рассматриваться лишь как курьез. Основная цель, которую преследует в ней Дарвин, – доказать, что наши «эмоции» – это наследие животного состояния, в котором мы находились в начале эволюции. При этом они вовсе не психологичны, они – проявления физиологии нервной системы. Слово «душа» вообще не упоминается Дар- виным.
А вот его «психологические» опусы настолько дики сегодня, что вызвали бы стыдливую улыбку даже у физиолога. Вот один из «психофизиологизмов», которым Дарвин доказывает свои построения:
«Согласно третьему принципу, возбужденная нервная система оказывает непосредственное воздействие на тело, независимо от воли и в значительной мере независимо от привычки. Опыт показывает, что нервная сила возникает и освобождается при всяком возбуждении цереброспинальной системы. Направление, по которому распространяется эта нервная сила, определяется по необходимости теми путями, которые связывают нервные клетки друг с другом и с различными частями тела. Но на это направление сильно влияет также и привычка, так как нервная сила легче всего распространяется по привычным путям.
Неистовые и бессмысленные действия взбешенного человека можно приписать отчасти потоку нервной силы, движущейся без определенного направления, отчасти влиянию привычки; это обнаруживается в том, что указанные действия воспроизводят в неясной форме акт нанесения ударов» (Там же, с. 329).
Весь этот бред, если приглядеться, является развитием вовсе не физиологии высшей нервной деятельности, а того вульгарного материализма, которым осеменял умы Бюхнер и благодаря которому у нас распространилось понятие о нервозности. Мы сейчас не задумываясь говорим: нервничаю, нервы расшатались, надо подлечить нервы. И думаем, что прозвучали очень научно.
Но ни нервная сила, ни нервничание не имеют ни малейшего отношения к действительным нервам. Все эти «бессмысленные действия взбешенного человека», как и «расшатавшиеся нервы» – проявления чисто психических расстройств или состояний.
Если судить по этой книге, то единственный психолог, которого уважает Дарвин, – это Спенсер, автор синтетической философии, которой он постарался превзойти Конта. Спенсер был одним из главных бойцов за эволюционизм и к тому же очень плохо разбирался в психологии. Тем не менее, именно его психофизиологические прозрения Дарвин считает теорией, пригодной для своего исследования. О том, каков из Спенсера психолог, я еще расскажу. Пока заключительный штрих к портрету Дарвина-психолога.
«Герберт Спенсер, говоря о чувствах, в своих “Началах психологии” делает следующие замечания: “Сильная степень страха выражается в криках, в попытках спрятаться или спастись бегством, в сердцебиении и дрожи: точно такие же проявления сопровождали бы подлинные переживания тех несчастий, ожидание которых возбуждает страх. Страсть к разрушению проявляется в общем напряжении мышечной системы, в скрежете зубов, выпускании когтей, расширении глаз и ноздрей, в рычании: все эти проявления – лишь более слабые формы тех действий, которыми сопровождается убивание добычи”.
Это и есть на мой взгляд, теория, пригодная для объяснения большого числа выражений…
Спенсер опубликовал также ценный очерк физиологии смеха, в котором он настаивает на том “общем законе, что чувства, перейдя определенную ступень, находят себе обыкновенно выход в движениях тела”, и что “избыток нервной силы, не направляемой никакими побуждениями, избирает для себя прежде всего привычные пути; если же их окажется недостаточно, то избыток этот пойдет дальше по путям менее привычным”» (Там же, с. 9).
Остается только добавить, что сама эта мистическая «нервная сила» вырабатывается мозговым веществом, как желчь вырабатывается печенью…
Не хочу больше издеваться над нашими доверчивыми психологами, которых обманывать не надо, они сами обманываться рады, лишь бы шарлатан был европейского качества. Но Спенсеру уделить несколько слов просто необходимо.
Глава 3
Продолжение Прогресса. Спенсер
Итак, как считают наши психологи, «заслугой Г.Спенсера явилось применение идеи эволюции при анализе психических явлений. Он предпринял попытку создать общую картину истории органической жизни, описав в ней и психическое развитие человека» (Карелин, с. 8).
Рассказывать о психологии Герберта Спенсера (1820–1903) мне неинтересно, да она и не стоит того. В сущности, он совсем не был психологом, он был наукотворцем, пытавшимся переплюнуть Конта. Временами он признавал себя его частичным последователем, временами кричал о том, что его совсем не поняли, а он все сказал совсем иначе, чем Конт. Но мнение о нем как о последователе Конта закрепилось довольно прочно.
И даже неважно, насколько он привержен позитивизму, важнее то, что он, как и Конт, был одержим системотворчеством и пытался всю жизнь запихать в одну большую схему, в рамках которой описывалось, как все зародилось и развилось, естественно эволюционируя от физического вещества до высшей общественной нравственности. Именно это и было сутью его Синтетической философии.
Психология в рамках ее давалась как одна из переходных ступеней от неорганического вещества к органическому и подавалась как «Основания психологии». Иными словами, творя свою большую схему, Спенсер и сам признавал, что не пишет психологию, а описывает некие естественнонаучные основания, на которых должна основываться всякая психология, если хочет стать научной.
Как довольно точно писали о нем в советское время:
«Психическое Спенсер рассматривал как возникшую на определенной ступени биологического развития форму реакции на воздействие внешней среды. Оно может быть разложено на отдельные элементы – атомы душевной жизни, представляющие собой однородные “нервные толчки”, ассоциативно связанные между собой. Психология Спенсера явилась одним из источников психофизического параллелизма и бихевиоризма» (ФЭ).
Физика и биология – вот настоящие науки для Спенсера. Поэтому его Основания психологии начинались с описания работы нервной системы, как это себе представлял Спенсер. Нейрофизиологом он был весьма посредственным, а поскольку спешил использовать, а не разбираться, часто опирался не на действительные знания о работе нервной системы, а на вульгарно-материалистические представления о ней, бывшие тогда в моде.
Я покажу это на примере той самой работы, которая так восхитила Чарльза Дарвина – на примере «Физиологии смеха», изданной в России еще в 1881 году, то есть довольно быстро после написания Спенсером.
В ней Спенсер начинает с вопросов о том, почему мы смеемся, и как- то уж очень ловко разбив все предположения предшественников, заявляет: «Почему при сильной радости или под впечатлением резких контрастов идей известные мышцы нашего лица, груди и живота должны сокращаться? Для отыскания на эти вопросы того или другого ответа, одно только остается средство, это – обратиться к физиологии» (Спенсер, Физиология, с.4).
Видимо, в семидесятых годах девятнадцатого века существовало только два средства, к которым можно было прибегать в любых сложных случаях – йод и обращение к физиологии… До этого еще любили обильно пускать кровь.
При этом вопрос действительно любопытный, ответа на который до сих пор нет. Почему мы улыбаемся, почему смеемся, что такое смех и улыбка? И почему они всеобщи? Ведь их явно нельзя признать чисто культурными привычками – все люди всех обществ улыбаются и смеются. Значит, это как-то должно быть связано с самим нашим устройством. С устройством чего? Тела? Для естественника просто не может быть иного ответа, потому что и нет ничего, кроме тела. Вот отсюда и физиология становится хранилищем всех ответов на все возможные вопросы о человеке.
Но если есть душа, не связано ли это с той частью нашего устройства, которой душа связана с телом. Ведь мы точно знаем, что смехом может передаваться и душевная радость. Смех отнюдь не только телесен, если вообще телесен. Но он и не только душевен, потому что выражаем мы свои чувства сквозь тело и с его помощью. Думаю, ответ где-то здесь, но до него еще надо дойти…
Спенсер и идет, но очень издалека – от червей, моллюсков и насекомых, у которых тоже случаются непроизвольные движения… И непредсказуемым скачком вдруг вылетает в ответ ответов:
«Далее, большая часть произвольных, по-видимому, движений, какие наблюдаются у насекомых, червей, моллюсков, считаются физиологами такими же автоматическими движениями, как расширение или сужение зрачка под влиянием изменений в интенсивности света, и таким образом представляют пример того закона, что всякое впечатление на окончания приводящих нервов передается какому-нибудь узловому центру и отсюда, обыкновенно рефлекторно, передается по отводящему нерву одной или нескольким мышцам, в которых и вызывается сокращения.
В несколько видоизмененной форме этот принцип прилагается и к произвольным действиям. Всякое нервное возбуждение стремится произвести движение мышц и, если оно достигнет известной силы напряжения, всегда производит его» (Там же).
Вот почему возлюбил его великий Дарвин: да это же прямое подтверждение его теории эволюции – все развивается из самого простого комочка вещества путем усложнения. Даже душевные движения есть лишь способ говорить о том, как дергаются эти комочки плоти.
Спенсер же действительно дальше говорит о «душевных движениях», но я ставлю это выражение в кавычки, потому что Спенсер, как вы понимаете, говорит не о движениях души, а о «телесных и поведенческих реакциях», вроде дрожи от холода или боли от ожога, которые принято называть именем Душевные движения.
«Вы сильно обожгли себе палец; вам чрезвычайно трудно сохранить спокойствие, полное достоинства: непременно в лице является подергивание, палец непременно придет в движение. Если человек, получив хорошее известие, не изменяется в лице и не делает никаких движений, то объясняют это тем, что или он не испытывает большой радости, или что он необыкновенно владеет собою.
Оба эти заключения предполагают, что радость почти у всех заставляет мышцы сокращаться и вследствие этого изменяет или выражение лица, или положение тела, или же и то и другое вместе.
А слыша рассказы о подвигах мужества, совершенных людьми, когда их жизнь была в опасности, – читая, как паралитики, вследствие энергии отчаяния, приобретали на время возможность снова пользоваться своими членами, – мы еще яснее видим отношение между нервными и мышечными возбуждениями. Для нас становится очевидным, что, во-первых, душевные движения и ощущения стремятся произвести телесные движения, а затем, что сила движения зависит от интенсивности душевного движения и ощущения.
Впрочем, это направление разряжения нервного возбуждения не есть единственное» (Там же, с. 5).
Итак, душевные движения – это разряжение нервного возбуждения. Любопытно, сегодня физиологи в состоянии объяснить, что такое «нервное возбуждение»? И как и где оно может накапливаться в теле? Естественно, что задать Спенсеру вопрос: уверен ли он, что речь вообще идет о нервном возбуждении? – было бы кощунством. А что еще может возбуждаться в машине по имени тело? Там просто нет ничего, кроме этой электрической схемы, называемой нервной системой.
Почему при этом никому из физиологов не приходил хотя бы вопрос из столь почитаемой ими физики: а где внутри электрической разводки их квартиры без специальных накопителей, именуемых ёмкостями, могут накапливаться запасы электрической энергии? Наверное, они эту самую физику только почитали, но знать не стремились… Да и квартиры их во времена Спенсера не были электрифицированы. Но ведь у их современных продолжателей электричество в доме точно есть!
Далее Спенсер проваливается в болото вульгарного физиологизма, временами просто бредя. Не буду множить самые ужасные примеры, приведу только пару рассуждений, последовательно связанные мыслью Спенсера на уровне некоего закона электро-психической механики.
«Впрочем, это направление разряжения нервного возбуждения не есть единственное. Точно так же, как оно передается мышцам, оно может передаваться и внутренним органам тела. Сердце и кровеносная система (которые, собственно говоря, будучи сократительны, могут быть отнесены к мышечной системе) весьма легко поддаются влиянию радости и печали: в этом мы можем убедиться ежедневным опытом.
Каждое более или менее сильное ощущение ускоряет пульс; и как восприимчиво сердце к душевным впечатлениям, лучше всего доказывается обыкновенными выражениями, в которых слова “сердце” и “чувство” употребляются одно вместо другого.
То же самое можно сказать и относительно органов пищеварения. Не входя в подробности относительно влияния нашей нервной системы на эти органы, достаточно только упомянуть, какое хорошее влияние производят на диспептиков и больных— веселая компания, приятные новости и перемена обстановки; это достаточно доказывает, до какой степени чувство удовольствия возбуждает вообще деятельность мышц» (Там же, с. 5–6).
Наблюдения, по-своему, верные… Мне особенно важно все, что связано с сердцем, поскольку русское духоведение постоянно связывало его с душой, чему было посвящено немало исследований православных профессоров-богословов. И я к этому еще вернусь, но не с физиологическим подходом. Потому что физиологический подход без малейшего сомнения объясняет эти движения чувств возбуждением «какой-нибудь» части нервной системы.
Вчитайтесь в это «какой-нибудь» – оно означает, что никто из физиологов не знает, какой именно, но читателям той поры, когда их оболванивали, этого знать не надо. Им надо знать только то, что все в человеке можно объяснить без гипотезы души…
«Есть еще другое направление, в котором может обнаруживаться возбуждение какой-нибудь части нервной системы и в котором оно обнаруживается, когда возбуждение не очень сильно. Наконец разряжение может служить в свою очередь возбудителем для какой-нибудь другой части нервной системы: так бывает при спокойном размышлении и чувствовании.
Из последовательных состояний, вызванных этим, слагается сознание» (Там же, с. 6).
Здравствуй, Кока-Новый год! А уж сознание-то откуда тут взялось?!
Да ладно, вот вам еще один последний перл психо-физиологической механики человека, и на этом закончим со Спенсером:
«Чувство удовольствия, вызванное в нас, положим, похвалою, не вполне истрачивается на возбуждение следующего фазиса чувств, на возбуждение новых идей, соответствующих этому состоянию: известная его часть направляется в симпатическую нервную систему, возбуждает деятельность сердца, и, вероятно, облегчает пищеварение. Здесь мы приходим к разряду идей и фактов, которые приближают нас к разрешению нашей специальной задачи.
В самом деле, выходя из той несомненной истины, что известное количество нервной силы, освобожденное в данный момент (которая производит в нас неизвестным для нас образом то, что называется душевным движением) должно распространяться в известном направлении, должно вызывать эквивалентную силу, которая обнаруживается в каком-нибудь другом месте, то мы очевидно должны заключить, что, если один из путей, по которым эта сила может распространяться, окажется вполне или отчасти закрытым, то количество ее, которое должно направляться в другие пути, будет больше; в случае, если окажутся закрытыми два из них, разряжение по последнему должно быть самое интенсивное…» (Там же, с. 7–8).
Вот так, начав с самой грубой физической механики, великий эволюционист выстроил на наукообразном песке величественное знание оснований биологии, психологии, социологии и нравственности…
Именно им восхищались все английские эволюционисты, начиная с дедушки Дарвина, и кончая этнологами, вроде Тайлора. Те самые, на кого опирается Вундт, подбираясь к описанию души по народным представлениям.
Кстати сказать, наши психологи, говоря о том направлении, которое развивал Спенсер, называют его ассоциативной психологией, и вполне уверенно и оправданно причисляют к нему и Вундта. Вундт, безусловно, был очарован английской основательностью эволюционистов. Достаточно посмотреть его исследования восприятия музыкального тона, чтобы понять, как близок ему был весь этот подход.







