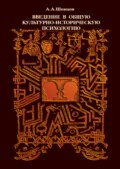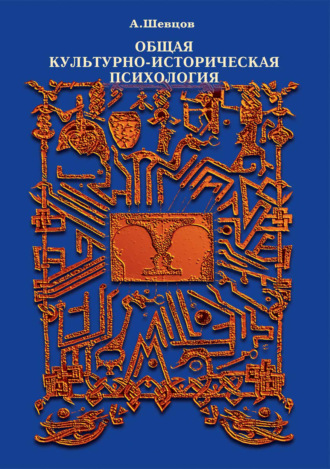
Александр Шевцов (Андреев)
Общая культурно-историческая психология
Заключение социологии
Советский культурно-исторический подход нельзя понять без того, что происходило в социологии на рубеже девятнадцатого и двадцатого веков. Но еще труднее без этого понять то, как появилась американская культурно- историческая психология во второй половине прошлого века, поскольку она вырастает на плечах социальной антропологии, берущей свои корни в социологии начала века.
Конечно, я сделал лишь очень узкий очерк того, что происходило в то время в социологии. Это было большое общественное и научное движение, но оно все было поражено болезнью естественнонаучности. Точнее, все социологи мечтали занять достойное место в мире, но мир уже принадлежал науке и им правило естественнонаучное мировоззрение, поэтому социологи пытались стать то естественниками, то логиками…
Я опустил рассказы и о французских социологах, вроде Шарля Летур- но, Габриэля Тарда или Густава Лебона, которые спорили с Дюкргеймом, не рассказывал об англичанах Болдуине и Чемберлене или немецком социологе Тённисе. Даже знаменитого Токвиля, работа которого до сих пор считается лучшим и неустаревающим социологическим описанием американского общества, я оставил в стороне.
Нельзя объять необъятное…
Поэтому я приведу лишь последнюю выдержку из статьи структурального антрополога середины двадцатого века Леви-Стросса о Марселе Моссе, в которой показано как именно Французская социологическая школа влилась в социальную антропологию двадцатого века. В середине двадцатого века Леви-Стросс говорит о том, насколько современны мысли Мосса. Его это поражает.
Однако меня поражает то, что эта «современность» оказывается на деле все той же навязчивой мечтой о связи социологии с биологией… Похоже, и полвека назад стать частью естествознания все еще было насущной потребностью социологии и антропологии.
«В первую очередь нас поражает, так сказать, актуальный и современный характер мысли Мосса. “Эссе об идее смерти” вводит в самую суть представлений, которым так называемая психосоматическая медицина начала придавать значение только в последние годы.
Верно, конечно, что работы, основываясь на содержании которых У.Б.Кэн- нон предложил физиологическую интерпретацию болезней, названных им гомеостатическими, относятся ко временам первой мировой войны. Однако лишь значительно позже этот знаменитый биолог включил в свою теорию некоторые явления, которые, как нам представляется, мгновенно связывают психологическое и социальное.
Мосс обратил внимание на эти явления еще в 1926 году…
Интерес к этому вопросу, господствующий в современной этнологии, вдохновил также исследование техник тела… Мосс настаивал на чрезвычайном значении для антропологических дисциплин исследований, изучающих, как каждое общество навязывает индивиду строго очерченные правила использования собственного тела, и тем самым предвосхитил одно из новейших течений в американской антропологической школе, проявившееся в работах Рут Бенедикт, Маргарет Мид и большей части американских этнологов юного поколения…
Таким образом, Мосс не только устанавливает поле исследований, которое будет в значительной мере определять современную этнографию на протяжении последнего десятилетия, но и намечает наиболее значительное следствие такой ориентации: сближение этнологии и психоанализа» (Леви-Стросс, Предисловие, с. 409–410).
Сближение этнологии и психоанализа меня мало интересует, к тому же, для культурно-исторической психологии это уже такие же грешки молодости, как энергетизм, к примеру. Но вот что с очевидностью видно из этого рассказа виднейшего антрополога Европы, так это то, как в девятнадцатом-двадцатом веках перетекают друг в друга многочисленные науки о человеке. И как они сплетаются в некую сложновытканную картину, которую не понять, если замкнуться в любой из ее прядей.
Глава 6
Об историческом развитии познавательных процессов. Лурия
Культурно-исторический эксперимент был произведен школой Выготского в начале тридцатых в виде двух поездок в Узбекистан и Киргизию. Но изданы материалы этого эксперимента были только в семидесятых, явно после того, как к ним проявили интерес американцы. Издал их Александр Лурия под названием «Об историческом развитии познавательных процессов».
Название нездоровое: понять, о чем будет идти речь, невозможно, к тому же никто, в действительности, не знает, что такое эти модные у психологов «процессы», так вот они еще и развиваться могут, словно живые существа…
Тем не менее, работа эта сама по себе хорошая и действительно важная для культурно-исторической психологии.
Причем в ней две части, ценные каждая сама по себе. Начинается она с занимающего всю первую главу исторического очерка, который заслуживает самостоятельного рассказа. В нем Лурия, уже с высоты жизненного и научного опыта, то есть из начала семидесятых, рассказывает о том, как рождалась культурно-историческая психология и чем были заняты умы исследователей в первой половине двадцатого века.
Рассказывает он и о многих из тех ученых, кому я посвятил предыдущие главы и отступления. Кроме Кавелина, конечно… Русских предшественников у советских психологов быть не должно…
Как это ни странно, Лурия семидесятых – это совсем не тот бойкий Саша Лурия, что громил науку о душе Челпанова и продвигал реакцию в советскую психофизиологию. Многое оказалось переосмыслено, многому пришлось дать оценки, исходя не только из политической значимости, но и относительно действительной научной ценности.
«Известно, что с середины XIX века психология пыталась осознать себя самостоятельной наукой, ориентированной на объектный, физиологический анализ лежащих в ее основе механизмов. <……>
Углубленное изучение активных форм психической жизни оказалось скоро не под силу естественнонаучной психологии» (Лурия, Об историческом, с. 5).
Услышать такое признание от ведущего нейропсихолога, то есть почти физиолога, – это знак возможных больших перемен. Перемены эти не состоялись – сейчас, через тридцать лет, это очевидно, и все же…
«Легко видеть, что за столетний срок, отделяющий нас от момента выделения психологии в самостоятельную науку, она проделала путь развития, связанный с изменениями основных областей исследования и ведущих концепций.
Однако на протяжении этого сложного пути психология, стремясь стать точной наукой, в основном искала законы психической жизни “внутри организма”. Она считала ассоциации или апперцепцию, структурность восприятия или условные связи, лежащие в основе поведения, либо естественными неизменными свойствами организма (физиологическая психология), либо проявлениями внутренних свойств духа (идеалистическое крыло психологии).
Мысль о том, что эти внутренние свойства и основные законы психической жизни остаются неизменными, приводила даже к попыткам создания позитивистской социальной психологии и социологии, исходившей из предположения, что общественные формы деятельности – проявление психических свойств, установленных психологией для отдельного человека» (Там же, с. 6).
Как вы понимаете, решение этой задаче дал марксизм и только марксизм, даже не какая-то там культурно-историческая психология.
Я не буду пересказывать всю ту критику, что обрушивает Лурия на недозрелую западную науку. Повторю только, что среди перечисленных им все уже знакомые вам лица. Все они, так или иначе, не справились с задачей. С какой, можно бы спросить Лурию? Как вы понимаете, к познанию души задачи предшествовавшей марксизму психологии оказываются относящимися лишь косвенно:
«Нет сомнения, что научная психология достигла за истекшее столетие значительного развития и обогатила наши знания о психической жизни существенными открытиями.
Тем не менее, она игнорировала факт социального происхождения высших психических процессов. Закономерности, которые она описывала, оказывались одними и теми же для животных и человека, для человека разных исторических эпох и разных культур, для элементарных психических процессов и сложных форм психической деятельности.
Более того, лежащие в основе наиболее сложных и наиболее существенных для человека высших форм психической жизни законы логического мышления, активного запоминания, произвольного внимания, волевых актов вообще не укладывались в причинное объяснение, оставались вне поступательного движения научной мысли» (Там же, с. 6–7).
Все это ложь и немножко подлость. Все, что перечисляет здесь Лурия, было как раз теми темами, что разрабатывали предшествовавшая русская и западная психологии. Все эти темы и взяты Лурией, а точнее, школой Выготского, да и всей советской психологией из работ тех, кого он выставляет недотепами. А уж это самое «логическое мышление», замучившее всех социологов, психологов и философов начала двадцатого века, просто является основным предметом его собственного исследования в Узбекистане, проделанного, кстати, по следам Леви-Брюля, Дюркгейма и Мосса.
Подлость, но подлость не случайная – общеобязательная подлость, – партийная черта всех «искренних марксистов». Ради победы их дела они всегда готовы пойти на ложь, если только есть возможность, чтобы МЫ побеждали ИХ! Или чтобы показать, что у нас лучше!
Посмотрел бы Лурия трезвыми глазами на то, что сам противопоставлял всей предшествующей и западной науке от лица своей политической веры:
«Советская психология, исходящая из понимания сознания как “осознанного бытия”, отвергала положение классической психологии, согласно которому сознание является “внутренним свойством духовной жизни”, неизменно присутствующим в каждом психическом состоянии и независимым от исторического развития.
Следуя за К. Марксом и В.И. Лениным, советская психология считает, что сознание – наиболее высокая форма отражения действительности, причем не заранее данная, неизменная и пассивная, а формирующаяся в процессе активной деятельности…» (Там же, с. 20).
Следовать можно за кем угодно, но это не повод выдавать всякий бред за науку. Если основоположник не умеет рассуждать, это можно было хотя бы не выпячивать: если рассуждать точно, сознание никак не может быть бытием, даже осознанным. Жизнь есть жизнь, а сознание есть сознание. Конечно, мы всегда можем сказать: ну, мы же понимаем, что хотел сказать классик! Сказать-то можем, да вот понимаем ли при этом? Тем более, что он и сам-то не очень понимал, о чем говорил. Не психолог все-таки!
Как, к примеру, совместить «осознанное бытие» с «формой отражения»? Эти понятия явно не равны и не могут быть иными именами друг друга. И если они и родственны, то как хобот и хвост слона, которого ощупывают в темноте. Иными словами, классики выхватывали какие-то черты сознания, которые бросались им в глаза, и говорили то об одном его свойстве, то о другом. Но само понятие сознания все время оставалось где-то за этими чертами, как бы на их пересечении.
Тут бы психологам задуматься и показать, из какой же сердцевины растут все эти не слишком точные понятия. Они же, вместо этого, в верноподданническом порыве вдруг берут слетевшую с уст отца-основателя оговорку и делают ее исходным посылом рассуждения: сознание есть осознанное бытие…
Не думайте, что я просто ворчу или придираюсь к бедному нейропсихологу. Прямо в следующих главах он будет рассказывать о том, как они целой бригадой столичных зазнаек вымучивали из бедных узбеков логическое мышление. То есть способность выстраивать последовательности силлогизмов, которые должны приводить к естественным и точным выводам.
И там он будет тихо раздражаться на тупых крестьян и скрыто восхищаться собственной способностью видеть, как же ловко он сам может различать несоответствия в рассуждениях. Почему-то в отношении узбеков Лурия был очень хорош в работе с понятийными посылами, а вот в отношении классиков вдруг слеп настолько, что даже не мог просто стыдливо промолчать и не приводить примеров их позора…
Да что там в следующих главах! Уже на следующей странице он начинает поигрывать своей логической мышцой, искрометно демонстрируя, что уж логикой-то он владеет на уровне мастера!
«Наконец, благодаря сложившейся в истории поколений системе иерархического соотношения отдельных предложений, типичным примером которой являются вербально-логические конструкции, человек имеет в своем распоряжении мощное объективное средство, позволяющее ему не ограничиваться отражением отдельных вещей или ситуаций, но создавать ту объективно существующую систему логических кодов, которая в свою очередь дает возможность выходить за пределы непосредственного опыта и делать выводы, имеющие такое же объективное значение, как и данные непосредственного чувственного опыта.
Сложившаяся в общественной истории система языка и логических кодов позволяет человеку сделать тот переход от чувственного к рациональному, который, по мнению основоположников материалистической философии, имеет не меньшее значение, чем переход от неживого к живому.
Нетрудно понять, какую решающую роль играет сказанное для научного понимания сознания.
Сознание человека перестает быть каким-то “внутренним качеством человеческого духа”, не имеющим истории и не поддающимся причинному анализу. Оно начинает пониматься как наиболее высокая форма отражения действительности, создававшаяся в процессе общественно-исторического развития…» (Там же, с. 21–22).
Далее Лурию несет в какие-то коды, вроде тех же «вербально-логических конструкций». Все это – не более, чем погоня за научной модой, введенной в научный оборот все тем же загнивающим Западом…
К тому же, как внезапно выясняется, «…исследование самого общественно-исторического формирования психических процессов, того, как формируется сознание человека на последовательных этапах исторического развития в ходе общественной истории человечества, не было фактически еще и начато» (Там же, с. 24).
Вот тебе, бабушка, и Юрьев день! Это же 1974 год! Полвека советской психологии! А куда же смотрела партийная совесть?! Если классики завещали исследовать сознание именно таким образом, что же это самая передовая советская психология не сделала в эту сторону ни шага? Почему сам Саша Лурия сбежал в нейропсихологию и тоже ничего не сделал, чтобы воплотить завещание дедушки Ленина и обожаемого учителя Левы Выготского?
Вот вам культурно-исторический портрет самих исследователей, который позволит понять странности их собственных психологических экспериментов.
А напоследок логическая задача, вроде тех, что задавали Лурия с коллегами узбекским декханам: мы ходим только в тех направлениях, куда можно идти. Если нам указывают направление, а мы туда не идем, то мы сопротивляемся? Или же в этом направлении нельзя ходить? Хотя бы потому, что направление есть, а пути нет…
Глава 7
Культурные различия…
Лурия и его помощники провели целый ряд экспериментов, посвященных различным способностям человека. Я перечислю их в той последовательности, в какой он сам помещает их в своей книге. Перечислю, ставя в кавычки… По той причине, что я не доверяю тому, как он использует слова, а он их использует так, как предписывало психологическое сообщество. Это значит, что любому из использованных психологом слов, может быть приписано совсем неожиданное для обычного человека значение.
Итак, названия исследований: «Восприятие», «Абстракция и обобщение», «Умозаключение и вывод», «Рассуждение и решение задач», «Воображение», «Самоанализ и самосознание».
Моя задача рассказать об этих исследованиях облегчена самим Лурией. В своей научной автобиографии он сам пересказал всю свою книгу в одной главе, в которой дал оценки тому, что делал когда-то, и изложил самую суть задачи, которую они решали в тридцатых годах. В ней передан смысл этих экспериментов, как увидел его Лурия, подводя итоги своей жизни. Вот этот смысл я и постараюсь рассмотреть.
Как вы помните, в первой главе книги «Об историческом развитии познавательных процессов» Лурия, как искренний марксист, крепко поругал всю западную психологию за то, что она не смогла дать подлинного решения множеству вопросов, которые марксистские психологи щелкали как орешки. Однако всего через несколько лет после ее издания он начинает рассказ о тех экспериментах с четкого признания, что все они были лишь развитием идей Дюркгейма:
«В течение ряда десятилетий, прежде чем я встретился с Л.С.Выготским, в психологии широко обсуждался вопрос, различны ли основные интеллектуальные способности у взрослых людей, которые выросли в разных культурных условиях.
Еще в начале столетия Дюркгейм считал, что процессы мышления не являются результатом естественной эволюции или проявлением внутренней духовной жизни, а формируются обществом. Идеи Дюркгейма вдохновили многих исследователей» (Лурия, Этапы, с. 47).
Речь идет о той самой, написанной совместно с Моссом, работе Дюркгейма, которая была посвящена классификациям. В книге Лурии есть ее упоминание, но еще важней то, что сами его эксперименты прямо начнутся не с того, что он перечисляет, как темы исследований, а именно с попыток проверить эту самую способность классифицировать, которая почему-то не упоминается среди заявленных тем исследования.
Первым, кого, если верить Лурии, увлекли идеи Дюркгейма, был Леви- Брюль. Я уже приводил выдержки из работы Лурии, но повторю это, чтобы сложилась последовательная и полная картина того, чем же были наши культурно-исторические исследования той поры.
«В 20-е годы эти дебаты сконцентрировались на двух проблемах: изменяется ли в зависимости от культуры содержание мышления, то есть основные категории, используемые для описания опыта, и различаются ли в зависимости от культуры основные интеллектуальные функции человека.
Люсьен Леви-Брюль, имевший большое влияние на психологов того времени, считал, что мышление неграмотных людей подчиняется иным правилам, чем мышление образованных людей. Он охарактеризовал “примитивное” мышление как “дологичное” и “хаотично организованное”, не воспринимающее логических противоречий и допускающее, что естественными явлениями управляют мистические силы» (Там же, с. 47–48).
Следующими, кто увлекся идеями Дюркгейма и верно работал на его школу, были Выготский и Лурия. Правда, Лурия так не говорит, но как еще это понимать, если он дальше снова переходит к критике того, как же все плохо было в мировой психологии к началу тридцатых, как там не было единства взглядов, и как «теория Л. С.Выготского обеспечивала это необходимое единство, но у нас не было данных для проверки наших идей» (Там же, с. 49).
Какие же они наши, эти идеи! Это идеи Дюркгейма, Мосса и Леви- Брюля…
Как бы там ни было, французы писали от ума, как говорится, лукаво мудрствуя, советские психологи решили проверить их философствование в жизни. И это действительно качественный шаг в создании культурно-исторической психологии. Собственно говоря, до советского культурно-исторического подхода существовало только два способа, каким психологи изучали культуру: они либо домышляли что-то свое, сидя в кабинетах за книгами, либо ехали куда-то как этнологи и вели записи, то есть описывали некую культуру. Школа Выготского впервые попыталась поставить эксперимент.
Эксперименты эти были еще очень слабыми, совсем начальными, язык загажен простонаучными выражениями, выводы часто неверны или притянуты, но это было Великое начало. И можно сколько угодно не принимать их мировоззрение и жизненные ценности, но не признать этой их заслуги нельзя. С них начинается прикладная Культурно-историческая психология. И за это им многое простится…
Поэтому я подробно перескажу то, как строился сам эксперимент. Это было еще самое простое решение, которое доступно любому, даже начинающему полевому этнопсихологу. Поэтому это нужно знать и уметь.
Итак, постановка задачи и описание ее условий, то есть исследуемой среды.
«Мы задумали провести широкое исследование интеллектуальной деятельности взрослых людей, принадлежащих к технически отсталому, неграмотному, “традиционному” обществу.
В то время в отдаленных районах нашей страны шли быстрые культурные преобразования, и мы надеялись проследить изменения в процессах мышления, являющиеся следствием общественных перемен. Начало 30-х годов в нашей стране было очень подходящим временем для осуществления этих экспериментов. В то время с введением коллективизации и механизации сельского хозяйства во многих сельских районах шли быстрые изменения.
Мы могли проводить работу в отдаленных русских деревнях, однако избрали для своих исследований поселки и стоянки кочевников Узбекистана и Киргизии, где огромные различия прошлой и современной культуры обещали дать максимальную возможность для наблюдения за изменениями основных форм и содержания мышления людей.
С помощью Л. С.Выготского я составил план научной экспедиции в эти районы» (Там же, с. 49).
Я опускаю все, что не относится строго к описанию самого исследования. Но при этом я, как КИ-психолог, преследую собственную методологическую задачу и выбираю то, что одновременно с описанием эксперимента показывает его двойное дно. То есть присутствие культуры и личностей самих исследователей. Экспериментаторы еще очень плохо владели той самой культурно-исторической психологией, которую создавали. Поэтому в отношении себя они ведут двойную игру: рассказывая читателю об эксперименте, они в действительности делают совсем другое дело, решают иную, скрытую задачу.
Вглядитесь в то, что заявлено: если вспомнить все предыдущие рассуждения Лурии, то можно посчитать, что предполагается сравнить людей разных культур, чтобы увидеть, различается ли их мышление качественно.
А что в действительности они искали? Присмотритесь к написанному Лурией, и вы почувствуете несоответствия между заявленным и тем, что заставляет их делать их собственная культура. Именно та культура, которую я постарался показать, выявляя и марксистские, и естественнонаучные, и политические корни их личностей.
«Так как этот период был переходным, мы смогли сравнивать как малоразвитые, неграмотные группы населения, живущие в деревнях, так и группы, уже вовлеченные в современную жизнь, испытывающие на себе влияние происходящей общественной перестройки.
Никто из наблюдаемых нами людей не получил высшего образования» (Там же, с. 50).
Не буду тянуть, покажу сразу то, на что надо обратить внимание при знакомстве с этим экспериментом. Сравнение идет не просто между людьми разных культур, а между людьми всех культур и людьми научного мировоззрения, образованными на научный лад людьми. И скрытая задача – показать, что люди научного сообщества являются высшей расой, потому что то мышление, которым обладают они – так сказать, логическое мышление – есть высший вид мышления. В сущности, это не психологическая, а все та же политическая задача, все та же научная революция, которая победила в России в 1917 году под именем Октябрьской.
Описывая эксперимент, Лурия говорит, что испытуемые «различались по своей практической деятельности и культурным взглядам», но при этом явно показывает, что главное – это различия в образовании. Причем, определенном образовании, насаждаемом новым строем. Действительные различия в культуре не только не были описаны, исследователи даже не попытались дать определения тому, что называют культурой. Да и что его давать, когда культура – это культурность, то есть приобщенность к образованию!
«Никто из наблюдаемых нами людей не получил высшего образования. При этом они заметно различались по своей практической деятельности, способам общения и культурным взглядам. Наши испытуемые делились на пять групп:
1. Женщины, живущие в отдаленных деревнях, неграмотные и не вовлеченные в какую-либо современную общественную деятельность…
2. Крестьяне, живущие в отдаленных деревнях, еще не вовлеченные в общественный труд и продолжавшие вести индивидуальное хозяйство. Эти крестьяне были неграмотны.
3. Женщины, посещавшие краткосрочные курсы воспитательниц детских садов. Как правило, в прошлом они не получили никакого формального образования и были почти неграмотны.
4. Активные члены колхоза и молодежь, окончившая краткосрочные курсы. Они занимали должности председателей колхозов, руководителей в разных областях сельского хозяйства или бригадиров… Но они посещали школу лишь в течение короткого времени и многие из них были малограмотными.
5. Женщины-студентки, принятые в учительский техникум после двух- или трехлетнего обучения. Однако их образовательный уровень был все еще довольно низок» (Там же, с. 50–51).
Далее Лурия высказывает суждение, которое невнимательным читателем было бы принято за описание предмета исследования или неких условий, в которых этот предмет существует. Но это лишь подтасовка, потому что его мнение никак не вытекает из того, что он только что описал:
«Только последние три группы благодаря своему участию в социалистическом хозяйстве приобщались к новым формам общественных отношений и к новым жизненным принципам, что должно было привести к радикальному изменению содержания и формы их мышления» (Там же).
Как вы, надеюсь, узнаете – это подгонка под марксистскую агитку: человек обретает свое новое сознание в общественном труде. Но действительная причина изменений торчит, как уши спрятавшегося осла, за этими лозунгами: люди меняются, потому что обретают новый образ себя и новый образ мира, насаждаемый им с помощью образования. Все остальное – лишь присущая им искони способность хитрить и приспосабливаться к новым властям. И мы прекрасно понимаем, что это так, поскольку видели, как резко те же самые узбекские крестьяне превращались в прежних декхан, как только развалился Советский союз с его насильственным образованием.
Образование – это не способ обретения знаний, это способ придать человеческому сырью желаемый образ… К примеру, образ искреннего строителя коммунизма.
«Сравнивая процессы умственной деятельности представителей этих групп, мы рассчитывали увидеть изменения, вызванные культурной и социально-экономической перестройкой жизненного уклада» (Там же, с. 52).
Как вы помните, расчет этот был подкреплен бесчисленными Ликбезами, которые насаждались по всей стране. Почему-то ликвидация безграмотности считалась важнейшей задачей Советской власти. Почему?
Как ни странно, психологи наши сумели найти ответ на этот вопрос, хотя и сами не осознали его во время своих экспериментов. Назову его пока в виде предположения, которое предлагаю рассмотреть в материалах эксперимента: марксизм и коммунизм – воображаемые, то есть идеальные сущности. Их нет, о них можно только мечтать. Для этого надо обладать совсем иным типом мышления, чем обладали простые люди российских окраин. Чтобы стать подлинным борцом за дело революции, надо было научиться жить не в настоящем мире, а в мире воображаемом, и еще важней: надо было приучить себя получать удовлетворение не от жизни, а от логических операций или спекуляций ума…
Это легко могли делать люди науки, но этого совсем не хотелось простым людям, которым дела не было ни до коммунизма, ни до новой мечты о рае. Они хотели, чтобы им просто не мешали жить… Надеюсь, дальше мое предположение станет очевидным.
Итак, как строилось исследование.
«Методы исследования, соответствующие нашим задачам, должны были включать нечто большее, чем простое наблюдение. Мы собирались проводить тщательно разработанный экспериментальный опрос и давать испытуемым специальные задания, однако подобное исследование неминуемо должно было встретиться с рядом трудностей. Возможность проводить кратковременные психологические эксперименты в полевых условиях была в высшей степени проблематична» (Там же, с. 52).
Действительно, проводить все эти тестирующие игры с живыми людьми очень сложно. Сам Лурия в первой главе книги об этом эксперименте в пух и прах разносит кросс-культурные эксперименты американцев, показывая, что все эти тесты и задачи не работают, потому что разрабатываются людьми одной культуры, исходя из своих представлений не о том, что есть, а о том, что должно быть. В итоге, тесты ничего не показывают, кроме того, что те, кто не обучены, решают их хуже получивших соответствующее образование.
Да и люди вовсе не хотели решать дурные и бессмысленные задачи молодых заезжих шарлатанов, которые ничего не понимали в их жизни.
Лично я, когда попытался вести этнографические сборы даже не в инокультурной среде, а просто вернувшись в ту местность, из которой был родом, очень быстро понял: русские крестьяне гораздо умнее меня, когда я начинаю изображать ученого. И они смеются надо мной, считая дурачком.
И я также быстро переключился на то, что начал просто учиться. Сначала различным ремеслам. А потом и народной, бытовой психологии. Не изучать их, а учиться у них! Я просто прожил среди этих людей не меньше десятка лет, не считая того, что я с детства рос среди них и постоянно ездил к ним в гости, пока был молодым.
Лишь тогда, когда ты начинаешь по-настоящему уважать своих учителей, они становятся способными тебя чему-либо научить… До этого все этнографические сборы и психологические эксперименты оказываются лишь взаимным издевательством. Ты уходишь довольным сам собой, и не замечаешь, что у тебя за спиной люди смеются…