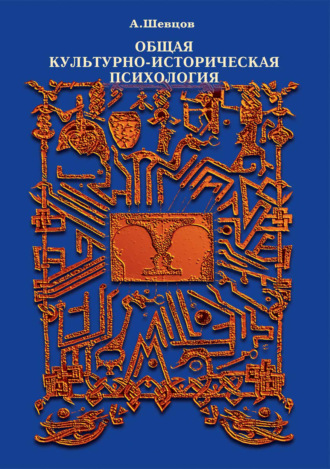
Александр Шевцов (Андреев)
Общая культурно-историческая психология
Глава 2
Неогумбольдтианство. Гипотеза Сепира – Уорфа
В двадцатом веке мысли Гумбольдта о языке как об орудии, определяющем мировоззрение человека, нашли продолжателей. Воинственные советские языковеды называли их неогумбольдтианцами. Далеко не уверен, что они все связывали себя с Гумбольдтом. Тем не менее, приведу общее определение этого направления языкознания из одной такой работы. По крайней мере, она даст представление о том слое культуры, который мы унаследовали от того времени.
«Основные положения этого учения сводятся к следующему: а) язык определяет мышление человека и процесс познания в целом, а через него – культуру и общественное поведение людей, мировоззрение и целостную картину мира, возникающую в сознании; б) люди, говорящие на различных языках, познают мир по- разному, создают различные картины мира, а потому являются носителями различной культуры и различного общественного поведения; в) язык не только обусловливает, но и ограничивает познавательные возможности человека; г) от различия языков зависит не только разница в содержании мышления, но и различие в логике мышления» (Чесноков, с. 11).
Далее автор заявляет, что «вслед за В.Гумбольдтом» неогумбольдтианцы признавали, что «из предпосылок реального мира и человеческого духа язык образует мыслительный промежуточный мир, который, являясь, таким образом, результатом сознательного человеческого действия, воспринимается как единственная картина мира, доступная говорящим на данном языке» (Там же).
Поскольку задачей этого сочинения было крепко осудить это «идеалистическое учение», ведущее к «лингвистическому агностицизму»», я склонен не слишком доверять сказанному. Да оно и действительно весьма слабо с психологической точки зрения, а многое мне кажется в этих определениях ошибочным.
Вот только я не уверен, что это наш марксистский философ исказил гумбольдтианцев, а не проявились их собственные слабости. Поэтому разбор сказанного я делать не буду, но подчеркну главное, что звучит и здесь: между языком, мышлением и культурой есть прямая и, возможно, довольно жесткая зависимость, сказывающаяся на поведении людей. А понятие «промежуточного мыслительного мира», по сути, есть иное название того, что было описано Кавелиным, и значит, требует изучения и понимания.
Я не знаю, кто назвал такое понимание языка «гипотезой Сепира— Уорфа». Думаю, и другое ее название – «Теория лингвистической относительности» тоже не совсем верно. В той работе, после которой, собственно говоря, и начался шум, – «Отношение норм поведения и мышления к языку» – Бенджамин Уорф, если доверять переводу, говорит о «лингвистической обусловленности некоторых черт нашей собственной культуры» (Уорф, Отношение, с. 82). Думаю, что понятие лингвистической, то есть языковой обусловленности точнее всего передает суть этого учения.
Если попытаться понять, что же обусловлено, то мы оказываемся внутри психологии – обусловливается языком поведение и мировоззрение людей.
Существование «гипотезы Сепира – Уорфа» началось в год смерти Сепира, в 1939 году, когда последователь американского языковеда Эдварда Сепира (1884–1939) канадец Бенджамин Л.Уорф опубликовал небольшую работу «Отношение привычного мышления и поведения к языку» (The relation of habitual thought and behavior to language), которую наши переводчики издали, почему-то вставив слово «нормы» – «Отношение норм поведения и мышления к языку». Искажение небольшое, но значимое, поскольку является подгонкой работы к требованиям всяческих структурализмов и формализмов.
Своей работе Уорф предпослал выдержку из Сепира, не указав источник. К стыду своему, признаюсь: я так и не нашел, откуда она взята. Возможно, в том издании Сепира, что есть у меня, перевод этого места звучит совсем по-другому. Но приведу исходную мысль, с которой Уорф начал разворачивание всей своей гипотезы.
«Люди живут не только в объективном мире вещей и не только в мире общественной деятельности, как это обычно полагают, они в значительной мере находятся под влиянием того конкретного языка, который является средством общения для данного общества. Было бы ошибочным полагать, что мы можем полностью осознать действительность, не прибегая к помощи языка, или что язык является побочным средством разрешения некоторых частных проблем общения и мышления.
На самом же деле “реальный мир” в значительной степени бессознательно строится на основе языковых норм данной группы… Мы видим, слышим и воспринимаем так или иначе те или другие явления главным образом благодаря тому, что языковые нормы нашего общества предполагают данную форму выражения» (Сепир, цит. по: Уорф, Отношение, с. 58).
Доверять ли переводу, я не знаю. Очевидно, что Сепир говорит не о «языковых нормах», а о привычных способах выражаться. Но языковеды наши предпочитают «понимать» его в соответствии со своими «языковыми нормами». Эта выдержка важна для Уорфа, потому что он смог ее проиллюстрировать примерами из собственной жизни. Однако есть работа, в которой Сепир прямо заявляет понятие некой относительности. Это написанная в 1924 году статья для «Энциклопедии социальных наук» «Грамматист и его язык».
«Можно было бы до бесконечности приводить примеры несоизмеримости членения опыта в разных языках. Это привело бы нас к общему выводу об одном виде относительности, которую скрывает от нас наше наивное принятие жестких навыков нашей речи как ориентиров для объективного понимания природы опыта.
Здесь мы имеем дело с относительностью понятий или, как ее можно назвать по-другому, с относительностью формы мышления. Эту относительность не столь трудно усвоить, как физическую относительность Эйнштейна; не столь тревожна она для нашего чувства безопасности, как психологическая относительность Юнга…» (Сепир, Грамматист, с. 258).
Я намеренно сохранил сделанное Сепиром сравнение языковой или мышленческой относительности с теорией относительности Эйнштейна. Сепир вовсю завидовал физикам, болел математизацией языка и писал о том, как его формализовать. Иными словами, ему очень хотелось сделать языковедение похожим на математику. Тем удивительнее, что он не утерял понимания обычая и культуры. Очень много писал он и о связи языкознания с психологией.
Однако, чтобы понять суть заложенного им направления языкознания, лучше воспользоваться примерами из Уорфа. Уорф уж очень старался превратить довольно простое и очевидное наблюдение Сепира, что мы зависим в своем поведении от собственного языка, а значит, от собственного культуры, в настоящую науку. Он так усиленно пытался это доказать, что в итоге его школа так и не стала «теорией», а сохранила наименование «гипотезы».
Тем не менее, вот как Уорф объяснял, что такое «языковая относительность», а точнее, обусловленность.
«Я столкнулся с одной из сторон этой проблемы еще до того, как начал изучать Сепира, в области, обычно считающейся очень отдаленной от лингвистики. Это произошло во время моей работы в обществе страхования от огня. В мои задачи входил анализ сотен докладов об обстоятельствах, приведших к возникновению пожара или взрыва. Я фиксировал чисто физические причины, такие, как неисправная проводка, наличие или отсутствие воздушного пространства между дымоходами и деревянными частями зданий и т. п.
Но с течением времени стало ясно, что не только сами по себе эти причины, но и обозначение их было иногда тем фактором, который через поведение людей являлся причиной пожара…
Так, например, около склада так называемых “бензиновых цистерн” люди ведут себя соответствующим образом, т. е. с большой осторожностью; в то же время рядом со складом с названием “пустые бензиновые цистерны” люди ведут себя иначе: недостаточно осторожно, курят и даже бросают окурки.
Однако эти “пустые” цистерны могут быть более опасными, так как в них находятся взрывчатые испарения» (Уорф, Отношение, с. 59).
Простой и очень понятный пример, в отличие от работ ученых, которые рассказывают о «лингвистической относительности» так, чтобы все поняли, что это самая крутая крутизна во всей науке. Далее Уорф приводит еще целый ряд подобных примеров, когда люди читают надпись, и «понимают», как устроен мир, вместо того, чтобы думать или просто видеть.
На Руси мы можем найти более сложное подтверждение языковой обусловленности поведения, выходящее на уровень общества – это знаменитое русское доверие к печатному слову. До сих пор, несмотря на разгул желтой прессы, простой русский человек страшно зависим от газеты, которой доверяет душой, по той простой и незатейливой причине, что В КНИЖКАХ ВРАТЬ НЕ БУДУТ!
Это, как говорится, очень архаичная черта сознания, унаследованная нами из той поры, когда книги были на Руси редкостью и очень ценились, поскольку содержали в себе мудрость. Если книга могла стоить дороже кормилицы-буренки, а то и всего крестьянского дома, то ясно, что ее надо было ценить и уважать. Что и отразилось в духовном стихе о Голубиной или Глубинной книге.
Другой пример – это зависимость обывателя от телевизионных сериалов. Телевизионное слово, внешне, конечно, не печатное слово, но это слово литературное. То есть искусственное и намеренно предназначенное для обработки сознания людей, то есть для воздействия на их поведение. И оно воздействует, и прямо притягивая их к экранам, и косвенно проявляясь в том, как они строят свои жизни по образцу, предложенному киноиндустрией. То есть всегда промышленностью идеологических ведомств государства.
Однако Уорф пошел дальше. Развивая мысли Сепира из уже упоминавшейся работы «Грамматист и его язык», он пытается перевести это наблюдение в закон, правящий нами на уровне самых сложных понятий, которые мы используем.
Сепир в той работе попытался показать, что психология недостаточно глубоко понимает суть языка, на примере философского понятия причинности. Именно философского, что и захватило Уорфа. Сам пример Сепира, так поразивший воображение Уорфа, прост:
«У неискушенных туземцев, не имевших поводов для размышления о природе причинности, возможно, и нет слова, адекватно передающего смысл нашего философского термина “причинность” (causation), но этот недостаток относится всего лишь к словарю и не представляет никакого интереса с точки зрения языковой формы.
В лингвистическом отношении, то есть с точки зрения ощущения формы, “причинность” – это всего лишь определенный способ выражения понятия «акт каузации» (act of causation) – идеи об определенном типе действия, воспринимаемом как некая вещь, как некая сущность. А ведь ощущение формы такого слова, как “причинность”, хорошо знакомо эскимосскому языку и сотням других “примитивных” языков» (Сепир, Грамматист, с. 253).
В переводе на язык простых людей, эти языковые игры профессионалов означают вполне понятную вещь: то, что в каком-то языке нет слова для обозначения чего-то, не значит, что говорящие на этом языке люди не смогут понимать, о чем идет речь, когда это слово появится. Русский язык особенно пострадал от такого вида прогресса, у нас не было множества слов, которыми облагодетельствовала нас прогрессивная интеллигенция. Не было слова экономика, не было слова лингвистика, не было слова форма, не было даже слова проблема…
Однако ничего, понимаем. И даже ощущаем родными и уже не знаем, как без них обходиться! Это значит, что отсутствие самого слова в словаре не означает, что язык не в состоянии обслуживать и скрывающееся за ним понятие. Именно об этой способности языка принимать новые слова и говорит Сепир как о «языковой форме». Как вы понимаете, его «форма» – это совсем не та «форма», что мы привыкли. Это особая «форма», о которой знают только языковеды и немножко философы.
Восходит она еще к Гумбольдтовским попыткам понять язык с помощью Канта через понятие «внутренней формы слова». Что это такое, объяснять не буду, поскольку и сам не понимаю, да, подозреваю, и Гумбольдт не разобрался. Да это пока и не требуется, поскольку очевидно, что Сепир всего лишь хочет сказать, что бедность словаря вовсе не означает слабость или «примитивность» самого языка. Словарь мог просто выродиться из-за условий жизни, в которых носителям языка пришлось ограничить себя лишь выживанием. Но словарь легко можно набрать, лишь бы язык сам по себе это позволял.
Сепиру была важна эта мысль, именно воплощенная через понятие «языковой формы», не случайно. Он мечтал о создании из языковедения науки, которая могла бы занять место, сопоставимое по значимости с троном царицы наук Математики. Поэтому он из работы в работу выискивал возможности превратить языковедение в нечто подобное математике или хотя бы логике. А логика, формальная логика, – работает с формами. С формами «логоса», если быть дословным, но что под этим понимают логики? Да все то же мышление, которое доступно им для изучения только воплощенным в язык.
Очарованный формализмом Сепир пишет:
«Мир языковых форм, взятый в пределах данного языка, есть завершенная система обозначения, точно так же, как система чисел есть завершенная система задания количественных отношений или как множество геометрических осей координат есть завершенная система задания всех точек данного пространства.
Математическая аналогия здесь вовсе не столь случайна, как это может показаться. Переход от одного языка к другому психологически подобен переходу от одной геометрической системы отсчета к другой. Окружающий мир, подлежащий выражению посредством языка, один и тот же для любого языка; мир точек пространства один и тот же для любой системы отсчета.
Однако формальные способы обозначения того или иного элемента опыта, равно как и той или иной точки пространства столь различны, что возникающее на их основе ощущение ориентации не может быть тождественно ни для произвольной пары языков, ни для произвольной пары систем отсчета. В каждом случае необходимо производить совершенно особую или ощутимо особую настройку, и эти различия имеют свои психологические корреляты» (Сепир, Грамматист, с. 252).
Идет 1924 год. Недавно закончилась первая мировая война, плоды от побед и поражений в которой пожинает бурно подымающаяся над миром Империя Соединенных Штатов. И подымается она за счет технологии и промышленности, которые нуждаются в совместном усилии всех наук, чтобы поставить весь мировой рынок на колени. В психологии царит бихевиоризм, который так же успешно превращает человека в машину, как Сепир пытается превратить человеческий язык в пульт управления…
Это госзаказ, как говорили в Советском Союзе. Это не могло не сделать Сепиру имя и мировую, по крайней мере, имперскую известность, поскольку он очень точно угадал, что будет в ближайшем веке наиболее покупаемо. А покупаемо у языковедов будет все, что позволит создать язык для машин, которым предназначено заменить человека. Победит то, что направлено на создание теории машинного перевода и языков вычислительных машин, мы это знаем как факт истории. Вот откуда эти странные «переходы по системам отсчета», разрабатываемые Сепиром в языковедении. Как истинный американец, он обладал гениальным чутьем на то, откуда дует коммерческий ветер…
Именно это и было подхвачено простым парнем, страховым агентом Уорфом. Убедившись на собственном опыте, что людям действительно свойственно доверять слову настолько, что они начинают вести себя так, как сказано, он пытается вывести это наблюдение на тот же государственно значимый уровень, что и учитель. Поэтому, простецки показав на примере «парня из толпы», что правило действует в страховом бизнесе, он сразу же делает скачок на уровень сложнейших философских понятий, и прямо за Сепиром дует в количество и пространство.
Исходная гипотеза все-таки была, и заключалась она в вопросах, которые поставил перед собой Уорф:
«Ту часть исследования, которая представлена здесь, можно кратко сформулировать в двух вопросах:
1) являются ли наши представления “времени”, “пространства” и “материи” в действительности одинаковыми для всех людей, или они до некоторой степени обусловлены структурой данного языка, и
2) существуют ли видимые связи между а) нормами культуры и поведения и б) основными лингвистическими категориями?» (Уорф, Отношение, с. 63–64).
Как вы понимаете, ответы были вполне очевидными: связь между обычным поведением и вообще обычаями и языком, безусловно, есть. Есть и какая-то зависимость между сложными понятиями и языком, на котором они объяснялись людям. Не более того.
Сами же работы Уорфа, как и Сепира, если отбросить узнаваемо американское желание навязывать свои ценности и математизировать языкознание, интересны и несут множество полезных для КИ-психологии наблюдений. Однако никто из них и их сторонников, похоже, не задумывался о том, что такое наши понятия в действительности. Как и не задумывался о том, как они возникают.
Избрав быть языковедами, они намеренно ослепили и зашорили себя, пытаясь сформировать из себя искусственные или культурные существа, узкоспециализированные на одном виде деятельности. В итоге они все видят только через язык и считают, что понятия тоже рождаются как способ запомнить то, что объясняют. И вообще, язык – это одно из орудий познания действительности…
Конечно, наследие этой школы надо еще изучать и изучать, но при этом надо его и делить на слои, среди которых явно просматривается и рыночная зависимость любой американской науки, и общенаучная жажда власти над миром… Для того, чтобы выбрать лишь слой, в котором хранятся только наблюдения над языком, культурой и поведением людей, придется хорошенько поработать. Поэтому я ограничусь пока самым общим представлением об этом направлении языкознания, сохранив ощущение, что эта наука вполне доступна для изучения и вполне применима для познания действительности.
Глава 3
Курс общей лингвистики. Соссюр
После трудов Гумбольдта языкознание воспрянуло и изменилось. Но изменилось так, что снова превратилось в застойное болото и сохраняло достигнутое без изменений целый век. Лишь с той разницей, что теперь языковеды с воловьим упорством занимались не тем, чем занимались до Гумбольдта.
Современные языковеды сами говорят о том, что на рубеже двадцатого века их наука переживала ту же болезнь, что и за век до этого.
«Переломный момент в развитии языкознания отмечали многие. Так, например, румынский языковед Й.Йордан еще в начале 20-х годов писал: “На повороте столетия в смежных областях духовной деятельности наметилось новое движение, которое было направлено против все еще господствовавших тогда методов. В течение XIX века все духовное— философия, наука и искусство – было подчинено натурализму в широком смысле этого слова.
Языкознание … состояло главным образом из сбора материала, под тяжестью которого оно испускало дух и становилось механическим”» (Слюсарева, с. 92).
Как пишут сами историки языкознания, «в воздухе витала необходимость введения новой методики анализа языковых фактов» (Там же).
Безобразное высказывание, за которое языковеду должно бы быть стыдно. Русский языковед не может говорить об «анализе языковых фактов», если он русский человек и говорит по-русски. Но они теперь именно так и говорят. Почему? Как раз потому, что именно этого способа говорить о языке и требует от них тот выход из тупика, который был найден.
Можно сказать, что из тупика натурализма языковедение бросилось в болото математизации. И весь двадцатый век языковеды щеголяют тем, что используют совершенно непонятные им математические и логистические термины, дико неудобные для русской речи, зато позволяющие всем им ощущать себя настоящими учеными и ходить гордо…
И нашел этот выход для языкознания новый пророк лингвистики – швейцарский языковед Фердинанд де Соссюр (1857–1913).
Соссюр начинал как индоевропеист, читал лекции об индоевропейских языках. Однако уже в ходе этой работы он начал накапливать наблюдения над языками, которые увели его в философию языка. В 1906 году он занял кафедру в Женевском университете и отчитал три раза «Курс общей лингвистики», который был издан после его смерти в 1916 году учениками.
К сожалению, сам Соссюр почти не оставил записей, и ученикам пришлось издавать этот курс по собственным конспектам лекций. Естественно, такое издание было полно недостатков, и языковеды высказывали даже мнения, что издатели перепутали смысловые части и издали сам курс не в том порядке, в каком развивалась мысль Соссюра.
В пятидесятых годах были найдены какие-то из собственных записей Соссюра, которые несколько уточнили изданный курс, однако, в общем, он так и остался «Вульгатой» языковедения, как его называли последователи.
Вульгатой, если вы не помните, назывался первый перевод Библии на латынь, по которому и жила Европа долгие века. Означает это слово – «общеупотребительная». Именно она изменила лицо и культуру Западного мира. Вот так же и «Курс общей лингвистики» Соссюра изменил лицо современного языкознания…
Чтобы передать тот восторг, что испытывают от работ Соссюра сами лингвисты, я просто приведу выдержки из их сочинений.
«Поскольку задачей лингвистов является философское осмысление разных направлений в истории языкознания, то очень важна оценка научного вклада Ф. деСоссюра, оказавшего большое влияние не только на западноевропейскую лингвистику, но и философию. Воздействие идей Соссюра справедливо оценил А.С. Чикобава, сказав:
“Концепция, изложенная в труде де Соссюра, сыграла в развитии общелингвистических воззрений Запада примерно такую же роль, какая отводится в развитии немецкой идеалистической философии критицизму Канта: западноевропейская лингвистика последних сорок лет или строится на идеях де Соссюра, то есть в той или иной мере восходит к де Соссюру, или же развивается путем преодоления положений и идей де Соссюра”» (Слюсарева, с. 93).
Что же, собственно говоря, они считают таким важным в находках Соссюра? Находок этих не так уж много, и при простом перечислении все выглядит просто и понятно:
«В философском аспекте главными в науке о языке являются проблемы лингвистического знака и структуры предложения» (Там же).
Знак и структура. Действительно, весь двадцатый век языковеды и близкие к ним философы крутились вокруг этих понятий, сделав с ними то же самое, что и Соссюр – окончательно запутав и затемнив настолько, что никто из непосвященных уже не смеет высказывать свои мнения о современной лингвистике. В общем, круто! И не для простых умов.
Корни этих сложностей, а точнее, возможности все усложнить видны даже в этом высказывании историка языковедения: каким образом ему удалось столь непререкаемо установить, что «в философском аспекте главными в науке о языке являются проблемы знака и структуры»? Это простое утверждение является простым только из будущего, то есть из сегодня, когда это писалось, при взгляде в прошлое. И звучит, в действительности, примерно как возмущение хорошей ученицы примитивными людьми прошлого: как они не понимают, что знак и структура являются главным!?
Но чтобы это восклицание стало оправданным, надо отдавать себе отчет, от лица какой философии ты говоришь. Если вообще философии, то это бред. Вот если от лица так называемой «философии языка» – одной из новых и непонятных наук, присвоивших себе чужое имя – тогда это верно. Философия языка так и возникала – как наука, изучающая знак и структуру. Да и то не вся.
Но и для нее выглядит странным, что главным в науке о языке являются не язык, не знак, не структура, а проблемы!.. Впрочем, это наводит на размышления: если какая-то наука делает своим предметом проблемы, значит, она, как говорится, хочет быть «проблемной», а не постигать истину. Иначе говоря, она хочет держать людей в состоянии запутанности и непонимания, очевидно, извлекая из этого какие-то выгоды…
Впрочем, возможно, это я придираюсь всего лишь к плохому владению русским языком, что неоправданно, поскольку русские языковеды заняты не русским языком, а проблемами знаков и структур. На язык, на то, чтобы обдумывать свои высказывания, у них просто не остается времени – слишком много надо изучать. Тем более – такого непонятного, как «структуры»…
Но чтобы показать, что я не просто издеваюсь над безответным автором, приведу следующее высказывание о том, что же привнес в языковедение Соссюр. Думаю, что в нем будет наглядно видно, как предмет начинает усложняться, обрастая возможностями для все большего непонимания.
«Слова Соссюра о категориальных характеристиках языка и о его размышлениях над логической классификацией языковых фактов позволяют говорить, что сам он тоже относит поставленную перед собой задачу к философии языка.
Следует подчеркнуть, что к решению философских проблем языка Соссюр пришел от выяснения характерных особенностей онтологии языка.
Для нас важно, что он пришел к необходимости признать системный характер языка, его знаковую природу и поставил проблему ценности (значимости) языковых единиц, то есть определил наличие реляционных свойств у них.
И наконец, он был первым среди лингвистов, заговорившим об общей теории знаковых систем как об особой науке, которую он назвал семиологией» (Там же, с. 95).
О знаковой природе речи говорили еще блаженный Августин и Фома Аквинский. И говорили гораздо глубже и тоньше Соссюра, что признавали и его исследователи. Из его набросков семиологии родилась современная семиотика, благодаря которой русские собиратели, этнографы и фольклористы вообще перестали видеть живое русское слово и жизнь тех, кто говорит по-русски. Теперь им во всем, даже в явлениях природы, мерещатся омертвелые тексты и суеверия.
Про то, что такое всяческие структурализмы, мне пока даже говорить не хочется, настолько это пугает простую человеческую душу. Но вот о том, что такое эта самая «ценность», проблему которой поставил Соссюр, я хотел бы привести следующие пояснения того же автора, чтобы стало наглядно видно, что там сложность накручена уже на следующем витке спирали, и понять невозможно ничего. Но не приведу, потому что даже не знаю, как к этому подступиться. Проще почитать самого Соссюра.
Но сначала пример того, как оценивали вклад Соссюра в науку о языке не коммунистические противники, а ученики и последователи. В частности, швейцарский языковед, автор программных трудов по лингвистике Альбер Сеше. Этот пример мне важен для того, чтобы показать, как западные мыслители превращали идеи Соссюра каждый в нечто свое, что особенно ужасно исказилось во всяческих структурализмах, порождающих грамматиках и машинных языках.
Переделать «Курс общей лингвистики» предлагал уже издавший его де Мауро. Сам выложив его в той последовательности, в какой читал Соссюр и записали слушатели, он впоследствии считал, что надо бы начать его с двухсотых страниц, затем вставить кусочек из сотых…вот тогда он обрел бы смысловую целостность…А мне думается, тогда он подошел бы под его понимание.
Точно так же предлагает понимать Соссюра не так, как хотел сам Соссюр, и учившийся у него Сеше:
«После двадцатилетних напряженных усилий, обновивших лингвистическую мысль, не может не чувствоваться, что труд Соссюра в своей основе связан с концепциями, господствовавшими в дано устаревшей младограмматической школе. По этой, да и ряду других причин многое в этом труде может подвергнуться критике или потребовать уточнений и исправлений. Нужно идти не по предполагавшемуся Соссюром пути.
В этом, естественно, и кроется причина, способная отвлечь внимание лингвистов от учения Соссюра. Но, признав это, мы признаем также, что его мысль содержит элементы бесспорной истины, которая и по сей день освещает путь исследователей и из которой извлечено далеко еще не все, что наука имеет право ожидать.
Таково, например, знаменитое различение языка и речи. Таковы взгляды Соссюра на различие между значимостью (ценностью— valeur) и значением элемента языка или краткие, но содержательные замечания о сущностях, тождествах и языковых реальностях. Таково его учение об ассоциативных синтагматических отношениях в синтаксисе.
Таков, в довершение всего, его метод анализа, который состоит в том, чтобы поставить в центр внимания лингвистической науки язык – то есть семиологический факт, взятый в его логической абстрактности, и в том, чтобы подчинить всю лингвистическую мысль требованиям этой абстракции. Собственно, именно в этом и заключается соссюровский метод…» (Сеше, с. 212).
Если я правильно понимаю Сеше и то, что произошло в современной лингвистике, западные языковеды разобрали учение Соссюра на составные части и пошли другим путем… Путем в машину, что мне очень не нравится. Но Соссюр в действительности способствовал этому, потому что очень любил говорить о языке как о механизме…
Советские же запутывали себя до такой степени, что лишались малейшей возможности понимать его. Вероятно, это делалось не без идеологического заказа, как составная часть железного занавеса, который не должен был пропускать к нам тлетворные влияния Запада.
Поэтому я обращусь к самому Соссюру, тем более что мне и не надо действительно его понимать как лингвиста. Достаточно понять, как развивалось языкознание, через которое Вундт пришел к Психологии народов. То есть посмотреть, что в учении Соссюра относится к психологии и культуре.







