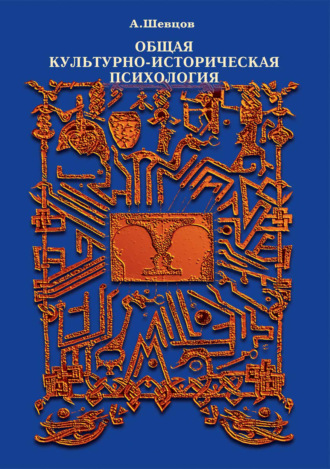
Александр Шевцов (Андреев)
Общая культурно-историческая психология
Глава 5
«Миф и религия»
Эта большая работа была написана Вундтом в 1905 году и, как видите, является второй частью предмета Народной психологии – язык, миф, нравы. В 1910 году, готовя второе издание книги, Вундт ее переработал и четко заявил, что это есть исследование «веры в души». Иными словами, в этой книге он попытался сделать предельно полное описание народных представлений о душе. В силу этого, вторая часть Народной психологии Вундта тоже оказалась на пограничье двух наук, но теперь не психологии и языкознания, а психологии и антропологии или этнологии, как называет эту науку Вундт.
Я хочу понять, что описал Вундт в качестве главного понятия народной психологии – народных представлений о душе. Казалось бы, нет ничего проще, как взять и пересказать последовательно то, что он пишет об этих представлениях. Но я ведь хочу не запомнить, а именно понять!
Это значит, что если я не буду учитывать ту точку, с которой Вундт смотрит на народные представления, я вообще его не пойму. Конечно, я могу просто выбрать из его работ этнографические свидетельства, которые он сам выбрал из работ современных ему этнологов. Но тогда проще обратиться прямо к этим источникам, потому что Вундт все равно останется непонятым. Как он постоянно и оставался.
Лично для меня Вундт немалый путаник, попавшийся в ловушку естественнонаучности. Он постоянно противоречит тому, к чему приводят его собственные рассуждения, мечется и дает множественные определения, которые не соответствуют друг другу. Это действует в нем яд научности, внутренне ощущаемый ученым как потребность делать науку, а не описывать действительность. Но при этом Вундт все время пытается делать науку как раз из того, что Кавелин определил как предмет КИ-психологии. Поэтому я постараюсь сначала понять, как же он видел то, что пытался изучать под именем «мифов».
Хочу сразу сказать: все-таки Вундт был врачом и лабораторным психологом, отнюдь не историком или антропологом. Этнология была для него так же непроста, как и языкознание. Поэтому взгляды его можно было бы осуждать и отрицать, как делали лингвисты. Но это неверно, как раз в силу того, что Вундт не самостоятелен как этнограф. Он воспитан той культурной средой, которая сложилась в этнологии к концу девятнадцатого века. И в этом смысле он неплохо образован и великолепно начитан. Он всего лишь не этнолог.
Самостоятелен он лишь в той части, как использовать этнографию для нужд психологии. Поэтому мне придется сделать небольшое этнологическое отступление, чтобы показать ту культуру, что вошла в сознание Вундта и стала исходной этнологической основой для его психологических рассуждений. Но сначала краткий очерк его мировоззрения относительно мифологии.
Первая задача, которую он решает, продолжает ту задачу, что была поставлена еще в психологии языка – создать для психологии возможность изучать образование и развитие наших представлений в истории:
«Вопрос о возникновении и развитии мифа может пониматься, как и всякий вопрос о развитии продуктов духовного творчества, в двояком смысле: историческом и психологическом…
И та и другая постановка вопросов, разумеется, не независимы друг от друга. Ведь вообще психологическое исследование возможно лишь на основе фактов, доставляемых исторической наукой. Но и история, в свою очередь, может придти к окончательному суждению о связи изучаемых ею процессов, лишь апеллируя каким-нибудь образом к их психическим мотивам» (Вундт, Миф, с. 248).
Как видите, Вундт очень последователен и верен себе. Душа – это процессы, которые мы наблюдаем в себе, но именно в силу того, что процессы – это некое движение или развитие, мы, изучая миф, как и изучая язык, можем увидеть это движение на предельно больших отрезках его исторического развития.
Если вдуматься, то это очень важное и зрелое утверждение, развивающее психологию самонаблюдения, да и объективную психологию тоже: заглядывая в себя, мы застаем в своем сознании нечто, некие «объекты», как говорят психологи. Они оказываются для исследователя данностями, и в силу этого может показаться, что все устроено именно так, как мы видим. Однако, если добавить к наблюдению «психических объектов» еще одно измерение – время, может оказаться, что наши представления о психике далеко не точны.
Если же учесть, что, благодаря исследованию языка и мифологических представлений, мы не просто видим содержание своего сознания во времени, но еще и обретаем возможность наблюдать его развитие, то есть изменения, происходящие под воздействием внешних сил, то этот подход становится обретением очень важного орудия качественного исследования содержания сознания.
Не оценить сделанное Вундтом могли только очень предвзятые люди. Но психологи до сих пор не оценили его труд.
В самом начале работы Вундт сравнивает состояние мифологии, а значит, этнологии, с языкознанием и утверждает, что положение дел в этой науке значительно отстает от языкознания. Исследователи еще совсем не думали, как использовать ее для психологического познания. При этом предмет мифологии предоставляет еще большие возможности для психолога.
«Ведь мифотворчество целиком относится к сфере чувств и представлений человека. Поэтому, если мы и наблюдаем зависимость продуктов мифологического сознания от внешних влияний природы и культуры, то зависимость эта такого же характера, как и во всех душевных процессах, в частности, и в индивидуальных представлениях, чувствах и аффектах.
Как эти последние, несмотря на свою зависимость от внешних раздражений, не перестают все-таки быть душевными процессами, так и образы мифологической фантазии являются прежде всего и сами по себе субъективными переживаниями, отличающимися от переживаний индивидуальной фантазии лишь тем, что, подобно языку, они основываются на духовном взаимодействии отдельных лиц и благодаря этому становятся звеньями исторической эволюции, далеко переживающей существование отдельных индивидов» (Там же, с. 250).
Вот теперь не будет ни в коей мере натяжкой сказать, что Вундт, рассказывая о том, как разные народы видели души, просто не слышит того, что они говорят, а сквозь все их образы прозревает «душевные процессы» и «субъективные переживания».
Далее Вундт рассказывает о том, как научная этнология изучала все эти «процессы» и «переживания», раскладывая ее развитие на несколько ступеней – от Теории вырождения до Анимизма. Поскольку все эти понятия составляют немаловажный слой представлений в нашем сознании и культуре, да и Вундта без них не понять, я посвящу им небольшие этнологическое отступление.
Этнологическое отступление
В начале «Мифа и религии» Вундт дает очерк того, как складывались его этнологические представления. Последующие этнологи, как русские, так и зарубежные, несколько иначе представляют себе историю развития этнографической науки. Но в целом, отличия невелики. И вызваны они, конечно, тем, что Вундт слишком близок к своей эпохе. Поэтому кого-то, кто сделал важный вклад в эту науку, он просто не заметил, а кого-то переоценил, поскольку тот был на слуху.
Однако отличия эти становятся совсем несущественными, если вспомнить о задаче понять Вундта. Поэтому я просто последую вслед за ним и кратко перескажу то, как, на его взгляд, складывалась мировая этнологическая наука.
Начинает Вундт с краткого рассказа об изучении мифов, то есть о мифологии, но, быстро помянув блаженного Августина, Вико, Лессинга, Гердера и Гегеля, делает вывод о двух основных способах понимания мифов, существующих в истории.
Главная, она же исходная мысль всех мифологий, как способов понять мифы: мы либо пытаемся в них сохранить память об утерянном рае, либо мечтаем о его обретении.
«Регрессивная концепция исходит скорее из представлений о некотором совершенном первоначальном состоянии человечества, как эти представления обнаруживаются в мифах о золотом веке, о рае, а у многих первобытных культурных народов— в сказаниях о происхождении человека от богов. Таким образом, представления эти первоначально сами относятся к области мифа.
Прогрессивная концепция первоначально гораздо менее распространена. Но и она слышится нам в широко распространенных мифологических представлениях о жизни на небе, в Елисейских полях, на островах блаженных, причем, разумеется, она, как это видно и в случае сказаний о рае, покидает действительную жизнь для потустороннего мира» (Вундт, Миф, с. 255).
После этого он переходит к «Теории вырождения», которую связывает с романтикой девятнадцатого века, воевавшей с идеологией Просвещения.
«В начале XIX столетия противоречие романтики прогрессивно настроенной во всех отношениях эпохе Просвещения обнаружилось и в том, что она стала склоняться к старым неоплатоническим представлениям о некоторой скрытой в мифических символах мудрости, затемнившейся в позднейшей традиции» (Там же, с. 255–256).
Как вы понимаете, «прогрессивно настроенной» является не романтика, а эпоха Просвещения. Собственного говоря, и сама идея прогресса, как поступательного движения от худшего и дикого ко все лучшему и цивилизованному, была изобретением Просвещения. Это было одно из важнейших орудий борьбы с Религией, то есть борьбы за захват Наукой правящего места в обществе. Поэтому она и перешла в мировоззрение современной естественнонаучной демократии как вполне политическое понятие.
Мы этого не осознаем, но лишь потому, что не обращаем внимания, так это стало привычно. Между тем, понятие прогресса – не научное, а политическое. Насильственное привитие его было нужно, чтобы сломать «циклические мировоззрения» традиционных народов, то есть народов, живших по обычаю. Вырезание русской культуры «прогрессивной интеллигенцией» девятнадцатого и двадцатого века осуществлялось именно как насаждение мнения, что все народное, исконное, и вообще русское – это дичь и варварство и должно быть уничтожено до основания, чтобы освободить дорогу прогрессу…
Романтики попытались воспеть красоту мифологического прошлого. Однако были сломлены наступающей наукой, и сдались:
«Но религиозная точка зрения романтиков неизбежно вела к соединению этих представлений с идеей прогресса, так как, в конце концов, все религиозное развитие должно было найти свое завершение в христианстве…
Сюда прежде всего относится заметное еще у Крейцера и у иных из его последователей представление, будто, в конце концов, вся мифология вытекла из одного источника древней восточной жреческой мудрости и будто за ее символами скрывается глубокая религиозная истина, которая, всячески искаженная и извращенная языческими религиями, открылась, наконец, во всей своей чистоте в христианстве» (Там же, с. 256).
Это относится к раннему романтизму времен Шеллинга и Франца Баа- дера. После научных открытий, освещающих влияние Востока на греческий мир, происходит возрождение романтических взглядов и романтической теории вырождения древнего знания в трудах неоромантиков.
«Главным представителем их и является Макс Мюллер в своих многочисленных работах по сравнительной мифологии и науке о религии…
Вера в души, фетишизм и другие, принимаемые обыкновенно за первобытные представления, истолковываются неоромантиками, большей частью, как дегенеративные явления, происхождение которых следует искать в более чистой идее о божестве» (Там же, с. 257).
Следующий слой представлений, легший в основании этнологии и изучения мифов, Вундт называет Теорией прогресса. Возможно, было бы понятней, если бы он назвал ее Теорией эволюции. Но так точнее, потому что показывает, чем в действительности были усилия, предпринятые Контом, Дарвином, Спенсером. В сущности, это было борьбой против господствующей религиозной идеи монотеизма, который пытались приписать и народным религиям.
«Поэтому новейшая мифология и наука о религии все более и более старались поставить на место этой внешней схемы картину эволюции, взятую из первоначальных источников самих мифологических представлений и их видоизменений, в зависимости от разнообразных условий природы и культуры.
Толчок к воззрениям подобного рода история религии получила с двух сторон.
С одной стороны, это была наука о древности, которая, втянув в круг своего ведения всю совокупность великих культурных народов древнего мира, побуждала к известной схематизации. С другой же стороны, этнология указывала на представления первобытных народов, в которых, казалось, должны были открыться начатки всякого мифотворчества. Если в первом случае особенное внимание привлекал к себе культ сил природы, то здесь главную роль играли первобытные представления о душе.
Так возникли две господствующие теории новейшей мифологии, теории натуралистическая и анимистичекая. Первая видит корень мифологии в мифе о природе, вторая— в мифе о душе» (Там же, с.263).
Основоположником Натуралистической теории можно считать Якоба Грима. В России ярчайшим ее представителем был Афанасьев. Как вы помните, суть этой теории сводилась к тому, чтобы для всех мифологических преданий найти некое объяснение из числа природных явлений – гром, дождь, солнце, луну…
Для психолога, как вы понимаете, гораздо любопытнее Теория анимизма. Собственно говоря, именно ее и будет разворачивать сам Вундт. Исходно, как он считает, эта теория родилась из аналогий между первобытными представлениями и представлениями «народов культурных», как говорит Вундт.
«Но при этом представлениями, между которыми проводились подобные аналогии, были не те великие и грозные явления, к которым приводил повсюду миф о природе, но представления о душах, духах, демонах, чародействе, видениях… Существенный признак анимистической теории заключается, однако, в том, что она рассматривает представления о духах и демонах как основу всякого образования мифов» (Там же, с. 268–269).
Теория эта развивалась в двух видах – как анимистическая и как манистическая.
«Из них первая (развитая, главным образом, Э. Тайлором) рассматривает веру в души вообще— имеют ли эти души свое местопребывание в людях, или животных, растениях, или безжизненных предметах, или же носятся в виде волшебных демонов вокруг людей— как нечто первичное. Веру в духов она опять- таки сводит к вере в души, которая, согласно ей, имеет свой корень в явлениях смерти, сна и сновидений.
Она, таким образом, ограничивает первоначальное понятие о душе той ее формой, которую мы рассмотрим ниже под названием “души-дыхания и души- тени”, или психе.
Манистическая же теория, развитая отчасти Гербертом Спенсером, а затем в особенности Юл. Липпертом, видит в некоторой специальной форме человеческих душ – именно в душах предков и в посвященном им культе предков – источник прежде всего прочих представлений о духах, а затем через них и остальных форм мифологического мышления. Поскольку же животные рассматриваются как предки и, значит, как духи-хранители человеческих племен, манизм является в то же время “тотемизмом”» (Там же, с. 269).
Вундт видит ошибки во всех этих теориях, тем не менее, рассматривать далее он будет именно их или, точнее, используемые ими этнологические материалы, посвященные душам. Соответственно, и мое этнологическое отступление будет посвящено тем же авторам, которых называет Вундт как своих предшественников.
Глава 1
Наука против самопознания. Макс Мюллер
Как вы помните, Вундт начинает историю этнологии с работ Макса Мюллера. Фридрих Макс Мюллер (1823–1900) родился в Германии, но в 1846 году уехал в Англию, где и стал профессором Оксфордского университета. Читал с начала 1850-х лекции по сравнительной филологии. Много писал как востоковед, исходя из языкознания, что, очевидно, и сделало его предшественником Вундта. Считается создателем религиоведения.
В своих работах возрождал романтическое мировоззрение и нападал на теорию эволюции Дарвина. Изучая языки, исходил из того, что понимать их надо через ту культуру, которой они принадлежат. При этом был яростным приверженцем науки и слугой научного сообщества, что и сказалось на всем его творчестве…
В России издано несколько его работ, но изданы безобразно, просто передраны из каких-то старых изданий даже без указания даты создания. Поэтому я могу лишь предположительно сказать, что его работа «Сравнительная мифология», которую намерен использовать, была написана после 1850 года, но не относится к числу поздних работ.
Сутью ее является утверждение той самой школы натуралистической мифологии, о которой рассказывал Вундт: если подойти к мифам научно, то в их основе всегда можно найти либо какое-то поэтическое отражение явлений природы, либо простое историческое событие, которое было не понято рассказчиками, из-за чего превратилось в миф. Мифология – это не содержание, это лишь форма, в которую облекались самые обычные человеческие мысли древних.
«Мифология – не что иное, как особая речь, древнейшая оболочка языка. Мифология, обращаясь главным образом к природе и из явлений природы преимущественно к тем, которые носят отпечаток закона, порядка, силы и мудрости, в то же время простиралась на все» (Мюллер, Сравнительная, с. 208).
Однако Мюллер в действительности вовсе не был этнологом, а еще хуже то, что его совершенно не интересовала душа, хотя он немало использует это слово, когда рассказывает, к примеру, об индийском Пуруше или Атмане, сравнивая древние индийские философии. Но Пуруша – это Пуруша, а вовсе не то, что стало предметом психологии.
Поэтому Мюллера можно было бы и совсем выпустить из рассмотрения, если бы не один чрезвычайно показательный мировоззренческий отрывок из «Сравнительной мифологии».
Вундт, завершая свою знаменитую работу «О душе человека и животных», приводит потрясающую воображение и ужасающую душу картину вселенской гибели, к которой нас с неизбежностью ведет лишенное богов естествознание. Картина эта столь искусно вылеплена Вундтом, что становится очевидным: она не случайна – в ней скрыта та самая «силовая точка опоры», с помощью которой естественная наука перевернула мир. И перевернула психологически, напугав, поразив воображение и захватив умы…
У Мюллера есть подобный же мировоззренческий кусок, в котором он, как боец за победу научной революции во всем мире, выразил свое отношение к ее врагам. Кусок этот довольно большой, но настолько важный, что я приведу его целиком. Начинается он с пересказа одного места из Платоновского «Федра», которое позволяет Мюллеру с подростковой задиристостью наскакивать на Сократа, заявляя, что сейчас он, «как два пальца об асфальт», по образному выражению молодежного сленга, докажет, что Сократ был не прав с его самопознанием. Молодые и лучшие ученые прогрессивные деятели науки отвергают все эти добуржуазные бредни и идут другим путем…
Итак, начинает Мюллер с отрывка из Федра.
«Федр. Видишь ли ты этот высокий платан?
Сократ. А что?
Ф. Под ним есть и тень с умеренной прохладой, есть и трава, чтобы сесть или прилечь, если захотим.
С. Так веди туда.
Ф. Скажи, Сократ, не здесь ли где-то на берегах Илисса, Орития, как говорят, была похищена Бореем?
С. Да, говорят.
Ф. Не с этого ли именно места? Здесь, кажется, воды так чисты и прозрачны, все так удобно для девичьих игр.
С. Нет, на две или три стадии ниже, там, где переход к храму Агры; там еще где-то есть и жертвенник Борею.
Ф. Я этого не знал; но скажи, Сократ, ради Зевса, веришь ли ты в истину этого сказания?
С. Неудивительно было бы, если бы и я, заодно со всеми мудрыми людьми, стал отвергать это сказание; тогда бы и я стал мудрствовать и говорить, что Оритию унесло порывом северного ветра с одной из близлежащий скал, где она играла с своей подругой Фармакеей; а потом, когда она таким образом погибла, стали говорить, что она была похищена Бореем отсюда или с холма Ареса: потому что существует еще другое сказание, будто похищение совершилось с того холма, а не отсюда.
Но, Федр, хотя я и признаю всю заманчивость подобных объяснений, я думаю, однако, что они требуют человека с особенной энергией мысли и способностью к усиленному труду, и притом едва ли участь такого человека была бы завидна, потому уже, что, покончив с этим мифом, он бы должен был тем же самым путем восстановлять первоначальный смысл гиппокентавров, потом Химеры, а там нахлынет целый сонм всех этих Горгон, Пегасов и других необъяснимых и по большей части нелепо баснословных существ. Много нужно досуга тому, кто, не веря в действительное бытие всех этих существ, захотел бы путем не очень тонких умствований приискать для каждого из них правдоподобное объяснение.
Что до меня касается, то у меня совсем нет на это времени, по той причине, друг мой, что до сих пор я не успел еще, по изречению Дельфийского оракула, узнать самого себя: вот почему, мне кажется, было бы странно, если бы, не узнав сперва этого, я взялся за другое, постороннее.
Потому, устраняя от себя все такие вопросы, я следую на этот счет общепринятым верованиям, а сам, как сейчас сказал, размышляю не об этом, а о самом себе: что я такое? зверь ли какой, быть может, сложнее и неукротимее самого Пифона? или же существо более кроткое и простое, которому природа назначила благородный и скромный удел?
Но, друг, не это ли то самое дерево, к которому лежал наш путь?
Ф. То самое» (Мюллер, Сравнительная, с. 106–107).
О чем говорит здесь Сократ? О нескольких простых и совершенно очевидных для каждого занимающегося самопознанием вещах. Во-первых, если ты избрал двигаться к определенной цели, не забывай об этом. Как видите, это ярко подчеркнуто Платоном через чисто литературный прием – движение к намеченному дереву, о котором ведущий к нему Федр забывает, а рассуждающий на отвлеченные темы Сократ помнит. Как вы понимаете, урок двойной – не только не забывать свою цель, но и не попадаться на ловушки мира, не отвлекаться и не увлекаться тем, что он подсовывает, даже принимая в позволении все подобные ловушки.
Второй урок естественно перетекает в суть сказанного Сократом: в точности, как он принимает вопрос Федра об этой чепухе, так же принимает он и общепринятые верования и обычаи – не увлекаясь и не забывая о своей задаче.
Третий урок, пожалуй, сложнее, хотя достаточно очевиден: не надо лезть со своим недоразвитым детским умишком судить о том, что не понимаешь. Подожди, пока ум твой разовьется, для чего поработай над собой, и тогда тот же вопрос увидится тобою совсем иначе. И ты сам посмеешься над тем, как пыжился и умничал раньше. Очень даже возможно, что однажды у тебя откроется видение, и тогда ты больше не будешь рассуждать о мифах и мифологических существах, потому что будешь ЗНАТЬ. Со знанием потребность в рассуждениях отпадает…
Самое любопытное начинается далее. Бойкий, как Моська, и задиристый, как молодой и еще не битый петушок, Макс Мюллер провозглашает манифест бродящего по Европе призрака Науки. Он явно ощущает себя представителем прогресса, ловко уедающего этого устарелого Сократа,…при этом даже не замечая, что попадает прямо в ту колею, которую две с половиной тысячи лет назад описал мудрец. Он с «особенной энергией мысли и способностью к усиленному труду» бодро семенит ножками как раз по той дорожке, по которой Сократ учит не ходить юного Федра…
«В то время в Афинах, как везде и во все времена, были люди, которые, утратив веру в чудесное и сверхъестественное, не имели достаточно нравственного мужества, чтобы безусловно отрицать то, верить чему они не могли себя заставить, и потому старались найти объяснение, которым бы легенды, дошедшие по преданию и освященные религиозными обрядами и авторитетом закона, примирялись с требованиями разума и законами природы.
Что Сократ, хотя и сам приговоренный к смерти за неверие, имел не очень высокое мнение о таких мыслителях, что он считал их объяснения нелепыми и невероятными более самых невероятных вымыслов греческой мифологии, и даже в известную пору своей жизни смотрел на эти попытки истолкования мифов как на профанацию святыни – это ясно как из приведенного отрывка, так и из многих других мест, встречающихся у Ксенофонта и у самого Платона.
Но когда Грот в своей классической “Истории Греции” пользуется этим местом и другими, сходного содержания, как бы для того, чтобы приравнять Сократа к историкам и критикам нашего времени, когда он свидетельством Сократа хочет доказать всю бесполезность “доискиваться в мифах греческого мира небывалой в них реальной, истинной основы”, то нет сомнения, что знаменитый историк хочет видеть в словах греческого философа более того, что в них действительно заключается.
Цель, которую мы имеем при изучении мифов как греков, так и всякого другого народа древнего мира, так далека от той точки зрения, на которой стоял Сократ, что едва ли сказанное им в укор современным ему афинским рационалистам может быть применено к нам.
Напротив, мы думаем, можно доказать, что с нашей точки зрения изучение мифов составляет часть той самой задачи, в разрешении которой Сократ полагал единственную достойную цель философии. Ибо что в настоящее время заставляет нас задавать себе вопрос о происхождении греческих мифов? <…>
Что же дает жизнь изучению древнего мира? Что же в наш деловой, практический век заставляет людей жертвовать своим досугом для занятий, которые, по-видимому, так непривлекательны и бесполезны, – что иное, как не убеждение, что, если мы по совету Дельфийского оракула хотим узнать, что такое человек, мы должны наперед узнать, чем он был?
От такого воззрения Сократ был так же далек, как и от всех начал индуктивной философии, с помощью которых люди, подобные Колумбу, Леонардо да Винчи, Копернику, Кеплеру, Бэкону и Галилею, возродили и утвердили умственную жизнь новой Европы. Соглашаясь вместе с Сократом, что главная цель философии есть самопознание, мы едва ли можем признать средства, предлагаемые Сократом для достижения этого познания, вполне соответствующими столь возвышенной цели.
Сократ видел в человеке по преимуществу индивидуум, человеческую душу саму по себе, не принимая в соображение того, что каждый человек есть отдельное проявление одной общей силы, или, как бы выразился Сократ, единой идеи, которая осуществляется в бесконечном разнообразии человеческих душ» (Там же, с. 107–109)
Надеюсь, вы увидели главную ловушку всех общественных наук, то есть наук о человеке, так ярко показанную Мюллером: все они бездумно размахивают лозунгами древней мудрости, не понимая их. Вот психология, антропология, этнология и многие другие кричат, что их задача – самопознание. Это слово даже можно встретить в предисловиях ко многим учебником. Но почему же потом это слово перестает встречаться?
А вы вчитайтесь в то, как рассуждает Мюллер. Ведь поначалу кажется, что он рьяный борец за дело Сократа:
мы думаем, можно доказать, что с нашей точки зрения изучение мифов составляет часть той самой задачи, в разрешении которой Сократ полагал единственную достойную цель философии.
Как вы помните, Сократ шел к самопознанию. А что видит его целью Мюллер?
что иное, как не убеждение, что, если мы по совету Дельфийского оракула, хотим узнать, что такое человек, мы должны наперед узнать, чем он был?
Дельфийский оракул советовал: гноти те тэаутон! Познай себя! Он не советовал познать, что такое человек!
Вот так к древу сократической мудрости, направленной внутрь, в себя, был подсажен росток научного интереса, направленный в противоположную сторону, вовне, наружу, на предметы внешние. Из него рождается и способ научного познания, убивающий метод Сократа – объективный метод в противоположность самонаблюдению и познанию себя как души.
Вот почему заключительные слова Мюллера, могущие показаться неожиданными, на самом деле очень естественны для его рассуждения:
Соглашаясь вместе с Сократом, что главная цель философии есть самопознание, мы едва ли можем признать средства, предлагаемые Сократом для достижения этого познания, вполне соответствующими столь возвышенной цели.
Средства эти называются Научным методом. Но методос переводится с греческого и как средство, способ, и как путь.
Как по-вашему, если мы заявим, что идем к тому же дереву, что и Сократ, но сами сразу же встанем на иной путь, мы придем туда же? Вообще-то, все дороги ведут в Рим, а все, что делается человеком, может стать самопознанием. Но как лихо молодые прогрессоры от науки улучшали то, что не понимали!..
И как четко предшественник Вундта и этнологии Макс Мюллер определил, что эта наука не будет изучать то, что считал предметом самопознания Сократ, а именно, человеческую душу. Ведь так и произошло, все науки, начиная с психологии, пошли другим путем и выкинули душу из рассмотрения. Даже когда они прямо пишут о ней, они либо пишут о каких- то «процессах», либо о верованиях и предрассудках тех «некультурных» народов, которые говорят о душе.







