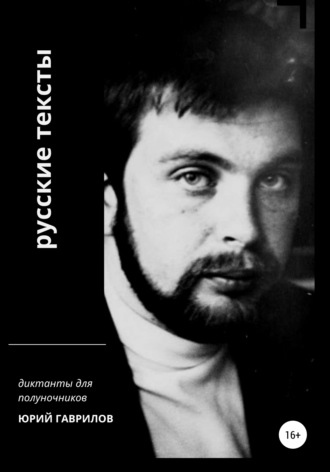
Юрий Львович Гаврилов
Русские тексты
Заболоцкий Николай Алексеевич
(1903–1958)
Он так же мало походил на поэта, как высокочтимый им Григорий Сковорода на философа. «Бухгалтер», «фармацевт» и даже Чичиков, респектабельный, с тщательным пробором и большим портфелем (последнее – Давид Самойлов).
«Казался немчурой и аккуратный Заболоцкий. Но чисто русское безумье было в нем…» (Семен Липкин).
Очевидно, что было нечто общее в совпавшем по времени чисто русском безумии Филонова, Шостаковича, Заболоцкого:
Тут природа вся валялась
В страшно диком беспорядке:
Кой-где дерево шаталось,
Там – реки струилась прядка.
Тут стояли две-три хаты
Над безумным ручейком…
Над безумным ручейком парит в воздухе безумный волк и вещает:
Я – Строитель. Я – Топор.
Победитель ваших нор.
Все это просится на музыку Шостаковича, что-нибудь дикое в духе оперы «Катерина Измайлова», и петь это надо на фоне мерцающих картин Филонова.
Изощренная образность, яростный гротеск «Столбцов», кристально ясная классическая стихотворная форма послевоенных лет – это и сложная самопроизвольная эволюция художника, и глубокий внутренний надлом тюрьмы, пыток, содового озера; унижение страхом, не избытое до смертного часа – русский поэт не ремесло, а судьба.
Натурфилософ, поклонник пантеиста Гете и космиста Циолковского, он уже в молодости, «о смерти размышляя», понимал:
Чтоб кровь моя остынуть не успела
Я умирал не раз. О, сколько мертвых тел
Я отделил от собственного тела.
Когда он почувствовал близость смерти, ему, «вечному мизантропу», открылась дивная формула всечеловеческого единства и нерасторжимой взаимосвязи:
Я разве только я? Я – только краткий миг
Чужих существований…
Воспринимая природу, как живое целое, он верил в бессмертие, не личное, среди райских кущ, но в чреду метаморфоз, бесконечный ряд туманных превращений, не позволяющих превратиться в ничто человеческому труду и гению:
И голос Пушкина был над листвою слышен,
И птицы Хлебникова пели у воды,
и встретил камень я. Был камень неподвижен,
и проступал в нем лик Сковороды.
И все существованья, все народы
Нетленное хранили бытие,
И сам я был не детище природы,
Но мысль ее! Но зыбкий ум ее!
И немыслимым образом уживалась в нем надежда на то, что «все существованья…» с трезвым озареньем:
Вселенная шумит и просит красоты.
Кричат моря, обрызганные пеной,
Но на холмах земли, на кладбищах Вселенной
Лишь избранные светятся цветы.
Шолохов Михаил Александрович
(1905–1984)
Загадка Шолохова сродни загадке Шекспира – произведения решительно не умещаются в биографию.
Шолохов получил начальное образование и был человеком малограмотным, как и Шекспир. В советских биографиях Шолохова утверждается: «учился в гимназии», но это не так. Шолохов учился в церковно-приходской школе – читать, писать, четыре действия арифметики, дроби, Закон Божий; а в гимназию Шолохов действительно поступил, но тут случилась революция, и гимназий не стало.
В семнадцатилетнем возрасте Шолохов приезжает в Москву, работает грузчиком, чернорабочим, делопроизводителем. Никаких следов занятий Шолохова в библиотеках, архивах исследователям его творчества обнаружить не удалось.
В 1924 году журналы публикуют несколько неожиданно зрелых рассказов юного автора. Тут бы и ковать литературное железо, пока оно горячо, но Шолохов неожиданно уезжает в глухую донскую провинцию, станицу Вешенскую, где поселяется на оставшиеся шестьдесят лет жизни.
Надо сказать, что сомнения в авторстве возникли со времени первых литературных опытов Шолохова.
Без библиотек и архивов Шолохов, человек с кругозором заурядного провинциального писаря, сильно и тяжело пьющий с самого нежного возраста, сидя безвыездно в захолустной дыре, создает величайшую эпопею ХХ века, действие которой начинается в 1912 году (Шолохову 7 лет!).
Автор свободно обращается с огромным историческим, географическим материалом; ему ведомы подробности быта Восточной Пруссии (где Шолохов, понятно, не был); детали русского наступления 1914 года (Шолохову – 10 лет и он учит правила сложения дробей).
Еще забавнее выглядит описание гражданской войны: автор на память цитирует армейские приказы, циркуляры диспозиции; обнаруживает подозрительные познания в военных науках, тонкостях политики стран Антанты на юге России. Все это необъяснимо.
Структурный анализ оказался бесполезным, к тому же за рамками исследования остались самые важные материалы – все то, что Шолохов писал и говорил вне Вешенской, например, военные корреспонденции. Как Антей, оторванный от земли, Шолохов, оторванный от любимой станицы, становился беспомощным, бессильным написать обычный очерк; его речи – пьяный истеричный бред узколобого палача и антисемита.
Предполагали, что Шолохов воспользовался материалами донского писателя Крюкова; но кто же создал бесспорно сильные и яркие страницы «Поднятой целины» и главы из романа «Они сражались за Родину»? Когда тот, кто это диктовал, умер, исчез и писатель Шолохов, за последние 40 лет жизни сотворивший «Судьбу человека» и букет безграмотной публицистики, литсотрудники меняли местами слова и фразы, это называлось «новыми редакциями» – чистая фикция! Создается впечатление: в расцвете творческой жизни Шолохов, подобно Швейку, разучился писать в буквальном смысле слова.
Так кому была предназначена Нобелевская премия 1965 года, которую из рук шведского короля принял М. А. Шолохов?
Бродский Иосиф Александрович
(1940–1996)
Начиналось все поразительно хорошо: начитавшись Слуцкого, шестнадцатилетний еврейский подросток неожиданно для самого себя начал писать стихи; стихи свели его с молодой ленинградской литературной богемой, – Найманом, Рейном, Бобышевым, а через них юное дарование прямиком попало под царственную руку Анны Андреевны Ахматовой.
Советская власть, категорически отказавшись признать поэтический труд за работу по найму у музы, в судебном порядке признала Бродского тунеядцем; статья уголовная и весила пять лет ссылки в глушь, в деревню Норенскую Архангельской губернии. Случилось это в 1964 году, в годину больших изменений в жизни советского общества.
Ахматова была в восторге: «Они делают рыжему биографию великого поэта!» По ее царскосельским понятиям у великого поэта должно быть свое Михайловское и свой Дантес.
В деревне Норенской к Бродскому относились хорошо: ну чудак, ну малохольный; стихи писать не мешали, за тунеядца не держали – от звезды до звезды за бумагами…
Заступничеством Твардовского, Шостаковича, Маршака срок Бродскому скостили до полутора лет, а в 1972 году поэт эмигрировал в США.
В своей нобелевской речи он так объяснил отъезд: «Лучше быть последним неудачником в демократии, чем мучеником или властителем дум в деспотии».
Прекрасный Иосиф обманул ожидания Ахматовой, он бежал биографии великого поэта, он уехал не только из страны, но и из русской поэзии.
«Сумев отгородиться от людей», он стал классиком; сам Александр Кушнер признал его «поэтом безутешной мысли».
Первая книга, вышедшая за океаном, называлась «Конец прекрасной эпохи» – не в бровь, а в глаз – эпоха кончилась, началось относительно благополучное существование «в демократии», время переводов с эсперанто на русский.
Родину он вспоминал редко, остроумно и матерно, смотри «Представление», но не друзей юности, не Ахматову:
Бог сохраняет все; особенно слова
Прощенья и любви, как собственный свой голос.
Красивый, двадцатидвухлетний, он писал:
Ни страны, ни погоста
Не хочу выбирать
На Васильевский остров
Я приду умирать.
Не пришел, хотя никто ему не мешал.
История ветхозаветная, о первородстве и демократии: он мог стать русским поэтом, а стал нобелевским лауреатом.
Пушкин на балу
Пушкин был скорее теоретиком бала, нежели практиком. Он, правда, писал о днях своей юности: «Я был от балов без ума», но сами мазурки и котильоны едва ли влекли его, танцор он был не ахти, его обвораживала сама приподнятая атмосфера бала и красавицы, с которыми нельзя было объясниться без помех, не кружась в вихре вальса.
После ссылки Пушкин предался карточной игре и забыл все па, которым его обучали в лицее; «танцевать он не умел», – вспоминает Смирнова-Россет.
После женитьбы балы открылись Пушкину с иной, мрачной стороны. Он был уже не молодой повеса, а муж, фигура комическая, и отец семейства, что в глазах проказливой молодежи и холостых светских волокит было еще смешней.
Чтобы Наталья Николаевна могла появляться на придворных балах, Пушкин был пожалован в камер-юнкеры, Александр Сергеевич посчитал этот придворный чин не соответствующим его положению первого поэта отечества.
И Пушкин возненавидел балы, и что только не вытворял, чтобы царь запретил ему (и Наталье Николаевне) на балах появляться. Однажды он, вместо камер-юнкерского мундира явился во фраке – уж лучше бы он голым пришел. Отдуваться за Пушкина, как всегда, пришлось Жуковскому.
Та же Смирнова-Россет: он молча и лениво прошелся со мной по залу. Это стало манерой Пушкина, если дама уж очень домогалась потанцевать с ним, он брал ее за руку и со зверским видом волочил по зале, причем она танцевала, а он шел пешком.
«Вообрази, жена моя на днях чуть не умерла. Нынешняя зима была ужасно изобильна балами. На маслянице танцевали уже два раза в день. Наконец, настало последнее воскресенье перед великим постом. Думаю: слава Богу! Балы с плеч долой! Жена во дворце, вдруг, смотрю, с ней делается дурно…», – Пушкин Нащокину.
Однажды на балу, где Пушкин от скуки разговаривал лишь с неглупой госпожой Крюднер, Наталья Николаевна исчезла.
Пушкин нашел ее дома, жена кротко осведомилась, как закончился бал, как здоровье госпожи Крюднер, а затем влепила мужу полновесную оплеуху. Пушкин, смеясь, признался князю Вяземскому, что у его «мадонны рука тяжеленька».
Приметы и предсказания в жизни Пушкина
А. С. Пушкин был возвращен из ссылки императором Николаем I после того, как декабристы были казнены. Вернувшись из Михайловского, поэт рассказал друзьям занятную историю, которую любил повторять при случае до самой своей смерти: Пушкин жил в Михайловском, и ему было запрещено выезжать за пределы ближайших окрестностей. В начале декабря 1825 года в псковскую глубинку доходят слухи о смерти императора Александра I, затем темные, несвязные сведения об отречении от престола цесаревича Константина. Пушкину стало невмоготу сидеть в деревне, он хотел знать, как действительно обстоят дела, от этого могла зависеть судьба его.
Поэт решается на отчаянный шаг: он намерен тайно покинуть Михайловское с тем расчетом, чтобы добраться в Петербург поздно вечером, пробыть в столице сутки, встретиться с друзьями, покинуть город ночью и незамеченным вернуться на место ссылки.
Пушкин понимал, что он не может остановиться ни у одного из своих великосветских друзей – тайное станет явным, ни в гостинице – потребуют паспорт; Александр Сергеевич придумал ехать прямо на квартиру к Рылееву, человеку несветскому и хорошо осведомленному в политических новостях.
Перед отъездом в столицу Пушкин решил заглянуть в Тригорское и попрощаться с соседками. На пути туда и обратно заяц перебегает дорогу (а заяц в сельской местности приравнивался к черной кошке – известному вестнику несчастья для суеверных людей). Александр Сергеевич засомневался, а не напрасно ли он полагается на снисходительность властей, к тому же, вернувшись домой, он узнает, что слуга, назначенный сопровождать его в Петербург, внезапно заболел горячкою…
Когда же на выезде из ворот повозка встретилась со священником, шедшим проститься с отъезжающим барином, Пушкин приказывает поворачивать назад и остается в Михайловском.
«А вот каковы были бы последствия моей поездки, – прибавлял Пушкин. – Я рассчитывал приехать в Петербург поздно вечером, чтобы не огласился слишком скоро мой приезд, и, следовательно, попал бы к Рылееву прямо на собрание 13 декабря (на котором разрабатывался план восстания – авт.). Меня приняли бы с восторгом, я попал бы вместе с прочими на Сенатскую площадь – и не сидел бы теперь вместе с вами, мои милые!»
К этой излюбленной истории своего спасения Пушкин часто рассказывал сон, который считал вещим: в ночь на 13 июля 1826 года ему приснилось, что у него выпало 5 зубов. Рано утром 13 июля на кронверке Петропавловской крепости были повешены пятеро декабристов, все близкие знакомые Пушкина. Заметим, что Пушкин ничего не мог знать о дате казни, исполнение приговора над декабристами держалось в секрете.
Надо сказать, что Пушкин верил в приметы, предсказания, в неслучайные совпадения – в таинственные силы, управляющие судьбой. Александр Сергеевич не был фаталистом, т. е. он не считал, что в жизни человека все заранее предрешено, но он был убежден: нечто, чего мы не знаем и не можем постичь, способно предупреждать человека об опасностях и решающих поворотах земного бытия.
Кроме примет еще один навязчивый мотив, сопровождавший всю жизнь Александра Сергеевича – предсказание его насильственной смерти, к которому поэт относился вполне серьезно.
Первым человеком, посулившим «насильственную смерть и еще не в пожилые годы» была сестра поэта Ольга Сергеевна, занимавшаяся хиромантией.
Вскоре после объяснения с Ольгой Сергеевной, Пушкин посетил госпожу Киргоф, особу, известную во многих европейских столицах; она предсказывала будущее по руке, была кофейной гадалкой, ворожила на картах. Внимательно рассмотрев ладонь Александра Сергеевича (на его спутников она обратила мало внимания), старая немка воскликнула: «О, вы человек не простой!..». Прорицательница предсказала Пушкину славу, изгнание и женитьбу, которая могла стать причиной его насильственной смерти. Гадалка сказала, что Александр Сергеевич может прожить долгую жизнь, но на 37-м году ему нужно опасаться белоголового человека и белой лошади. На 37-м году жизни Александра Сергеевича на его пути оказался белоголовый человек – Жорж Дантес.
Возможно, Пушкин принял бы эти слова к сведению и не более, но старая немка сделала еще несколько конкретных указаний относительно ближайшего будущего: Пушкин должен был получить письмо с деньгами и иметь разговор о службе. Все это было важно для Александра Сергеевича, но ни в то, ни в другое он не поверил, и не мудрено – деньги он получал только от отца, в Петербурге, никакая почта для этого не требовалась, в переговоры о службе Пушкин ни с кем не вступал и не собирался этого делать.
Вечером того же дня Александр Сергеевич в театре встретился с генералом Орловым, который предложил поэту оставить министерство иностранных дел, надеть эполеты и служить в конной гвардии. Возвратясь домой, Пушкин нашел у себя на столе письмо с изрядной суммой денег. Однокашник поэта по Лицею, Корсаков, получивший наследство по умершему отцу, возвращал Пушкину карточный долг времен их школьных шалостей, долг, о котором сам поэт давно забыл. Корсаков вскоре умер в Италии совсем молодым человеком.
Пушкин опасался новых знакомых-блондинов. В 1826 году Александра Сергеевича привезли в Москву, где по случаю коронации находился царь. Николай I принял поэта и долго беседовал с ним один на один, что само по себе было явлением исключительным. После этой аудиенции Пушкин говорил друзьям: «Когда я увидел царя, то первым делом подумал – не тот ли это белокурый человек, который решит судьбу мою?..»
Еще до этого случая при переезде из Одессы в Михайловское в одном из городов Пушкин был приглашен на бал к местному губернатору. В числе гостей Александр Сергеевич заметил высокого белокурого светлоглазого офицера, который так пристально и внимательно всматривался в поэта, что тот, вспомнив пророчество старой немки, полностью подтвержденное греком-прорицателем в Одессе, покинул бальную залу и перешел в другую комнату. Однако офицер последовал за Пушкиным, который начал опасаться, что белокурый молодой человек ищет повода для вызова на дуэль. Александр Сергеевич заранее был убежден, что этот поединок станет для него последним, и незнакомец убьет его.
Игра в убегание и преследование продолжалась большую часть вечера. «Мне и совестно и неловко было, и я, должен сознаться, порядочно струхнул», – признался Пушкин своему другу, П. В. Нащокину.
Впоследствии Александру Сергеевичу объяснили, что молодой офицер был восторженным поклонником поэта и искал случая познакомиться…
В 1827 году Пушкин написал злую эпиграмму на литератора Андрея Муравьева, посредственного поэта, высокого блондина с лошадиной физиономией. Летом 1827 года эпиграмма была опубликована в «Московском вестнике». Встретившись с издателем журнала, Михаилом Погодиным, Пушкин пошутил: «Мне предсказали смерть от белого человека или белой лошади, а Андрей Муравьев и белый человек, и лошадь».
Но, когда за три года до роковой дуэли поэт познакомился с Дантесом, белокурым офицером верхом на белой лошади, сердце не подсказало Пушкину, что перед ним его убийца – Дантес понравился поэту веселостью нрава и манерами светского повесы.
Известно, какое значение новобрачные предают всем мельчайшим обстоятельствам церемонии бракосочетания. Александр Сергеевич и Наталья Николаевна венчались в церкви Старого Вознесения у Никитских Ворот, и Пушкин был склонен видеть в этом неслучайное совпадение: родился у Вознесения, женился у Вознесения, – говорил поэт.
Во время венчания упали с аналоя крест и Евангелие, когда молодые шли кругом, вслед за этим у Пушкина погасла свеча. «Это дурные приметы», – сказал Александр Сергеевич.
Он вообще мало верил в свое семейное счастье, «горести не удивят меня, они входят в мои домашние расчеты», – писал он своему другу накануне свадьбы.
Сестре Ольге Сергеевне Пушкин указывал на то, что над семейной жизнью и Ганнибалов, и Пушкиных словно тяготеет рок: разводы, заточения жен, и, наконец, две кровавые развязки.
У Александра Сергеевича был список несчастливых дней года, секрет которых ему поведал какой-то прорицатель. Пушкин говорил, что в заповедные дни нельзя начинать серьезного дела, вступать на службу, менять квартиру. Если человек заболеет в такой день, он либо умрет, либо недуг его станет хроническим. Впрочем, Пушкин не любил показывать свой заветный список, но продиктовал его своей сестре, Ольге Сергеевне, о чем потом сожалел.
Вот это секретный календарь Александра Сергеевича: январь – 1, 2, 4, 6, 11, 12, 20; февраль – 11, 17, 18; март – 1, 14, 24, 25, апрель – 1, 17, 18, май – 1, 6, 26, июнь – 17, июль – 17, 21, август – 20, 21, сентябрь – 10, 18, октябрь – 2, 6, 8, ноябрь – 6, 8, декабрь – 6, 11, 18.
Сам поэт родился в несчастливый день 26 мая и при всякой невзгоде говорил: «Что же делать? Так уж мне на роду написано: в несчастный день родился!»
Лучшим доказательством предвидения Александром Сергеевичем своей скорой смерти является написанный за пять месяцев до гибели «Памятник», по самому жанру своему – подведение итогов земной юдоли.
Мало кто обращает внимание на то, что в «Евгении Онегине» Пушкин предсказал все обстоятельства и точную дату своей последней дуэли; Пушкин сыграл роль Ленского: вызвал хорошего знакомого, свояка, из-за женщины, стрелялся 27 января (дата поединка в «Евгении Онегине») и погиб.
Племянник Александра Сергеевича, Лев Павлищев (сын сестры поэта Ольги Сергеевны) в своей «Семейной хронике» описывает странный и забавный случай, который, безусловно, заслуживает упоминания: любимым предметом бесед матери с друзьями был мир загробный. Осенью 1853 года собрались в Москве, у господ Нащокиных любители столокружения, чающие проникнуть в тайны потустороннего существования, друзья покойного Александра Сергеевича. Господа эти вызвали тень его, и тень, будто бы управляя рукой молоденькой девочки, не имевшей никакого понятия о стихах, написала следующую штуку (на вопрос любопытных: Скажи, Пушкин, где ты теперь?)
Входя в небесные селенья,
Печалилась душа моя,
Что средь земного треволненья
Вас оставлял надолго я…
По-прежнему вы сердцу милы,
Но неземное я люблю
И у престола Высшей Силы
За вас, друзья мои, молю…
Пушкин-дуэлянт
Однокашник Пушкина по лицею, барон Модинька Корф, человек преувеличенной нравственности, поэта не любивший, писал: «Вечно без копейки, вечно в долгах, иногда и без порядочного фрака, с беспрестанными историями, с частыми дуэлями…»
Пушкин старательно создавал себе репутацию бретера – зачем? Атакуя, он защищался: он был небогат, незнатен, штатский, чин незначительный – соблазнительная мишень для насмешек и подтрунивания.
В Кишиневе Пушкин оказался в среде боевых офицеров, они на войне доказали свою доблесть, пулям не кланялись, стихов чаще всего не читали – что им был Пушкин? Служебное положение его неопределенное, игрок невезучий, и на бильярде не мастак, но в Петербурге он имел несколько дуэлей – вот это заслуживало уважения.
Правда, с Кюхельбекером поединок был скорее комическим, равно и повод, ставший причиной для вызова: Пушкин спросил как-то у Жуковского, почему его вчера не было видно. Василий Андреевич простодушно ответил: «У меня желудок расстроился, слуга Яков по оплошности запер дверь, да еще ко мне пришел Кюхельбекер». Пушкин тут же сочинил:
За ужином объелся я,
А Яков запер дверь оплошно —
Так было мне, мои друзья,
И кюхельбекерно и тошно.
«За подлое искажение моей фамилии!» – взвыл Вильгельм; но Кюхля промазал, Пушкин выстрелил в воздух, и друзья обнялись.
В Кишиневе, во время танцев в офицерском собрании Пушкин повел себя вызывающе: офицеры заказали оркестру один танец, Александр Сергеевич – другой, командир егерского полка Старов потребовал от Пушкина извинений. «Я – к Вашим услугам», – отвечал поэт.
Стрелялись за городом, в отчаянную метель, оба дали по два промаха и были согласны перенести дуэль в помещение, но решительно воспротивились секунданты.
Скрупулезное исполнение всех дуэльных правил, то, что Пушкин «стоял под пулями так же хорошо, как писал», – из письма Старову к Пушкину, способствовало примирению: «Я жив, Старов здоров. Дуэль не кончен».
В мае 1836 года мог произойти поединок между Пушкиным и графом Соллогубом. «Этот вертопрах, провинился перед Натали своими пошлыми остротами; он иногда так неучтив. Пушкин поступил тогда, как следует», – Смирнова-Россет.
Незадолго до этого Пушкин с трудом урегулировал недоразумение с одним из достойнейших людей эпохи, героем 12-го года, князем Репниным, а все шло к дуэли.
С соседом Гончаровых, молодым богатым помещиком, ссора вышла нелепая; Пушкин наговорил Хлюстину дерзостей, и шар покатился в лузу. Миротворцем выступил Соболевский, пожар удалось погасить.
Что-то жгло Пушкина, что-то не давало ему покоя, что-то толкало его под Лепаж Дантеса.



