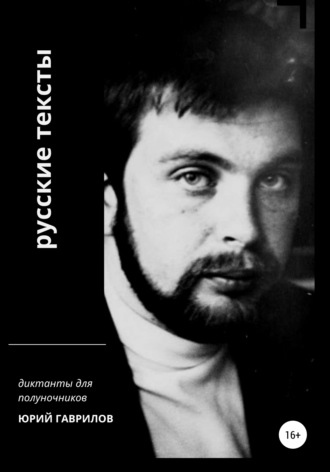
Юрий Львович Гаврилов
Русские тексты
Антики. Жертвы легковерья и легкомыслия
В тридцатых годах XIX века в Москве была известна забавная личность – очень богатый помещик, который где ни появлялся, там и спал, и это его состояние вовсе не было следствием слабости или болезненности организма.
В молодости он жил в Париже и, как многие русские, посетил однажды знаменитую прорицательницу, госпожу Ленорман. Опытная гадалка сразу поняла, что перед ней человек порядком глупый и легковерный и решила над ним пошутить. Напророчив ему с три короба всякой чепухи, она сделала скорбное лицо и мрачно сказала: «Я вижу обстоятельства Вашей смерти. Вы умрете, – зловещая пауза, – в своей постели».
В тот же день покойные мягкие перины, подушки лебяжьего и гагачьего пуха, шелковые и верблюжьи одеяла были выброшены из квартиры, и наш герой уж никогда более не ложился в постель.
Ночью он бодрствовал, а утром закладывали цугом его четырехместную карету, несчастный во фраке и белом галстуке, в сопровождении калмычки и старого мопса, отправлялся дремать в окрестности Москвы. Вечером калмычка рассказывала обо всем, что встретилось по дороге; зная вкусы своего господина, она возила его по кладбищам и похоронам, а тому знатно спалось под унылое пение.
Умирая, легковерный антик из последних сил брыкался, мешая уложить его на постель; наконец, его сопротивление было сломлено, и предсказание госпожи Ленорман исполнилось.
Служил в русском военном флоте капитан II ранга Лукин, человек удивительной сверхъестественной физической силы и такого же хладнокровия.
Однажды в британском порту, в таверне пьяный английский морской офицер начал задирать Лукина, утверждая, что русский никогда не сделает того, что может совершить англичанин. «Попробуй», – сказал Лукин. «Вот ты, например, не посмеешь отрезать мне нос!», – засмеялся англичанин – поразительное легкомыслие! Лукин молча взял нож, отрезал англичанину нос и положил нос ему в тарелку.
Английский офицер всей душой полюбил Лукина за римскую простоту нрава, сдружился с ним, заказал себе чудесный пробковый нос, частенько наведывался к Лукину в Кронштадт, но больше его не задирал.
Антики. Кошачья барыня
Любовь к кошкам – весьма простительное чудачество, если, конечно, она не переходит в страсть, впрочем, так можно сказать о любом чувстве, неспроста древние, как первую заповедь чтили правило: «Все в меру».
В нынешнем городском быту кошки совершенно бесполезны, но на протяжении многих веков не было такого дома, где не жили бы усато-полосатые, иной раз в изрядном количестве – в кладовых хранились разнообразные съестные припасы, привлекавшие мышей и крыс, а никакие усовершенствованные мышеловки не могут сравниться с животным, которого природа сотворила идеальным убийцей.
В Петербурге графиня Толстая, удивлявшая князя Вяземского абсолютным бесстрашием перед лицом смерти, т. к. расставание с жизнью в глазах графини стоило того, что в загробном мире она должна была узнать тайну Железной маски и одной несостоявшейся великосветской свадьбы; так вот эта Толстая прославилась странноприимным домом для бродячих кошек и собак, который она устроила в своем особняке (в чем, прочем была не одинока).
Котят она раздавала будочникам, навещала своих питомцев, привозила гостинцы, проверяла упитанность, чистоту, условия содержания. Будочникам она выплачивала на кошек известный пансион, из которого иные стражи порядка выкраивали себе на калгановую и померанцевую.
Всем котятам она сама давала имена, получая таким образом пищу для ума и занятие, несколько отвлекавшее ее от напряженных размышлений о роковой загадке Железной маски – дело в том, что есть правила, согласно которым называют породистых и собак, в отношении же кошачьих кличек все зависит от фантазии хозяина.
Имена графиня заносила в памятную книжечку: здесь были и светские Зизи, Фифи, Артуры и Томасы, библейские и мифические Самуилы и Улисы, но встречались и простецкие Мотьки и Муськи.
За упущения в воспитании котят будочники получали нагоняй, надобность в которых скоро отпала – среди служителей алебарды, суровых приверженцев померанцевой, началось настоящее соревнование: у кого кот толще. В столицах появились чудовища с хриплым мявом, величиной c полугодовалого кабанчика, обыватели пугливо шарахались, вмешалось начальство, но кошек притеснять не стали.
Вот что каждый должен обязательно знать о кошках: это древние и неприкосновенные животные, так, во всяком случае, утверждал один из самых знаменитых литературных котов.
Антики. Московские пророки
При слове «пророк» в сознании интеллигента второй половины XIX века вставали фигуры судьбоносные: пушкинский пророк, сотворенный Богом и исполненный его волей; бегущий порочного, глухого к его всеведенью человечества, гонимый пророк Лермонтова; жаждущий умереть за людей страстотерпец, пророк-демократ Некрасова!
Полтора века назад Россия жадно внимала иным пророкам и прорицателям.
Турусина в «Мудрецах» Островского, богатая барыня, племяннице на выданье ищет жениха и в приступе нерешительности восклицает: «Какая потеря для Москвы, что умер Иван Яковлевич! Как легко и просто было жить в Москве при нем… А будь жив Иван Яковлевич, мне бы и думать не о чем, съездила, спросила – и покойна».
Иван Яковлевич Корейша – самый знаменитый и почитаемый из 26 общемосковских юродивых и дур, косноязычные бессмысленные пророчества которых ложились основанием браков, карьер, продаж и покупки имений; бессвязное бормотание сумасшедших становилось «диагнозом», указывало на средство и способ излечения, отпускало грехи и прочая.
Впрочем, Иван Яковлевич Корейша был смоленский пророк из кутейников, имевший незначительное образование и управлявшим чьим-то имуществом. Он запутался в денежных делах, бежал в леса, вырыл себе землянку и начал предсказывать, за что был отправлен в Москву, в дом умалишенных, т. к. подобного заведения в смоленской губернии не было.
В Москве он жил в покое, без цепи, в отличие от других больных, он, юродивый, был окружен юродивым поклонением москвичей и провинциалов; в день его посещали до ста человек разного звания; с каждого администрация брала по двугривенному «в пользу других пациентов заведения», туда же шли и многочисленные подношения в виде чая, сахарных голов, варений и солений.
Вряд ли Иван Яковлевич симулировал слабоумие, ибо был совершенно бескорыстен; его очень достоверно описал Достоевский в «Бесах».
Когда Иван Яковлевич в 1861 году умер, вокруг мертвого тела началась такая истерика, что пришлось вмешаться московским властям. Вата из носа и ушей покойника, песочек из-под гроба долгое время считались самым верным средством от всех болезней.
Почитание юродивых, по большей части – откровенных проходимцев, глубокая, сокровенная историческая традиция святой Руси. А вы говорите – Жириновский…
Антики. Атаман Платов и иностранцы
Граф Платов был не дурак выпить, шампанского не признавал, но всегда имел изрядный запас цимлянского, к коему был пристрастен из-за гастрономическо-патриотических соображений.
Любимым собутыльником атамана был знаменитый германский фельдмаршал Блюхер.
Полководцы пили молча, поровну, подолгу – всегда до тех пор, пока Блюхер не падал под стол. Адъютанты привычно относили его в экипаж и отвозили домой.
Оставшись один за столом, Платов наливал себе серебряный стакан водки-кизлярки и говорил: «Люблю Блюхера! Право, славный, приятный человек, одно плохо в нем: не выдерживает!»
Адъютант и переводчик Платова майор Смирной однажды заметил:
– Ваше Сиятельство, Блюхер ни слова не знает по-русски, вы – по-немецки, какое удовольствие Вы находите в знакомстве с ним?
– Э! Я без разговоров знаю его душу; он потому и приятен, что сердце у него золотое.
Платов вывез из Лондона – он был там в свите Александра I в 1814 году, молодую англичанку в качестве компаньонки. Друзья Платова стали удивляться, как, не зная английского языка, он выбрал себе компаньонку-иностранку.
– Это не то, что вы думаете, – объяснял атаман, – это не для хфизики, а больше для морали. Она – добрейшая душа, а к тому же такая белая и дородная, что ни дать ни взять – ярославская баба.
Платов диктовал адъютанту Смирному письмо Ришелье. Смирный написал: «Ваша Светлость, герцог Эммануил…»
Платов остался недоволен:
– Какой он герцог! Напиши: дюк!
– Герцог все равно, что дюк, – пояснил Смирной.
– Ты еще учить меня станешь! – возмутился Платов, – дюк поважнее герцога будет, герцог ни к черту не годится перед дюком, просто дрянь какая-то.
Антики. Пустые люди
Случались, и не редко, при дворе такие никчемные особы, что при всех их связях и могущественных покровителях, приставить их к какому-либо делу было решительно невозможно.
Император Александр Павлович как-то на маневрах послал с приказаниями в полки князя П. П. Лопухина, столь же красивого и осанистого, сколь и глупого.
Лопухин, естественно, все перепутал, и маневры расстроились.
Александр сказал Лопухину: «Ну ладно вы, а я-то каков дурак, нашел, кого послать…»
Царевич Грузинский, известный остолоп, назначен был присутствующим в Сенате. Он обещал одному просителю свою поддержку, но вместе с другими сенаторами подписал отрицательное определение, а своему просителю признался, что подписывает бумаги, не читая их.
– Да как же так, не читая? – поразился проситель. – Надо же все-таки вникать в дело!
– Пробовал, братец, еще хуже выходит…
У всесильного Потемкина был племянник, Давыдов, которого светлейший всячески пытался пристроить при дворе. Но тщетно: Екатерина убедилась в неспособности Давыдова ни к какому, самому пустяшному делу.
Но Потемкин не унимался, он пенял императрице, что она, плохо зная Давыдова, никогда не дает ему никаких поручений и приказаний. Однажды Екатерина с Потемкиным вошли в залу, где без дела слонялся Давыдов.
– Пойдите, посмотрите, что там наш барометр, – милостиво обратилась императрица к Давыдову.
Тот бегом отправился выполнять поручение, а, вернувшись, торжественно доложил:
– Висит, Ваше Величество.
Больше Потемкин государыне просьбами касательно Давыдова не докучал.
Некий никчемный человек донимал просьбами А. А. Нарышкина пристроить его в придворный штат. Нарышкин отказывался, ссылаясь на отсутствие вакансии, но однажды прямо объявил соискателю должности, что дураки не надобны.
– А вы приставьте меня к смотрению за какой-нибудь канарейкой.
– И что же из этого будет? – удивился Нарышкин.
– Все-таки станется, чем прокормить семью, – из этого ответа можно судить, что кандидат в придворную прислугу был, может быть, и глуп, но себе на уме.
Антики. Рассеянные люди
Отец шефа жандармов, графа Бенкендорфа, был чрезвычайно рассеян.
Однажды был он приглашен на бал, танцы кончились далеко за полночь; Бенкендорф и хозяин дома остались один на один. Прошли в кабинет, разговор не вязался, оба устали и хотели спать. Бенкендорф был близким человеком при императорском дворе, ему невозможно было сказать, что, мол, пора на боковую.
Прошел еще час, наконец, хозяин нашелся и сказал, что если экипаж Бенкендорфа не приехал, он велит заложить свой. Поздний гость очень удивился: «А я хотел Вам предложить свою карету!» Тут-то все и разъяснилось: Бенкендорф думал, что он у себя дома и сердился на своего визави, что тот так бессовестно засиделся в гостях.
В последние годы своей жизни Бенкендорф поселился в Риге; он был ленив писать письма, но не поздравить с тезоименитством вдовствующую императрицу Марию Федоровну он не мог, вот и разрывался между ленью и верноподданническим чувством.
В конце концов, махнет рукой и скажет: «Нет уж, лучше съезжу в Петербург. Так лучше и скорее будет».
Однажды Бенкендорф сидел в своем служебном кабинете и не подписывал чрезвычайно важные и срочные бумаги. А когда секретарь напомнил ему, что документы должно уже отправить, Бенкендорф страшно закричал: «Я ничего не буду подписывать, если мне сейчас же не скажут, кто я такой и как моя фамилия!»
Одесский генерал-губернатор, француз граф Ланжерон, кроме рассеянности славился пристрастием к разговорам с самим с собой. Однажды адъютант, вошедши в кабинет Ланжерона, увидел: граф что-то отрывисто пишет на большом листе бумаги, каждую строчку внимательно рассматривает и со словами: «Нье будет! Нье будет!» – продолжает свое занятие.
Оказалось, губернатор учился подписываться: фельдмаршал граф Ланжерон, а слова «нье будет, нье будет» означали лишь то, что он догадывался – не быть ему фельдмаршалом…
Граф Остерман был до того рассеян, что, усевшись в покойное вольтеровское кресло, кричал кучеру: «Пошел в Сенат!»; на званых обедах часто ел из чужой тарелки и чесал ногу соседа, принимая ее за свою.
Антики. Русский Калиостро
В середине XIX века гастролировал по городам России занятный профессор черной и белой магии граф Калиостро, в миру – отставной штабс-капитан Григорьев. Он уже тогда понимал силу рекламы, и вывески его балаганов были броскими и заманчивыми: «Здесь показывается лошадь, у которой хвост там, где у всех лошадей голова».
Публика валом валила поглядеть на монстра и была жестоко, по обыкновению Григорьева, обманута, причем таким образом, что потребовать деньги назад не представлялось возможным.
Внутренность балагана изображала конюшню в одно стойло, где стояла самая обыкновенная лошадь.
Соль шутки заключалась в том, что мнимый урод был привязан к яслям не за голову, как это делается всегда, а за хвост.
Одураченные любители феноменов претензий к профессору не предъявляли; вообще, Калиостро ловко использовал принцип «нового платья короля» – обманутые молчали, они не хотели, чтобы на них показывали пальцем, и с тайным злорадством смотрели на очередь жаждущих посмотреть на хвост вместо головы.
«Граф Калиостро на глазах почтенной публики съест живого человека». Публике, переполнившей зал местного клуба, ушлый профессор сообщал, что, так как все ассистенты уже съедены, ему необходим доброволец из числа зрителей; когда таковых не находилось, людоед разводил руками и говорил с глубоким сожалением: «Фокус не удался, господа, по вашей вине!»
Однажды желающий быть съеденным, дородный купец гренадерского роста, все же нашелся; «Я начну есть Вас с шеи», – честно предупредил Калиостро, и, не теряя времени даром, вцепился зубами в загривок жертвы; купец взвыл и бежал с подиума.
В одном губернском городе половина жителей купилась на невинную балаганную вывеску, впрочем, несколько туманную: «Здесь угадывают».
Легкое строение имело сквозной проход, посередине которого была отгорожена маленькая каморка, куда любители магии и предсказаний допускались поодиночке. Каморка имела вид таинственный и зловещий, она была изнутри обита черным сукном, на небольшом возвышении стоял стол, до полу покрытый такой же тканью, на столе – черная ваза, прикрытая салфеткой того же траурного цвета.
У стола стоял Калиостро, одетый в тон убранству каморки, и каждому посетителю он торжественно и зловеще говорил: «Извольте окунуть палец в вазу», а когда это было исполнено, добавлял: «Потрудитесь его понюхать».
Посетитель нюхал, лицо его искажалось брезгливой гримасой: «Это какие-то помои!»
«Поздравляю, Вы угадали, – торжествовал Калиостро, – следующий!»
Никто не обратился ни к губернатору, ни в полицию.
Антики. Пух и прах
«Пух и прах!», – после этого восклицания главноуправляющего путей сообщения графа Клейнмихиля кучер знал, что нужно скакать сломя голову и не щадя прохожих.
Соблазна общего места не избежать: какой русский не любит быстрой езды?
Ответ прост: цари, очень важные персоны, все путешествующие на своих лошадях – Коробочка, старушка Ларина с дочерью Татьяной, Чичиков с Петрушкой и Селифаном, крестьяне (не загонять же собственную единственную лошадь), прасол Алексей Кольцов, т. е. абсолютное большинство населения страны.
Это Лермонтов проселочным путем любил «скакать в телеге», во что разрешите не поверить, потому что безрессорная езда – жестокая пытка, и развлечение весьма опасное для здоровья – губернатор Сибири Корсаков, большой любитель скакать в телеге, умер от блуждающей почки (а блуждать она стала от многолетней невыносимой тряски).
Так думал молодой повеса, летя в пыли на почтовых со средней скоростью 10 верст в час (12 – зимой и 8 – осенью; весной, в распутицу, большой перерыв – тает снег, вскрываются реки).
На коротком участке, загоняя лошадей, можно было достичь скорости в 20 верст (21 км) в час, но в таком случае на водку ямщику нужно было дать по-царски.
Вообще, дорога была дорогим удовольствием. Ямские станции со страдательной фигурой смотрителя (помните изверга человеческого рода, муромского разбойника Самсона Вырина) отстояли друг от друга на 25–30 верст, там и взимали плату за проезд. От Москвы до СПб станций было числом 25 – смотри названия глав в «Путешествии» Радищева (позднее этим же литературным приемом воспользовался автор поэмы «Москва – Петушки»).
Расчет был прост: 1 лошадь х 1версту= 10 копеек (8 копеек по хорошей дороге, а где они в России?), итого тройка от северной Пальмиры до первопрестольной стоила 200 рублей ассигнациями. Если учесть, что среднедушевые траты российского обывателя на рубеже XVIII–XIX веков составляли 17 копеек в год, то понятно – лететь в пыли на почтовых могли немногие.
Первая общественная карета – дилижанс, кстати, первый русский транспорт, ходивший (неслыханное дело) строго по расписанию. Дилижанс зимой брал четырех пассажиров, а летом шестерых; двое и зимой и летом ехали на крыше вместе с частью багажа; место в экипаже стоило 100 рублей, а на свежем воздухе – 75 (зимой – 60).
Компания общественных карет была создана на деньги людей богатых и знатных (граф М. С. Воронцов, князь А. С. Меньшиков) из человеколюбия, и прибыли не искавших, тем более неожиданным был коммерческий успех: на дилижанс записывались в очередь.
Зимой охотники до путешествий, а Пушкин неспроста называл охоту к перемене мест мучительным свойством, потирая ушибленные места, всего через четверо суток прибывали к месту назначения, летом поездка растягивалась еще на 12–16 часов.
Итак, Россия, страна бескрайних пространств (хоть три года скачи, ни до какого государства не доскачешь) и плохих дорог – страна медленная, так почему же Гоголь…
Потому, что именно Россия – страна самой бешеной, самой отчаянной скачки, именно русская тройка оказалась самой быстрой упряжью в мире.
Любителем быстрой езды был известный временщик Аракчеев. Его поместье Грузино отстояло от СПб на 122 версты; Аракчеев проложил туда первое в России правильное шоссе с твердым покрытием, и, выехав из дома в столице ровно в 6.00 (он был большой педант), ровно в 14.00 он въезжал в имение. Лошадей ему, разумеется, без всякого промедления, меняли на каждой подстанции, и средняя скорость получалась совершенно фантастическая, курьерская – 17 верст в час.
Рысистые испытания Аракчеева обошлись казне в 1 миллион рублей с хвостиком, сумма по тем временам астрономическая – миллион стоило шоссе, остальное – лошадки: в Грузине «без лести преданный» норовил побывать каждую неделю.
Почти 100000 верст намотал по шоссе Аракчеев, а абсолютный рекорд по дальности поездок установил некий петербургский купец-меховщик, достоверно разменявший миллион верст, скорее всего, на лошадях никто в мире столько не проскакал – Сибирь-матушка!
Зимой 1809 года есаул Чеусов выехал из СПб и через 17 суток был в Иркутске, за 6016 верст, результат неслыханный!
Но летом 1856 года свершилось невероятное – Михаил Сергеевич Волконский привез своему отцу и всем декабристам манифест-помилование императора Александра II из Москвы в Иркутск за 15 с половиной суток. В конце пути он не мог ни сидеть, ни лежать, а мог только стоять на четвереньках – так болело все тело.
И, наконец, русское чудо – байкальский прогон. От станции на одном берегу озера до станции на другом – 57 верст.
Тройка и «на диво слаженный возок» по зеркальному льду преодолевали прогон за два часа; а при попутном ветре, когда повозку парусило, и лошади с трудом, обрывая постромки, уходили из-под нее, выходило по 30 верст в час!
Никто в Европах и Америках в это не поверил бы.
Антики. Русский Нострадамус
В 1757 году в России родился удивительный человек, которого принято называть русским Нострадамусом; но по сию пору упоминается он очень глухо, исследований и объяснений поразительного явления нет.
Французский врач и астролог Мишель Нострадамус жил в 16 веке. Всемирную славу ему принесла книга «Центурии» («Столетия»), которую он отдельными выпусками начал публиковать в 1555 году.
Принято считать, что «Центурии» содержат предсказания важнейших событий мировой истории вплоть до середины третьего тысячелетия. Но всякий желающий узнать будущее с помощью Нострадамуса, взявши в руки знаменитую книгу, будет разочарован. Каждая «Центурия», а всего числом их десять, содержит сто катренов – предсказаний, состоящих из четырех стихов. Четверостишия Нострадамуса очень темны по смыслу, они не содержат никаких точных, привязанных к определенному месту и времени, пророчеств. Разумеется, это породило огромную армию толкователей текстов Нострадамуса, но точность толкований сильно снижается тем, что производятся они задним числом.
Например, к Петру I, уже после его смерти, стали относить такой катрен:
Усилия Аквилона (северного ветра) будут велики,
Ворота на океан будут открыты,
Королевство на острове будет восстановлено,
Лондон задрожит, открытый парусам.
Не правда ли, не особенно вразумительно. Но ничего более определенного у Нострадамуса нет!
Предсказания русского монаха Авеля, о котором мы упомянули в начале статьи, хотя и не охватывали всемирной истории, представляются гораздо более поразительными.
В 1790 году в придворных кругах Санкт-Петербурга распространились слухи о странном монахе, человеке совсем незнатном, родом из крестьян, который толкует Апокалипсис и предвидит будущее.
Монаха Авеля посетили несколько вельмож и удалились от него в страшном смятении, потому что помимо других предсказаний Авель назвал год, месяц, день и даже час смерти здравствующий императрицы Екатерины II.
Дабы ужасные слухи не смущали общество, Авеля посадили в крепость, всего же он провел в заключении в разное время двадцать лет.
За несколько месяцев до смерти Екатерина серьезно занемогла; придворные трепетали: шел 1796 год, означенный Авелем как год смерти государыни. Но Екатерина выздоровела, наступил уже ноябрь, и немногие посвященные в предсказание вздохнули спокойно.
Но 6 ноября 1796 года Екатерину разбил полный паралич, и через 36 часов она умерла ровно в то самое время, которое отмерял ей скромный чернец.
Авель был незамедлительно извлечен из крепости, и стал монахом придворной Александро-Невской лавры, где он немного времени спустя, с той же точностью предсказал смерть Павла I, указав на ее насильственный характер.
Император не стал наказывать Авеля, разрешил ему пророчествовать, но письменно, а бумаги забирал к себе.
При Александре I Авель сидел и в тюрьме, и в крепости, и в монастырской тюрьме. О последних днях Александра он высказываться не пожелал, но совершенно точно предсказал нашествие французов в 1812 году, сожжение Москвы…
Император Николай I распорядился заточить Авеля в Спасо-Ефремовский монастырь. Режим заключения глубокого старика был суровым: Авелю запрещалось покидать свою келью иначе, как для церковных служб, не разрешалось общаться с братией, к нему никого не допускали; в 1841 году монах-предсказатель умер.
Судьба его бумаг неизвестна, кроме тех, которые сохранились в архиве Павла I. В них, якобы, было предсказано свержение монархии Романовых в 1917 году и казнь императорской семьи.



