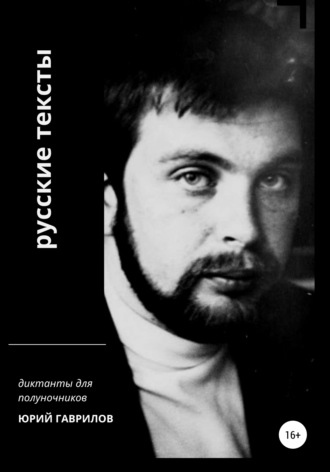
Юрий Львович Гаврилов
Русские тексты
Бабель Исаак Эммануилович
(1894–1940)
Паустовский утверждает, что Бабель показывал ему двадцать вторую, и еще не окончательную, редакцию рассказа «Любка Казак».
Бабель никогда не писал брусками, как какой-нибудь Панферов, он не сочинял и страницами, Бабель осторожно прилаживал слово к слову и был влюблен в эту кропотливую работу.
«Фраза рождается на свет и хорошей, и дурной в одно и то же время. Тайна заключается в повороте, едва ощутимом. Рычаг должен лежать в руке и обогреваться. Повернуть его надо один раз, а не два».
Такой поворот ключа рукой мастера возможен и по отношению к миру вообще: Бабель был романтиком.
Романтика многообразна: полное отрицание действительности – цветные грезы Гофмана; конструирование своего собственного виртуального Космоса у Александра Грина; бумажные цветы революционной романтики Горького – все это тугой взвод творческой манеры; Бабель же сделал лишь один поворот рычага.
И буденовские бандиты «Конармии» предстают перед нами такими: «…в посадке Колесникова я увидел властительное равнодушие татарского хана и распознал выучку прославленного Книги, своевольного Павлюченки, пленительного Савицкого».
Через несколько лет после окончания войны Бабель встретился со своими героями: это были обыкновенные куркули, недовольные тем, что им не додали всего – земли, ульев, лошадей…
Мог ли Бабель взглянуть на своих героев поверх романтических окуляров? Конечно, в жизни он был умный и трезвый человек, но художнику это было неважно, потому что он смотрел «на мир, как на луг в мае, на луг, по которому ходят женщины и кони».
Речь героев «Одесских рассказов» настолько колоритна, что запоминается как стихи: «Об чем думает такой папаша? Он думает об выпить хорошую стопку водки, об дать кому-нибудь по морде, об своих конях – и ничего больше».
При этом надо помнить, что и «Автобиография», и биографические мотивы в «Одесских рассказах» – смесь лихой выдумки с расчетливыми умолчаниями.
Великолепный мастер был Бабель, единственный и неповторимый, но зачем он подготовил номер журнала «СССР на стройке» об изобилии в украинских колхозах во время великого голода, зачем водил компанию с палачами во времена бессудных расправ?..
Шварц Евгений Львович
(1896–1958)
Тот, кто не читал его, обокрал себя самым бессовестным образом.
Сказочник, насмешник, мудрец, волшебник.
Он брал старые истории про новое платье короля и принца-свинопаса у Андерсена, что-то непостижимое с ними делал, и сольная пьеса для грустной скрипки превращалась в концерт для скрипки с оркестром.
И появлялась непостижимая толпа или министры, страшные – все-таки сказка, смешные – все-таки Шварц.
Он создал сказки о природе власти, о том, что она всегда лжет, что господство ее основано на обмане. И когда обман по мизерному поводу разоблачен, король становится смешон, люди ликуют – «мы прогнали короля», наступает праздник, ожидается, надо понимать, всеобщее республиканское счастье – и все очень мило, очень уютно вплетается в антимонархическую канву 30-х годов.
Но это лишь видимость, потому что «Снежная королева» – история о горячем сердце, способном растопить весь лед мира.
И как-то под сурдинку, о власти: ведь «Снежная королева» – власть, власть холода и забвения.
Эта власть завораживает и обольщает, а это страшнее власти насилия.
Превращение мальчика Кея в мальчика с ледяным сердцем начинается с того, что Королева целует его, делая своим избранником.
Эта власть – загадка, согласитесь, «ледяная игра разума» – хитрая затея, тем более, если выигрыш – весь мир и пара коньков в придачу.
Царство Снежной Королевы – власть расчетливого зла. Снежная Королева много умнее голого короля – склочника, самодура, любителя новых платьев и молодых девочек.
Герда побеждает Снежную Королеву потому, что её любовь горяча, но она не в силах лишить ее престола, и праздник носит скромный семейный характер.
Власть «Тени» – власть коварная, ей мало подчинить человека силой, ей для самоутверждения своего могущества необходимо сломать, растоптать Ученого, заставить его отказаться от себя, предать себя, а значит – и Герду, которая в этой сказке зовется Аннунциатой.
История человека, потерявшего тень, становится историей Тени, захватившей власть, принцессу и пару коньков в придачу, Тени, торжествующей свою победу над человеком.
Простите, а много ли людей в сказке? Людоеды, министры, тайный советник, Юлия Джули, курортники – это люди?
Доктор да неопытная обманутая принцесса, а так все злодеи да мертвые души.
Надо признать, действие сказки развивается в довольно мрачных обстоятельствах.
Правда, автор утверждает, что есть некий родовой дефект, и некое заклинание («Тень, знай свое место!»), стоит его произнести, как власть превратиться в пустое место…
Увы! Такого заклинания нет, это я вам с полным знанием дела говорю.
Но и «Голый король», и «Снежная королева», и «Тень» – сказки о любви, и феномен власти, необычайно занимающий автора, исследуется в них попутно со всеми другими феноменами.
Но мысль о власти, о ее природе, о ее тайне не оставляет Шварца и толкает на дерзкий шаг, в 1943 году написан «Дракон», сказка, где главным героем стала тоталитарная власть.
Год написания, немецкие имена – все это создавало некий наивный камуфляж: дескать, страна – известно какая, и кто такой Дракон – любому понятно.
Может быть понятно, но не всем, например – мне.
В 1943 году под Драконом подразумевался Гитлер, а через 13 лет начали догадываться, что это – совсем другой человек.
Как он все угадал, чертов сказочник, хотя все и произошло совсем по-другому.
Как говорят лукавые историки: может быть, на деле все происходило не так, как в действительности.
«Дракон» – сказка о бесчеловечном и беспощадном механизме тоталитарной власти.
И, конечно, можно играть Ельцина – бургомистром, Гайдара – Генрихом, первым учеником подлости, а Чубайса – принцем-администратором (из «Обыкновенного чуда»), это будет забавно, но сказка не о том, она о том, что в каждом человеке живет Дракон, и каждый должен убить в себе Дракона своими руками, никакой Ланцелот здесь не поможет.
Я убил в себе Дракона в юности, а Ланцелотом не стал – почему?
Сказка о том, что победителем Дракона непременно становится Губернатор и многие верят этому.
Ельцин – победитель коммунизма.
Мораль сказки – власть всегда в руках тех, кто никоим образом не должен быть к ней допущен; и не сломает ли власть Ланцелота?
Б. Л. Пастернак думал в 21-м году, что Ланцелот – это Ленин, потом, что Ланцелот – это Сталин и разочаровался и в том, и в другом.
Хрущев был слишком смешон и подл, и уже поэтому в Ланцелоты не годился.
И гениальный поэт, устав обольщаться, капитулировал перед властью – он был стар и больше смерти боялся оказаться вне России, власть воспользовалась этим и растоптала Пастернака.
А ведь Хрущев был победителем Дракона и не какого-нибудь захудалого – а самого страшного в истории.
Жестокие уроки реальной жизни не прошли мимо Шварца, «Дракон» – его последняя сказка о власти.
Не знаю, смирился ли он с неодолимостью зла.
Но что значат все эти умствования по сравнению с тем, как великолепно написаны сказки Шварца.
Его юмор – умный, веселый, тонкий, грустный – рождает бесконечное количество изящных афоризмов: «детей надо баловать, тогда из них вырастают настоящие разбойники», «принцесса, вы так невинны, что можете сказать совершенно страшные вещи», «девушку украшает скромность и прозрачное платьице», «у трактирной стойки я еще не такое слышал о любви», «единственный способ избавиться от Драконов – это иметь своего собственного» – и так через строчку.
Читайте же Шварца, читайте всю жизнь с отрочества до старости, это чтение – на все времена.
Зощенко Михаил Михайлович
(1895–1958) —
Платонов Андрей Платонович
(1899–1951)
Зощенко – повелитель мух, Платонов – собеседник стихий; Зощенко – орган, виртуозно вытаскивающий житейский случай, бытовой факт на уровень стихии; Платонов – орган, воспроизводящий мычание – звуки-мысли человеков-стихий, пожелавших разлиться по мелким формам социальной утопии.
Но повелитель мух иначе называется Вельзевул, а собеседник стихий – как?
Персонажи Зощенко, порождение портерных, дешевых парикмахерских и нелепого советского быта не могли бы превратить жизнь русского общества в ад, не совокупившись с былинными героями Платонова, которые спустя некоторое время регулярно, в очередь покорно становились к стенке.
Платонов – хаос, Зощенко – упорядоченный хаос, людишки Зощенко всегда вторичны, творцы Чевенгура – первичны, ниже них только трава, они – почва, из которой должна была вырасти и не выросла пролетарская культура.
Зощенко был одним из самых публикуемых и самых богатых советских писателей; в 1946 году власть внезапно отвергла его, ударила в пах и привязала к позорному столбу, но Зощенко не признал себя виновным.
Платонов был не очень известен, многократно бит – и каялся; он был беден, что породило соблазнительные сплетни о том, что он служил дворником и даже гардеробщиком в ЦДЛ (Платонов был майором Советской Армии в отставке, и на бутылку водки ему хватало офицерской пенсии).
Его главные произведения, написанные утробным полумычанием, уже не открывает никто, кроме специалистов, он занесен в почетную когорту нечитаемых классиков.
Зощенко еще печатают, но памятника в каждом городе Советского Союза, как того требовал Мандельштам, ему точно не поставят.
И то и другое несправедливо: Зощенко заслужил памятник хотя бы в Петербурге; а среди глыбообразных Чевенгуров Платонова заблудились ручейки чистой воды жизни: «Фро», «Сокровенный человек», «Возвращение» – их может сердцем испить каждый, кто умеет читать по-русски.
Набоков Владимир Владимирович
(1899–1977)
И ангелу Лаодикийской церкви напиши: «…знаю твои дела; ты ни холоден,
ни горяч; о, если бы ты был холоден или горяч!
Но как ты тепл, а не горяч и не холоден,
то изблюю тебя из уст Моих».
Откровение Иоанна Богослова
Русская литература от «Жития протопопа Аввакума» до «Возвращения» Андрея Платонова и «Одного дня Ивана Денисовича» Александра Солженицына написана кровью, той самой черной земной кровью полубезумного провидца Александра Блока.
А сочинения Владимира Набокова написаны чернилами, лучшими дорогими чернилами фирмы «Паркер», по 3 доллара за склянку.
Флаконы чернил покойно стояли в каком-нибудь скупердяйском французском секретере съемной квартиры.
Неустроенный быт писателя (до публикации и экранизации «Лолиты», после чего Набоков стал состоятельным человеком) никогда не определял его письмо-бумажных пристрастий, сложившихся еще в особняке из розового мрамора на Большой Морской.
Чернилами Набоков писал превосходно, стилист он был прирожденный («Стиль – это человек», Бюффон), но откуда берутся фальшивые ноты? Прозу Бунина англоман находит парчовой – неточно, все, что о России у Бунина кровоточит; Ходасевича в весьма благожелательной рецензии он называет «поэтом для немногих», будто существуют поэты «для многих»…
«У меня лучшая часть слов в бегах и не откликаются на трубу», – это признание и Цинцината Ц и, безусловно, его творца.
И этот порок письма определен предметом исследования: постоянное и единственное занятие Владимира Владимировича, по его собственному признанию – «обход самого себя».
Он озирает себя с разных сторон и все обнаруженное заносит на бумагу, от этой на себе сосредоточенности и разбежались все лучшие слова.
Впрочем, «Дар» написан заинтересованным и насмешливым пером, однако породистый столичный, счастливый в семейной жизни барин мог и попристальнее вглядеться в провинциального поповича, у которого был сильный ум, незаурядные способности и воловье трудолюбие, но не было дара. И одаренный Годунов-Чердынцев (он же – В. В. Набоков) торжествует свое полное превосходство над несчастливым рогоносцем, ибо дар – выше семи пядей во лбу и мужицкого пота.
Однако о Чернышевском один поэт сказал:
Его еще пока что не распяли.
Но час придет, он будет на кресте.
Его послал Бог гнева и печали
Царям земли напомнить о Христе.
О Набокове никто и никогда такого не скажет.
Признаюсь, мне утопические бредни Чернышевского интереснее «Лолиты», они – горячи, в них – дуновение чумы, и какой кровью обернутся сны Веры Павловны через 60 лет! – их так просто из уст своих не изблюешь, небрежно утершись тыльной стороной ладони.
«Сообразно с законом, Цинциннату Ц. объявили смертный приговор шепотом. Все встали, обмениваясь улыбками. Седой судья, припав к его уху, подышав, сообщив, медленно отодвинулся, как будто отлипал».
Каково! «Как будто отлипал…»!
Привыкши выковыривать изюм из жизни сладкой сайки…
«Лакомое чтение» – словами самого Набокова.
А вот еще: «В дождливую погоду, особливо в августе, множество этих чудесных растеньиц вылезало в парковых дебрях, насыщая их тем сырым, сытным запахом – смесью моховины, прелых листьев и фиалкового перегноя…
Но в иные дни приходилось подолгу всматриваться и шарить, покуда не сыщется семейка боровичков в тесных чепчиках или мрамористый «гусар», или болотная форма худосочного белесого березовика».
Я пьянею от подобных пассажей.
В какие только ваты не заворачивался Владимир Владимирович – в англоманство, в шахматы, в энтомологию, в английский язык, он и стихи публиковал вперемежку с шахматными (весьма остроумными!) задачами.
Как он холил и лелеял свои странности: не умел пользоваться телефоном (полагаю – умел), не мог сложить зонт (думаю – мог), не научился водить автомобиль, что в Америке воспринималось, как самое вызывающее чудачество.
Впрочем, снобом он не был, это поклеп. Как рецензент он был благожелателен ко всякой эмигрантской мелочи.
Он был джентльмен, а это для русских несколько необычно.
А что до того, что он на лекции неизменно являлся с женой и рвал томики Достоевского, то ларчик открывается просто: жена Вера и была его аудиторией, а вовсе не американские оболтусы; уничтожение Достоевского – это магия, это – «чур меня», он всегда боялся Федора Михайловича, но окропить его святой водой не решался, вот и выдирал страницы.
Но все втуне: какой-то золотушный бес уже объяснил доверчивым и простоватым жителям Кентукки и Пенсильвании, что именно Достоевский – певец загадочной русской души, а запомнить еще одну русскую фамилию было выше их сил аборигенов.
И Набоков, прямо-таки как его герой Цинцинат Ц.: «работая в мастерской, долго бился над затейливыми пустяками».
Так получилось, что прозу Набокова я прочитал раньше, чем его стихи.
И стихи были не горячи, не холодны: пейзажные уступали бунинским, лирические выглядели общим местом, не шли мурашки, не бил озноб, до тех пор, пока я не добрался до строк:
Но сердце, как бы ты хотело,
Чтоб это вправду было так:
Россия, звезды, ночь расстрела
И весь в черемухе овраг.
Но это только зацепило, так – сквозное ранение.
Белой акации, цветы эмиграции. Слишком красиво.
Романтизм, порожденный отдаленностью места проживания.
В овраге, в чаду черемухи, никого не расстреливали – много чести.
Все больше на полигонах, на пустырях, обнесенных глухим забором с венчиком колючки; по коридорам, по камерам, где только что из шланга замыли кровь предыдущего расстрела.
И не нужно путать божий дар с яичницей – расстреливало государство, а не Россия.
Это я не о Набокове, он писал:
С каких это пор
понятие власти стало равно
ключевому понятию родины?
Это я о клеветниках России.
Я пролистал еще несколько страниц – мимо, мимо…
И вдруг открылось:
Отвяжись, я тебя умоляю!
Вечер страшен, гул жизни затих.
Я беспомощен. Я умираю
От слепых наплываний твоих.
Обожгло и зазнобило. Сквозь спазмы, слезы и остановки дыхания я дочитал это страшное откровение.
Боже мой, какое отчаяние и какой безысходный ужас испытывал этот застегнутый на все пуговицы человек, так своевременно уплывший из России в Европу, а из Европы – в Америку.
Я заболел этими стихами, словно ком колючей проволоки проглотил, и он ворочался во мне, разрывая внутренности.
Я представлял себе, как, засыпая, он ждал ее прихода: вот она, в чунях, неслышно войдет и начнет слепыми руками ощупывать дно угольной ямы, где притаился ее сын возлюбленный…
Кстати, об угольной яме – каков сукин сын!
За хлеб, за кров, за университетские кафедры, за лаковые авто – большое вам наше православное мерси.
Угольная яма! Впрочем, шила в мешке не утаишь.
Я ни с того, ни с сего стал бояться, что меня вышлют из России. Ничего я так не боялся в жизни. Начнутся наплывания, дрожащие пятна берез, с ума сойти, слезами во сне задохнуться.
Я знал, что у нас с Набоковым одна родина – неласковая, неулыбчивая, немилосердная, но мы обречены России, и никогда нам от нее не спрятаться, ни в угольной яме, ни в мрачных пропастях земля, и никогда она от нас не отвяжется, как не умоляй.
Родиться в России – это судьба, а от судьбы не уйдешь.
Есть такие особенные люди, которым удается перегрызть пуповину, и они забывают Россию, и им она ночами не является; иные всю жизнь сводят с ней счеты с другого берега, так отбывая свою зависимость.
Тот, кто вольно отчизну покинул,
Может выть на вершинах о ней.
Я отчизны не покидал, подняться на мало-мальскую вершину давно нет сил, но я вою вместе с Набоковым.
Этот вой у нас песней зовется…
Я пожалел Набокова и полюбил его.
Почти античный Пушкин предрек нам:
Два чувства дивны близки нам,
В них обретает сердце пищу:
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к родительским гробам.
На них основаны от века
По воле Бога самого
Самостояние человека-
Залог величия его.
Я не устану повторять: самостоянье – ключевое слово, основание нравственных ценностей.
Так что будем стоять до конца. Не сметь падать ниц и валиться на колени!
Мы – на родной земле, и наш долг – стоять, сами собой стоять, любить, работать, учить, писать.
Умирать, так умирать с тобой.
И с тобой как Лазарь встать из гроба, —
как написал, обращаясь к России, другой поэт.
Набоков просил Родину пожалеть и отпустить его, зная, что она этого не может, она может только любить нас.
Насмерть.
К России
Отвяжись, я тебя умоляю!
Вечер страшен, гул жизни затих.
Я беспомощен. Я умираю
от слепых наплываний твоих.
Тот, кто вольно отчизну покинул,
волен выть на вершинах о ней,
но теперь я спустился в долину,
и теперь приближаться не смей.
Навсегда я готов затаиться
и без имени жить. Я готов,
чтоб с тобой и во снах не сходиться,
отказаться от всяческих снов;
обескровить себя, искалечить,
не касаться любимейших книг,
променять на любое наречье
все, что есть у меня, – мой язык.
Но зато, о Россия, сквозь слезы,
сквозь траву двух несмежных могил,
сквозь дрожащие пятна березы,
сквозь все то, чем я смолоду жил,
дорогими слепыми глазами
не смотри на меня, пожалей,
не ищи в этой угольной яме,
не нащупывай жизни моей!
Ибо годы прошли и столетья,
и за горе, за муку, за стыд, —
поздно, поздно! – никто не ответит,
и душа никому не простит.
Есенин Сергей Александрович
(1895–1925)
Он пришел в город из деревни в льняных кудрях, стриженных в скобку, в венке из полевых цветов, в вышитой русской рубахе, плисовых штанах, в новеньких лаптях – образцовый пейзанин, Лель липовый, херувим с аляповатой пасхальной открытки.
Немного погодя, корчась в припадке показного богохульства, он будет выкрикивать: «Тело, Христово тело, выплевываю изо рта…»
Зинаида Гиппиус писала о нем: «Талантливый. Глупый». Но он был себе на уме: произвел рассчитанный фурор в литературных салонах и тут же примерил на себя высшие достижения городской культуры – белое шелковое кашне, блестящий цилиндр на муаровой подкладке, английскую трубку фирмы «Данхилл», лаковые двухцветные штиблеты, те самые, которые профессор Филипп Филиппович Преображенский назвал «сияющей чепухой» и писарскую тросточку.
Я иду долиной. На затылке кепи,
В лайковой перчатке…
Непримиримый соперник в борьбе за наиболее сладкую, скандальную славу, язва двухметровая, «главный штабс-маляр» ехидничал: «Смех, коровою в перчатках лаечных».
Никакой Мариенгоф не поливал его кофейной гущей, как березку в кадке. С этим он справлялся сам: университет Шинявского для лиц с начальным образованием оказался скучнее кабаков и пивных, где по прошествии некоторого времени он окончательно обосновался и где мордобой с милицейским протоколом на десерт – обязательное условие соблазнительной шумихи: «пьяные ваши дебоши известны по всей стране».
Но самым высшим из всех городских достижений были, конечно же, женщины. «Молодые чувственные дуры» встречались и в деревне, но столичные девки – перл и венец творения: они томно курили длинные дамские папиросы, облекали костлявые ключицы в дорогие меха, хлестали стаканами фин-шампань, нюхали кокаин, изящно танцевали босиком, носили все такое широкое и длинное, узкое и короткое, все полу- и вовсе прозрачное, все в кружевах и брильянтах и, при этом, были чем сисястие, тем глупее.
Именно отсюда «слишком ранняя утрата и усталость»; он знал, что умрет молодым, сгорит дотла; он мучительно желал, чтобы ему поставили памятник в Рязани, и боялся, а вдруг его «небольшой, но ухватистой силы» на памятник, но не в Рязани, а в русской литературе, не хватит.
Как никто из русских поэтов, он знал:
Душа проходит, как молодость и как любовь…
Одной ногой он ушел из деревни:
Моя поэзия здесь больше не нужна,
Да и, пожалуй, сам я тоже здесь не нужен.
Он оторвался от млечного вымени, его вскормившего, он мучился раздвоенностью – не сумел укорениться в высокой городской культуре, Европа его не хотела, но главная его мука, главный нерв его поэзии здесь:
Неужели пришла пора?
Неужель под душой так же падаешь,
как под ношей?
«Розу белую с черной жабой я хотел на земле обвенчать», – не получилось и не могло получиться. Оставалось на разные лады уверять себя и других:
Не жалею, не зову, не плачу…
………………………………
И ничего в прошедшем мне не жаль.
Не жаль мне лет, растраченных напрасно,
Не жаль души сиреневую цветь.
В саду горит костер рябины красной,
Но никого не может он согреть.
Здесь правда только то, что костер жизни и природы никого согреть не может, не для нас он горит; а напрасно растраченную юность, чистоту чувств и помыслов, и березку, и город вязевый, а пуще всего – Сергея Александровича Есенина жаль до слез, до судорожных рыданий.
Плачу и рыдаю, егда помышляю смерть и вижду во гробех лежащую красоту нашу.
Сам ли он удавил себя или его повесили чекисты – у нас в России принято убивать поэтов, но песня кончилась, он был выпит, выгорел до донышка.
В свистопляске вокруг его смерти было сказано одно достойное слово, принадлежало оно тому самому смертельному врагу, штабс-маляру: «У народа, у языкотворца, умер звонкий забулдыга-подмастерье».
А он-то мечтал всего лишь о памятнике в Рязани.



