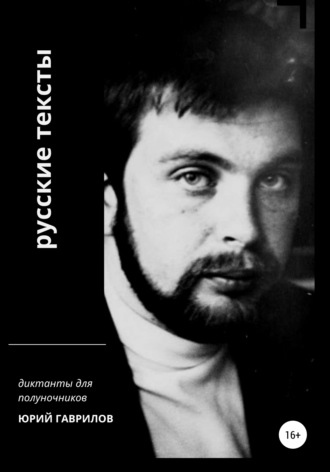
Юрий Львович Гаврилов
Русские тексты
Поверить, что жарким душным вечером на Патриарших прудах некто Берлиоз, в котором при желании можно обнаружить несимпатичные черты Максима Горького, Леопольда Авербаха, Михаила Кольцова и многих других Вронских и Гронских, и некто Бездомный (Безыменский, Голодный), малограмотный комсомольский поэт, коих было пруд пруди, встретили Сатану, на которого очень похожи все диктаторы кошмарного ХХ века от Ленина до Мао Цзе-Дуна.
И далее по чудесному тексту Булгакова, не смущаясь своим незнанием апокрифов и биографии прокуратора Понтия Пилата.
Булгаков совершил назначенное: «дописать прежде, чем умереть». Дописать, «чтобы прочитали».
Прочитали мы с вами.
Черный, страшный камень неизвестного происхождения, но с собственным именем Голгофа, служил основанием для креста на могиле Гоголя. После того, как Гоголя перезахоронили с Даниловского на Новодевичий и на новой могиле установили помпезный и нелепый памятник «от Советского Правительства», Голгофа несколько лет пролежала, никем не востребованная, во дворе гранильной мастерской.
Ждала Булгакова.
И нерукотворным памятником легла на его могилу.
Мандельштам Осип Эмильевич
(1891–1938)
Он родился в «трудной и запутанной» еврейской семье, «хаосе иудейском».
Синагога и Пятикнижие были чужды Мандельштаму с детства: «Крепкий румяный русский год катился по календарю с крашенными яйцами, елками, стальными финскими коньками… А тут же путался призрак – новый год в сентябре и невеселые страшные праздники, терзающие слух дикими именами: Рош-Гашана и Иом-кипур».
Отбросив клочки черно-желтого ритуала, он хотел стать европейцем: «я лютеран люблю богослуженье»; написал блестящее эссе о Чаадаеве, которого чтил как единственного русского, до кончиков ногтей проникшегося духом Европы.
В 1933 году, в голодном Старом Крыму он напишет:
В Европе холодно. В Италии темно.
Власть отвратительна, как руки брадобрея.
Он уже чувствовал холодные липкие пальцы власти на своей шее, знал: «мне на плечи кидается век-волкодав», но поэт не мог не написать самоубийственное (слабое, прямолинейное):
Мы живем, под собою не чуя страны,
Наши речи за десять шагов не слышны,
А где хватит на полразговорца,
Там припомнят кремлевского горца.
Его толстые пальцы, как черви жирны…
Последнее особенно оскорбило Сталина.
Поэт написал, а человек, как только на горло легли стальные пальцы Лубянки, поименно назвал всех, кому читал запретное – никого не забыл.
Из мира иллюзий:
И только и свету —
что в звездной колючей неправде,
А жизнь промелькнет
театрального капора пеной…
……………………………………………………..
И меня только равный убьет, –
(если бы). Он навсегда ушел в безумие, в ГУЛАГ, в яму.
У Петрарки написано: дни счастья промчались, как быстрые лани, счастье превратилось в дым.
Мандельштам переводит:
Промчались дни мои, как бы оленей косящий бег.
Срок счастья был короче, чем взмах ресницы,
Из последней мочи я в горсть зажал лишь пепел
Наслаждений…
«Косящий бег» и «пепел наслаждений» делают Петрарку Мандельштамом.
А если же совсем кратко о Мандельштаме, то вот так:
Играй же, на разрыв аорты,
С кошачьей головой во рту,
Три черта было – ты четвертый:
Последний чудный черт в цвету!
Что это? О чем? Это – поэзией о поэзии.
Цветаева Марина Ивановна
(1892–1941)
Бытие оправдывается только в слове.
Мартин Хайдеггер.
Она прожила две полновесных жизни (еще одну жизнь, самую любимую – во сне), две жизни, которые с раннего детства постоянно соприкасались, переплетались, но никогда не сливались в одну и кончились в разное время.
Она была вынуждена постоянно покидать ту, подлинную, исполненную божественной полноты, гармонии познания и страдания, где ее окружали «вороха сонного пуха, водопад, пены холмы», где она ощущала в потоке горящего флогистона «полета вольного упорство»; ей приходилось оставлять пребывание в Слове ради «нищей и тесной жизни: жизнь, как она есть», спускаться на землю, по которой она и передвигаться толком не умела, вечно натыкаясь на препятствия, по большей части ею самой и созданные.
Она не хотела признавать никаких пут и условностей, часто вела себя вызывающе глупо («от романтизма и высокомерия, которые руководят моей жизнью»). Ее эгоизм был беспределен, ее желания – высшим законом; она знала о себе, что ей можно все, что она – по ту сторону добра и зла.
Надежда Яковлевна Мандельштам говаривала, что в последние годы жизни Ахматовой отношение к ней ее почитательниц превратилось в один большой сюсюк.
Случай Цветаевой – это уже гранд-сюсюк, вид религиозного поклонения, и всякий, не желающий сливаться в сюсюкании – ересиарх, глумящийся над «благоуханной легендой».
Заключенные в магический круг «благоухающей легенды» глухи и слепы, но Цветаева многое о себе понимает очень хорошо: ««Не могу» – естественные границы человеческой души («не должна!» – для нее вовсе не существует – авт.). Снимите их – душа сольется с хаосом, следовательно, перестанет быть. Я на этой дороге».
Цветаева очень рано осознала, куда ведет этот путь (самоубийство или сумасшествие – «я кончу как Шуман»), но сойти с него не могла: «В том-то и дело, что я ни в чем не раскаиваюсь. Это – моя родная тьма».
Марина Ивановна в мифе, который она творила всю жизнь, всегда «бредет с кошелкою базарной»; весь день – хлопоты: рынок, стряпня, уборка, на ночь глядя – шитье и штопка, пишет урывками при лунном свете, на уголке кухонного стола.
Послушаем Ариадну, вязавшую шапочки, дабы кормить семью: «Как она писала… Отметая все дела, все неотложности, на пустой поджарый живот».
И так с утра и до глубокой ночи. И все письма в двух, а то и в трех экземплярах. И все в сшитых тетрадях, чтобы ни один листок не затерялся.
После рождения Мура мать превратила Ариадну в няньку, домработницу, надомницу и писала о ней подруге: «наступила в кошелку с кошачьим песком и, рассыпав, две недели подряд так и не подмела, топча этот песок ежеминутно, ибо был у входной двери».
А взять совок и веник? За две недели в голову не пришло.
Дьявол прячется в деталях.
«Я в жизни своей отсутствую» – это сказано безо всякого сожаления.
В ноябре 1825 года, в письме Вяземскому из Михайловского, Пушкин позволил себе неосторожное высказывание: «Толпа жадно читает исповеди, записки, etc., потому, что в подлости своей радуется унижению высокого, слабостям могущего. При открытии всякой мерзости она в восхищении. Он, мал, как мы, он мерзок, как мы! Врете, подлецы: он мал и мерзок – не так как вы, – иначе».
Но уже через два года, одумавшись, Пушкин предпочитает низкую истину возвышающему обману:
Пока не требует поэта
К священной жертве Аполлон,
В забвенье суетного света
Он малодушно погружен;
Молчит его святая лира,
Душа вкушает хладный сон,
И меж детей ничтожных мира,
Быть может, всех ничтожней он.
Как близко можно подходить к поэту, дабы пристальное всматривание в его жизнь не начало бы разрушать обаяние его поэзии?
Случай Пушкина утверждает: сколь угодно, так как Пушкин прожил свои строки – его нравственные представления, эстетические предпочтения не разошлись в пространстве и времени с идеалами его поэзии.
Случай Цветаевой убеждает в обратном. Иппокрена, источник на горе Геликон, дарующий поэтам вдохновение, был выбит копытом Пегаса. А Пегас родился из капель крови чудовища, Медузы Горгоны. «Чудовища с лазурным мозгом и чешуей из влажных глаз» – вот образный ряд, непроизвольно встающий в воображении при имени Марины Ивановны. Неустанно создавая миф о себе, Цветаева постоянно встает в позу, а поза плоха хотя бы тем, что она – ложь.
Но факт, как говаривал Воланд, упрямая вещь.
Скандальный роман Марины Ивановны и Софьи Парнок сломал жизнь Сергею Эфрону (поза: Сережа – единственный); от позора он бежал в армию, попал в чуждую ему офицерскую среду, подчинился ей – «сел не в тот поезд», – по его словам. Поезд привез его в эмиграцию, где он пересел на встречный экспресс, а тот без замедления доставил его на конечную станцию «Чекистский застенок».
Нравственная гибель Сергея Яковлевича происходила на глазах Цветаевой; он стал бригадиром палачей НКВД: Эфрон и его подручные должны были убить не только Людвига Порецкого (Игнатия Рейсса), порвавшего с чекистами, но и отравить его жену и ребенка. Но Сергей Яковлевич ничего до конца доводить не научился: Рейсса убили, труп спрятать не сумели, до жены, ребенка и бумаг покойного не добрались и бежали в СССР.
Когда безработный Эфрон оказался при деньгах, Марина Ивановна сделала вид, что не заметила этого (а ведь источник мог быть только один – поганый, отравленный). У нее в это время один любовный ураган сменялся другим.
Когда Эфрон бежал, и Цветаева оказалась в полицейском участке, она, по обыкновению встала в позу, страницами декламировала Корнеля, Расина и других патетических авторов, а о муже сказала: «Он самый честный, самый благородный… Его доверие могло быть обмануто. Мое – к нему – никогда».
Сотрудники Сюрте, люди практические, были ошарашены, послушав «двойною рифмой оперенный стих», оценили горячность Марины Ивановны: «Она безумна» и отпустили ее с миром.
Пока единственно любимый муж бился на Дону за белое дело, Марина Ивановна сгорала в одновременном огне многих любовных романов и пыталась понять смысл страсти нежной:
«Я, робко:
– Антокольский, можно ли назвать то, что мы сейчас делаем, мыслью?
Антокольский, еще более робко:
– Это вселенское дело: то же самое, что сидеть на облаках и править миром».
Дочери, Ариадна и Ирина, мешали божественным посиделкам, и мать отдала их в приют – чтобы спасти от голода!
Младшая, двухлетняя Ирина, не была, в отличие от Ариадны, выставочным ребенком – она отставала в развитии, болела, часто плакала, Марина Ивановна запирала ее в чулан.
Ни в чем не верила Цветаева большевикам, а вот что в приюте в Кунцеве детей будут кормить американскими продуктами – поверила сразу и безоговорочно.
В приюте воровали (кто бы мог подумать!), дети голодали, умоляли мать забрать их домой, но она лишь перестала их посещать. Случайно она узнала о смерти Ирины, но хоронить дочь не пошла.
Оказавшись с Ариадной за границей, Цветаева не спешит воссоединяться с мужем – у нее «ураганы». Не по летам взрослая дочь смотрит на «ураганы» широко открытыми глазами.
Долго и многое терпевший любимый муж писал: «отдаваться с головой своему урагану стало для нее необходимостью, воздухом ее жизни… Всегда все строится на самообмане. Если ничтожество возбудителя урагана обнаруживается скоро, Марина предается ураганному же отчаянию. Сегодня отчаяние, завтра восторг и через день снова отчаяние.
Громадная печь, для разогрева которой нужны дрова, дрова, дрова…»
Неудавшийся гипнотизер и вполне состоявшийся психопат доктор Фрейд пришел бы в буйный восторг, если бы прочитал подобное описание интимной жизни женщины.
Сергей Яковлевич не знал, что Марина Ивановна еще в 23 году написала «возбудителю» очередного урагана, дезертировавшему с любовного фронта, как только он понял, с кем связался: «Ведь я не для жизни. У меня все – пожар! Я могу вести десять отношений (хороши «отношения»!)[9], сразу и каждого, из глубочайшей глубины, уверять, что он – единственный. А малейшего поворота головы от себя – не терплю. Мне БОЛЬНО. Все, не как у людей. Могу жить только во сне…»
Простой, здравый смысл не вмещает: как это так – «все пожар» и «совместная нелепая жизнь, напитанной ложью, неумелой конспирацией и прочими ядами» (Сергей Эфрон).
Тут уж – либо пожар, либо ложь и неумелая конспирация.
Ну, представьте себе на минуту конспирацию при пожаре. Это все поза – про пожар, а проще – адюльтер вульгарный, еще проще, по-русски – блуд обыкновенный.
Вот и «благоухающая легенда». Что в сухом остатке? Печь в грязной кухне (Марина Ивановна, где бы ни жила, буквально зарастала грязью), дрова никудышные – все осина да валежник, непризнанные гении, будущие самоубийцы, агенты ГПУ; пламя гудит в ненасытной печи, на плите прыгает медный чайник поэзии и писает кипятком.
Дров не стало, стихи не пишутся, печь остыла, жить незачем.
Остолбеневши, как бревно,
Оставшееся от аллеи,
Мне все – равны, мне все – равно,
И, может быть, всего ровнее —
Роднее бывшего – всего.
Все признаки с меня, все меты,
Все даты – как рукой смело:
Душа, родившаяся – где-то.
Так край меня не уберег
Мой, что и самый зоркий сыщик
Вдоль всей души, всей – поперек!
Родимого пятна не сыщет!
Всяк дом мне чужд, всяк храм мне пуст,
И все – равно, и все – едино.
Но если по дороге куст
Встает – особенно рябина…
Вот и стихи! Ах, какие стихи! Ай да, Цветаева! Ай да, сукина дочь!
Мускулистый, энергичный – тут к каждой строчке надо подходить с опаской: гляди – лягнет!
А «куст, особенно рябина…» – это же – как вольтову дугу в руках подержать.
От таких слов кровь закипает и сворачивается, какие уж там рассадинские мурашки. Эти стихи хрустят, как белые грузди, трещат и лопаются от своей полноты и крепости, это – то самое толстовское: «от поэзии, как от родниковой воды, должно зубы ломить!»
Не новаторство, подлинное или мнимое, как дешевое штукарство Маяковского, это уникальность, неповторимость, невоспроизводимость. К Цветаевой некого подверстать, затопчет, как конь; она вне школ, в стороне от направлений, она самой собой стояла, «одна – против всех»!
Анемичная европейская поэзия – на ее небосклон шведские академики в телескопы глаза просмотрели: кого бы увенчать Нобелевской премией? И это – во время взрыва сверхновой звезды! Да, двойные стандарты не вчера родились… А впрочем, как такое перевести на иностранный:
Как живется вам – хлопочется —
Ежится? Встается как?
С пошлиной бессмертной пошлости
Как справляетесь, бедняк?
………………………………………..
Свойственнее и съедобней —
Снедь? Приестся – не пеняй…
Как живется вам с подобием —
Вам, поправшему Синай!
Как живется вам с чужою,
Здешнею? Ребром – люба?
Стыд Зевесовой вожжою
Не охлестывает лба?
Как живется вам – здоровится —
Можется? Поется – как?
С язвою бессмертной совести
Как справляетесь, бедняк?
Ай да, Цветаева! Ай да… Впрочем, это мы уже говорили…
Поэт – издалека заводит речь.
Поэта – далеко заводит речь.
И завела, через девять лет:
Ни к городу и не к селу —
Езжай, мой сын, в свою страну, —
В край – всем краям наоборот! –
Куда назад идти – вперед
Идти…
……………………………………
Наша совесть – не ваша совесть!
Полно! – Вольно! – О всем забыв,
Дети, сами пишите повесть
Дней своих и страстей своих.
Гром этих стихов да еще «Челюскинцев» заставил вздрогнуть эмиграцию, от нее дружно отвернулись все[10]; после бегства Сергея ни стихами, ни переводами она с Муром прокормиться уже не могла. Выживать в Париже судомойкой не позволяла гордость, оставался жестокий выбор: какая-нибудь Аргентина, где никто ее не знает, или Россия, СССР.
Молчало усталое сердце или вещало беду – аз не вем того.
Она хотела родить сына по переписке Борису Пастернаку. А родила от «одновременно единственного» резидента ОГПУ Константина Родзевича.
С несостоявшимся отцом Мура она встретится на писательском конгрессе в Париже в 35 году.
«Какая невстреча!»
Еще бы! Пастернак повел Цветаеву в магазин, чтобы она примерила платье, которое он хотел купить своей жене.
«И я, дура была, что любила тебя столько лет напролом».
Она, к счастью, так и не узнала, что Пастернак сказал о «невстрече»: «В Марине был концентрат женских истерик».
Родзевич поматросил и женился на Марии Булгаковой, он, которому были написаны две поэмы: «Поэма горы» и «Поэма конца», которая заканчивалась словами: «я не вижу тебя совместно ни с одной…» Но это – поэзия и поза, а в жизни прекрасно дружили семьями.
И тут же новый ураган, Анатолий Штейгер, молодой поэт, чахотка. Конечно же, он гений, брошены все, она летит в санаторий (и деньги всегда находились на море, на санаторий), пишет лихорадочные строки: «Вы мой захват и улов, как сегодняшний остаток римского виадука, с бьющей сквозь него зарею…»
Штейгер быть руиной виадука не пожелал, вечерней зарей – Цветаева ему в матери годилась, не прельстился и бежал.
«Горько. Глупо. Жалко», – подвела итог Цветаева. И все эти афронты, убеги от нее, унижения – как с гуся вода.
Ариадна уличила мать во лжи, получила пощечину и ушла из дома; в марте 1937 года она уехала в СССР.
Борис Пастернак предупреждал: «Марина, не езжай в Россию, там холодно, сплошной сквозняк». Яснее, определеннее он сказать не мог, но кто лучше Цветаевой понимал птичий язык ее многолетнего эпистолярного урагана.
В эмиграции ее называли «царь-дура», все связи были порваны, работы никакой.
Она пишет ослепительные, невыносимые «Стихи к Чехии».
После прочтения этих строк любой человек с живым сердцем на какое-то время умирает, потому что эту боль невозможно превозмочь.
«Отказываюсь быть», – петушиное слово произнесено, судьба решена, это – не конец главы, это – конец книги, конец жизни, в которой слагались стихи. Но жить жизнью нищей и тесной, жизнью, как она есть, она обязана, потому что существует Мур.
«Мой сын будет понимать речь зверей и птиц и открывать клады. Я его себе заказала», – писала Марина Ивановна Пастернаку.
Не буди лихо, пока оно тихо.
Мур родился одаренным мальчиком и едва научившись говорить, он сказал матери: «Мама, вы в маленьком совсем не эгоист: все отдаете, всех жалеете. Но зато в большом вы страшный эгоист и совсем даже не христианин».
Подросши, он на все увещевания матери монотонно отвечал: «Мама, вы – дура».
В Елабуге он сказал: «Кого-то из нас вынесут из этого дома вперед ногами», а мать уже знала кого, она еще в 40-м году писала: «Ищу глазами крюк. Я год примеряю смерть. С этим (поэзией) кончено. Все уродливо и страшно».
Но жить в России зрячему всегда страшно. Это большое мужество и терпение надо иметь – жить в России, а страдать – это уж само собой.
Марина Ивановна повесилась на веревке, которую Пастернак принес для сборов в московскую квартиру, чтобы перевязать чемодан.
Мур сказал: «Моя мать повесилась. И правильно сделала», и на похороны не пошел. Круг замкнулся.
Вот несколько строк из ее дневников и писем:
Ничего на свете не любила, кроме собственной души.
Любовь – это оттуда, из «мира тел».
Любовь – соединение душ, но не тел.
– здесь некоторое противоречие, и далее:
Любви я не люблю и не чту. (к Рильке)
Я не живу на своих устах, и тот, кто меня целует, минует меня.
Не хочу писать любовные стихи, ибо за земную любовь и гроша не дам, – а писала всю жизнь только о любви.
Личная жизнь не удалась. Причин несколько. Главная в том, что я – я.
Пошлину «бессмертной пошлости» она заплатила сполна.
«Лицом повернутая к Богу, ты тянешься к нему с земли…» (Пастернак) – ханжество и «благоухающая легенда», если под Богом (конечно же!) подразумевается Христос. К христианству она относилась насмешливо и свысока.
Лицом повернутая к Слову?
«Но если есть Страшный суд слова – на нем я чиста».
И это – единственная правда в ее жизни, сквозь все позы, все «ураганы», всех «единственных» и близких, единственная страшная правда – перед своим богом, Словом, она чиста.
Могилу ее не нашли, и крест стоит над пустой матерой глиной.
О слезы на глазах!
Плач гнева и любви…
Плачу и рыдаю.
Маяковский Владимир Владимирович
(1893–1930)
Поэт
«Я – величайший Дон Кихот», – громогласно аттестовал себя поэт. («Весь я в чем-то испанском…»)
Напялил желтую кофту и «штаны из бархата голоса», украденные у какого-то француза и громогласно (только так!) поведал читателю о рыцарских подвигах:
«Я люблю смотреть, как умирают дети», «отца …. обольем керосином и в улицы пустим – для иллюминаций», «любую красивую, юную, души не растрачу, изнасилую и в сердце плюну ей!» – может быть, конечно, это все очень талантливо, особенно плевок в сердце, гармония, так сказать, благородного намерения и изысканной топорности формы, но смердит невыносимо.
Правда, одни говорят, что это – поэтическое озорство, другие зрят здесь удаль молодецкую.
Вот уж воистину, для красного словца не пожалеешь и отца.
И все это – чтобы привлечь внимание публики, чтобы старички негодовали, критики рвали и метали, барышни шептались, падали в обморок и мечтали об изнасиловании, а юноши бледные кромсали мамашины юбки на блузы.
В почитательницах недостатка не было – патологическая харизма Маяковского, и то обстоятельство, что часть человечества, прежде всего – женщины, рождаются исключительно для того, чтобы благоговеть и творить себе кумира, срабатывали без осечки.
Футуризм – искусство площадное, вульгарное, крикливое, и это лучше и глубже всех угадал Северянин. И королем поэтов был выбран он, а не Маяковский, хотя именно Владимир Владимирович сбрасывал с парохода современности Пушкина вместе с русской орфографией.
Северянину и Бурлюку футуризм был впору, Маяковскому – не по росту, мощное поэтическое дарование Владимира Владимировича было шире любой школы и направления, его нельзя было обрамить, его можно было реализовать или уничтожить, что Маяковский и проделал с присущим ему блеском.
Революция была им воспринята как футуристическая феерия; он стал чернорабочим революции, и волочил на себе поденщину «Окон Роста», стал «штабс-маляром в Моссельпроме» и накропал бездарные «150 миллионов». «Комфуты» послали вирши Ленину, тот был краток: «Это хулиганский коммунизм. Вздор, махровая глупость и претенциозность».
Но футуристическая феерия закончилась трагедией, жизнь отвергла фанерные декорации и бутафорию левого искусства, «жестяные рыбы» оказались несъедобными, и голодающее Поволжье обратилось к людоедству.
Главный футурист России, Владимир Ильич Ленин, спасая шкуру, личную и своей партии будетлян и прожектеров, вернул истерзанной стране семью, частную собственность и государство.
Поэты принялись осмыслять печальные итоги – Волошин, Ахматова, Цветаева, Мандельштам и даже Есенин, но не Маяковский – кованным американским ботинком наступил он на горло собственной песне.
«Я – поэт. Тем и интересен», – так начал Маяковский свою автобиографию, но в момент написания этих слов именно как поэт он был совсем не интересен. Он был творцом дряни о дряни. Поэзия кончилась на хорошем отношении к лошадям. Конечно, были и неожиданные рифмы, и блестки остроумия, и сильные строки. Перефразируя его самого, скажем: ворочаем единого слова ради тыщи страниц пустой руды…
Среди прочих поэтических поступков он принял участие в травле Булгакова с идейных позиций жгучей зависти и глубокого недовольства собой.
Так что осталось от Маяковского?
На века выкованные из нержавеющей ненависти «Вам» и «Нате», истерика, невыносимый ужас одиночества и скулеж (вечно чего-то недодали) ранних поэм. Лучшая и единственная к ним иллюстрация – «Крик» Эдварда Мунка. «Непрожеванный крик, не слова – судороги, слипшиеся комом», – это уже сам Владимир Владимирович.
Истерика, не спорю, сделана здорово, но одна истерика, другая истерика, третья – утомляет.
Предчувствия поэта его не обманули.
Я хочу
быть понят родной страной,
а не буду понят, —
что ж,
по родной стране
пройду стороной, как проходит
косой дождь.
Так и прошел.
Человек
На приемном экзамене в гимназию он не сумел ответить на вопрос священника, что такое «око». И на всю жизнь «возненавидел все древнее, все церковное, все славянское – отсюда пошли мой футуризм, мой атеизм, и мой интернационализм» – и это совсем не шутка.
Еще в нежном возрасте он успел возненавидеть на всю жизнь поэтичность, русский стиль, казаков, цукатные хлебы, а также точки и запятые.
Лиля Брик говаривала, что у Маяковского нет биографии, – она сама хотела быть биографией поэта.
Лиля была тонкой, художественной натурой: что-то лепила, где-то снималась и вдохновенно стучала в ГПУ на всех, включая Маяковского.
Она была артистичной и одухотворенной женщиной-вамп: любила вестфальскую ветчину, провесной балык, зернистую икру, шелковые чулки, парижский парфюм, парчовые платья, «автомобильчат»… И все это в зубах приносил ей Маяковский.
Классические садомазохистские отношения, где она – госпожа, а он – раб с правом суицидного шантажа.
«А сердце рвется к выстрелу, а горло бредит бритвой»
Отсюда хамское остроумие Владимира Владимировича на знаменитых диспутах. Он издевался над оппонентами, он топтал их с болезненным сладострастием – мстил за собственное унижение и несвободу.
Лучший друг Маяковского, муж Лили, Осип Брик, отдыхая душой после своих занятий в пыточных застенках, баловался филологией; Яков Агранов, убийца Гумилева, Чаянова, Кондратьева, «специалист по интеллигенции», посадивший историков Платонова и Тарле, был своим человеком в доме Бриков.
Квартира Бриков «окончательно превратилась в отделение московской милиции» (Борис Пастернак).
Когда высокомерное и искреннее презрение молодого Маяковского к людям труда в мгновение ока сменилось страстной любовью к пролетариату, насквозь буржуазная Лиля это только приветствовала – стало много, очень много денег.
Лиля никогда бы не позволила Маяковскому жениться на другой женщине, Брики не могли лишиться источника доходов, и, главное, без Маяковского пришел бы конец чекистскому салону Лили Брик.
В 1929 году Маяковский признался Татьяне Яковлевой, что разочаровался в советской власти (а собственно Россию он никогда не любил: «я не твой, снеговая уродина»); Юрию Анненкову Владимир Владимирович сказал, что он больше не поэт, а чиновник.
Для выстрела достаточно, оставалась какая-нибудь малость.
Цветаева написала: «12 лет подряд человек Маяковский убивал в себе Маяковского – поэта, на 13й поэт встал и человека убил». Слишком романтично, слишком красиво, чтобы быть правдой. Ахматова посмотрела на вещи проще: «Всемогущий Агранов был Лилиным очередным любовником. Он по Лилиной просьбе не пустил Маяковского в Париж к Яковлевой, и Маяковский застрелился».
А ведь Владимир Владимирович даже не обращался в МИД за выездной визой весной 30 года.
Видимо, ему на словах доходчиво объяснили, что в его услугах заграничного курьера Лубянки нужды больше нет, и в Париж он не поедет никогда.
Узнав о самоубийстве поэта, Осип высказался как настоящий друг и настоящий Брик: «Можно здорово использовать смерть Володи…»
История доктора Фауста: Маяковский продал дьяволу душу и поэтический дар в придачу, а взамен получил от Сталина титул «лучшего и талантливейшего», и его, как бы в насмешку, стали насаждать «насильно, как картошку при Екатерине II» (Борис Пастернак).
А еще он получил пистолет от Якова Агранова, из которого и застрелился.
Чудом состоявшийся как поэт (родись он на семь лет позже!), как человек он и вовсе не состоялся.
А три последних странички («Уже второй…») принадлежат жизни вечной.



