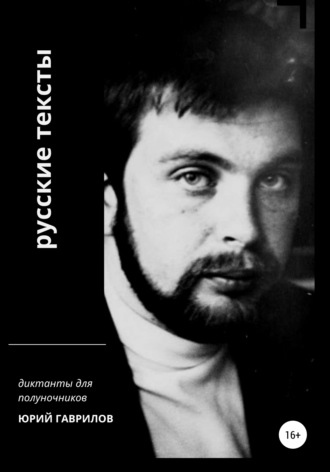
Юрий Львович Гаврилов
Русские тексты
Гумилев Николай Степанович
(1886–1921)
Гимназию юноша, плохо учившийся, но рано начавший писать стихи, заканчивал в Царском Селе. Директором гимназии был замечательный поэт И. Ф. Анненский. Он оказал большое влияние на Гумилева, а Анна Ахматова называла Иннокентия Федоровича своим главным учителем.
В конце 1903 года Гумилев познакомился с четырнадцатилетней гимназисткой Анной Горенко, своей будущей женой и великой русской поэтессой Анной Ахматовой. Любовь к Анне Горенко во многом определила романтические и рыцарские мотивы, возвышенный строй женских образов первого сборника стихов Гумилева «Путь конквистадора».
Образ испанца XVI века – завоевателя Америки, стал фокусом условной книжной романтики, тяготения к чужим небесам, которые долго не позволяли современникам разглядеть подлинного Гумилева, человека и поэта.
В 1910 году Гумилев стал лидером нового литературного течения – акмеизма, женился на Анне Горенко, в 1911 году начались заседания «Цеха поэтов», творческого объединения, созданного Николаем Степановичем. В 1912 году у них с Ахматовой родился сын, Лев, в судьбе которого отразился ХХ век: блестящий юноша, сталинский зек, парадоксальный ученый, историк и этнограф.
«ХХ век начался в 1914 году» – писала Анна Ахматова. Гумилев добровольцем пошел на германский фронт.
К этому времени окончательно определились три измерения судьбы Гумилева: поэт, убежденный, что «Слово – это Бог»; воин – два солдатских Георгия; Абиссиния – все твердили про экзотику «изысканных жирафов», но африканская коллекция Гумилева, как выяснилось, по научному значению уступает лишь собранию Миклухо-Маклая.
В 1921 году в свет выходит последняя и лучшая книга стихов Гумилева «Огненный столп».
Блестящее стихотворение «Мои читатели» – самооценка Гумилевым своей поэзии и портрет тех, кому она предназначена: «много их, сильных, злых и веселых, убивавших слонов и людей, умиравших от жажды в пустыне…»
Все, Киплинг, подлинный и отчасти картонный, исчерпан, и быть бы Гумилеву рыцарем подлинным и отчасти картонным, русского серебряного века…
Но «Шестое чувство», «Слово» – это стихи, обращенные к иным читателям, это другой Гумилев, это – «колдовской ребенок, словом останавливавший дождь». Будто шаровые молнии взошли эти стихи на раскаленном небосводе русской поэзии грозно и навсегда.
Вокруг гибели Гумилева возникли многие домыслы и легенды: о его участии в мифической антисоветской «боевой организации» Таганцева, о заступничестве Горького, о том, что Ленин хотел помочь, но как всегда не успел…
Теперь мы знаем, Гумилева чекисты расстреляли только за то, что он не донес на своего фронтового товарища, всего лишь не донес, потому что слова «дворянская честь», «офицерская честь» были для него не звук пустой. Его убили за неспособность предать в тот самый миг, когда у поэта прорезался новый голос, мощный, необычайный…
Ходасевич Владислав Фелицианович
(1886–1939)
Одной капли крови Ходасевича, попавшей в водопровод, достаточно, чтобы отравить целый город, уж больно желчный человек – думали многие современники. И ошибались. Ходасевич был поэт с ободранной кожей, все нервы наружу.
Мне невозможно быть собой,
Мне хочется сойти с ума
– его ответ на чужое бессмысленное страдание.
Поэт, прозаик, переводчик, пушкинист, он события революции увидел под своим собственным углом: он убедился в беспомощности культуры перед варварством; он понял, насколько уязвима высокая гармония поэзии перед простым требованием хлеба насущного. Очевидец братоубийственной бойни в Москве осенью 1917 года, он описал с бесстрастьем летописца как «семь дней и семь ночей Москва металась в огне, бреду. Но грубый лекарь щедро пускал ей кровь…» Но какое же спасенье возможно «среди Москвы, страдающей, растерзанной и падшей»? Письменный стол, – сказала бы Цветаева.
И сел работать. Но впервые в жизни
Ни «Моцарт и Сальери», ни «Цыганы»
В тот день моей не утолили жажды.
«Тяжелая лира» Ходасевича не просто тяжелая, она неподъемная, и он прикован к ней, как каторжник к ядру. «Я падаю в себя», – провозглашает поэт, выдавая желаемое за действительное. Россия и революция, поэзия и русская речь – вот что составляет обнаженный нерв творчества Ходасевича.
Воспринимая революцию как смерть души, страны и народа, он знал:
Так и душа моя идет путем зерна:
Сойдя во мрак, умрет – и оживет она.
И ты, моя страна, и ты, ее народ,
Умрешь и оживешь, пройдя сквозь этот год, —
Затем, что мудрость нам единая дана:
Всему живущему идти путем зерна.
Ходасевич эмигрировал: Германия, Франция, Италия – словом «Европейская ночь». «Все каменное, в каменный пролет уходит ночь» – гадость…
Он, и как спасение, вспоминает свою кормилицу:
Там, где на сердце, съеденном червями,
Любовь ко мне нетленно затая…
В этом «сердце, съеденном червями» – весь Ходасевич.
И вот, Россия, «громкая держава»,
Ее сосцы губами теребя,
Я высосал мучительное право
Тебя любить и проклинать тебя.
И млечное родство с языком, без которого не бывает полноценной личности, обостренное у Ходасевича до растворения в языковой стихии:
Люблю из рода в род мне данный
Мой человеческий язык:
Его суровую свободу,
Его извилистый закон…
О, если б мой предсмертный стон
Облечь в отчётливую оду!
Ахматова Анна Андреевна
(1889–1966)
Я Гумилеву отдавал визит,
Когда он жил с Ахматовою в Царском.
Ахматова устала у стола,
Томима постоянною печалью,
Окутана невидимой вуалью
Ветшающего Царского Села…
Это – enfant terrible Серебряного века, Игорь Северянин, из безмятежной в 24 году Эстонии.
Здесь весь джентльменский набор дореволюционных представлений об Ахматовой – томная, печальная, утомленная; тут же (куда же без нее) вуаль и Царское Село. Этакая акварель не то Бакста, не то Сомова, а, может быть и Бенуа.
Не знал эгофутурист, что той, прежней Ахматовой, нет более; что уже написаны программные «Мне голос был» и «Не с теми я, кто бросил землю…», в которых была угадана дальнейшая жизнь и судьба.
Утешный голос в 17 году обещал:
Я кровь от рук твоих отмою,
Из сердца выну черный стыд,
Я новым именем покрою
Боль поражений и обид.
Но равнодушно и спокойно
Руками я замкнула слух,
Чтоб этой речью недостойной
Не осквернился скорбный дух.
Дух поэта, преисполненный скорби и суетные соблазны несовместимы, как гений и злодейство. Те, кому это было адресовано, не поверили Ахматовой: «царскосельская веселая грешница» и вдруг…
Через пять лет она высказалась еще более жестко и определенно:
А здесь, в глухом чаду пожара
Остаток юности губя,
Мы не единого удара
Не отклонили от себя.
И знаем, что в оценке поздней
Оправдан будет каждый час…
Но в мире нет людей бесслезней,
Надменнее и проще нас.
Не «крылатую свободу» она выбрала, а невыносимую, лютую родину, и обрела надменность Данте, своими ногами попиравшего ад.
Вещая природа гения подсказала ей, что все, оставшееся за чертой, надо от себя отрезать, беспощадно, безвозвратно, себя от себя отрезать, стать другой. И не единого удара не отклонять, быть с той землей, в которую ляжешь, быть со своим народом, все пережить, все запомнить, выстоять, стать голосом времени – великим поэтом.
В неистовую ярость приводили Ахматову те западные исследователи ее поэзии, которые утверждали, что главная часть ее творчества состоялась до 17 года, что после революции она писала мало и не о том, о чем должна была бы писать.
Ее хотели запереть в тесной каморке полумонашенки, полублудницы; она, наверное, ненавидела хрестоматийную перчатку, надетую не на ту руку, как Фаина Раневская, ненавидела свое знаменитое: «Муля, не нервируй меня!»
Но ее описывали, словно музейный экспонат, не желая замечать то, что она говорила так внятно:
Флобер, бессонница и поздняя сирень
Тебя – красавицу тринадцатого года —
И твой безоблачный и равнодушный день
Напомнили. А мне такого рода
Воспоминанья не к лицу…
Почувствуйте надменность, оцените бесслезность.
Коко Шанель, ее сестра в другой жизни, такая же худая, смуглая, угловатая, в такой вот парижской шляпке, под темной вуалью, в облаке знаменитого аромата… Все это не к лицу, вовсе не от недоступности, а просто – не нужно, не к лицу.
Оставлена была шаль – классика вне моды.
Самое суровое, что написала Ахматова – «Северные элегии». «Реквием» – это крик боли, «Северные элегии» – это беспощадные размышления о времени, о своем месте во времени:
Так вот когда мы вздумали родиться…
И точка зрения выбрана Ахматовой так, чтобы ни иллюзий, ни смещений, ни сантиментов – чтобы ничего не мешало:
И вот когда горчайшее приходит:
Мы сознаем, что не могли б вместить
То прошлое в границы нашей жизни,
И нам оно почти так же чуждо,
Как нашему соседу по квартире,
Что тех, кто умер, мы бы не узнали,
А те, с кем нам разлуку Бог послал,
Прекрасно обошлись без нас – и даже
Все к лучшему…
Попробуйте с этой точки зрения посмотреть на «Поэму без героя» – всплеск памяти такой силы, что Ахматова не смогла сдержать его, дала прорваться наружу, лечь на бумагу.
«Поэма без героя», наполненная загадками, умолчаниями, намеками, аллюзиями, возможно, спасла Анну Андреевну в то время, когда «безумие крылом души накрыло половину».
Щадить себя Ахматовой было не свойственно:
Я гибель накликала милым
И гибли один за другим.
* * *
Я званье то приобрела
За сотни преступлений,
Живым изменницей была
И верной – только тени.
И жалеть себя не позволяла, она лишь фиксировала обстоятельства собственной судьбы:
Мир не ведал такой нищеты
Существа он не ведал бесправней…
Из-под каких развалин говорю,
Из-под какого я кричу обвала,
Как в негашеной извести горю
Под сводами вонючего подвала.
* * *
Я пью за разоренный дом,
За злую жизнь мою,
За одиночество вдвоем
И за тебя я пью, —
За ложь меня предавших уст,
За мертвый холод глаз,
За то, что мир жесток и пуст,
За то что Бог не спас.
* * *
А я иду – за мной беда,
Не прямо и не косо,
А в никуда и в никогда,
Как поезда с откоса.
Кошмар? Да, но через тернии к звездам, другого пути нет.
И в «Северных элегиях» она подведет черту под размышлениями о том, что сделало ее поэтом, голос которого все равно услышат и которому все равно поверят:
Меня, как реку,
Жестокая эпоха повернула.
Мне подменили жизнь, в другое русло,
Мимо другого потекла она.
И я своих не знаю берегов.
О! как я много зрелищ пропустила.
И занавес вздымался без меня
И так же падал. Сколько я друзей
Своих ни разу в жизни не встречала.
О, сколько очертаний городов
Из глаз моих могли бы вызвать слезы,
А я один на свете город знаю
И ощупью его во сне найду.
О, сколько я стихов не написала,
И тайный хор их бродит вкруг меня
И, может быть, еще когда-нибудь
Меня задушит…
Мне ведомы начала и концы,
И жизнь после конца, и что-то,
О чем теперь я лучше промолчу.
И женщина какая-то мое
Единственное место заняла,
Мое законнейшее имя носит,
Оставивши мне кличку, из которой
Я сделала, пожалуй, все, что можно.
Я не в свою, увы, могилу, лягу.
Но иногда весенний шалый ветер,
Иль сочетанье слов в случайной книге,
Или улыбка чья-то вдруг потянут
Меня в несостоявшуюся жизнь.
В таком году произошло бы то-то,
А в этом – это: ездить, видеть, думать,
И вспоминать, и в новую любовь
Входить, как в зеркало, с тупым сознаньем
Измены и еще вчера не бывшей
Морщинкой…
……………………………………………
Но если бы оттуда посмотрела
Я на свою теперешнюю жизнь,
Я б умерла от зависти.
Вот где солнечное сплетение этой судьбы – зависть к самой себе, накануне позорного ждановского гонения, бесстыдства «кровавой куклы палача», вынужденных, вымученных стихов о Сталине и борьбе за мир; зависть «капризной избалованной девочки», которой ей суждено было бы остаться, если бы история не сорвала с ее плеч парижские тряпки, не обрядила бы в рубище, накинув на плечи, для насмешки, ложноклассическую шаль, короновав «Анной всея Руси».
Она боялась переходить улицы, она боялась ездить в трамвае; она была обречена на бездомное и безбытное существование. Она не дождалась свободы, но дожила до признания, и Политбюро махнуло рукой на ее величавую славу и уже не интересовалось: «кто организовал вставание?»
Вокруг нее кружил «волшебный хор» молодых поэтов; роскошь человеческого общения, атмосфера влюбленности, «благодатная осень» – она дожила до сбора урожая.
Трусливая, лишенная чувства великого власть лавочников так и не поставила ей памятник напротив Крестов, как она завещала[8].
Неопалимая купина, она не сгорела «в скорбях, страстях», не сломилась под «нестерпимым гнетом», а пламя лишь закалило ее поэзию, благородный сплав невыносимой боли, неистовой любви, чистой красоты и неукротимой совести.
Ржавеет золото и истлевает сталь,
Крошится мрамор, к смерти все готово…
Всего прочнее на земле печаль
И долговечней – царственное слово.
Вот только куда надменность наша подевалась?
Анна Андреевна Ахматова была слаба на передок (ее лексика), лжива, тщеславна и высокомерна. Она оставалась равнодушна к лагерным мукам сына; оклеветала Наталью Васильевну Варбанец, обвинив ее в доносительстве только потому, что не хотела ее в невестки.
Все это и не только это – правда, но все это остается за пределами данного текста.
Жизнь Марины Цветаевой рассматривали в цейсовский артиллерийский бинокль, жизнь Ахматовой – в перевернутый театральный.
Отчего так? Не знаю.
Пастернак Борис Леонидович
(1890–1960)
Сталин позвонил Пастернаку – статуя Командора заговорила; Сталин спросил Пастернака об арестованном Мандельштаме, Пастернак отвечал со свойственным ему поэтическим косноязычием (Заболоцкий: когда Пастернак мне что-нибудь говорил, я ждал, пока он закончит, а потом просил повторить понятно и по порядку). Пастернак сказал Сталину, что хочет с ним поговорить о жизни и смерти – это было дерзко и нелепо, как ода «Вольность» Пушкина.
Сталин повесил трубку, а Пастернак написал роман.
Фабула «Доктора Живаго» проста, как фабула Библии: человек и время, свеча поэзии и ураган революции; сюжет романа поворачивается подчас на искусственных шарнирах, что едва ли было важно автору; проза романа насыщена поэзией, как грозовая туча электричеством, не мудрено, что в конце концов вспыхивает ослепительная молния и гремит оглушительный гром – стихи Юрия Живаго о Боге, любви, страданиях, о нестерпимой красоте Божьего мира, о жизни и смерти.
Из-за бесконечных проволочек и запретов на родине роман вышел в свет в Италии (1957), был мгновенно переведен на все существующие языки, Пастернак был удостоен Нобелевской премии (1958) – первый русский писатель после белоэмигранта Бунина.
И понеслось! Взыграли сталинские дрожжи – как смел: а) оболгать революцию, б) опубликовать клевету за границей. А зависть!? Травля была обставлена по всем правилам: «Я Пастернака не читал, но осуждаю», – простые советские люди; «гадит, где ест» – партия и комсомол; «не достоин быть советским писателем» – братья по перу; угроза высылки из СССР – Хрущев. Последнее сломило Пастернака, он отказался от премии: «Я мечтал поехать на Запад как на праздник, но на празднике этом повседневно существовать ни за что бы не смог. Пусть будут родные будни, родные березы, привычные неприятности и даже – привычные гонения».
Я пропал, как зверь в загоне.
Где-то люди, воля, свет.
А за мною шум погони,
Мне на волю хода нет.
………………………………
Что же сделал я за пакость,
Я убийца и злодей?
Я весь мир заставил плакать
Над красой земли моей.
Пастернак родился косноязычным, и говорить правильно и внятно так и не научился.
Он это знал: «Я всегда говорю неудачно, с перескоками, без видимой связи и не кончая фраз».
Здесь главное – «без видимой связи»: значит, невидимая, то есть очевидная самому поэту, связь была.
Так случается, когда мысль обгоняет слова, как молния – гром. Слушателям Пастернака доставался лишь звуковой лом мгновенно блеснувшей ослепительной вспышки.
Сложность его раннего стихотворчества – это не нарочитое эпатажное выламывание Маяковского; не вдохновенное, не от мира сего, бормотание Хлебникова, а неумение Пастернака просто сказать о любви, творчестве, природе и Боге.
Еще труднее для него было сложное сказать доходчиво.
Поэтому Пастернак всегда легко соглашался с упреками в непонятности своих стихов: «Да, это так, это я виноват».
«Как визоньера дивиация» неизбежно требовало комментария. Сказать «пророчество предсказателя» он почему-то не мог, «визоньер» казался ему точнее.
Но в нем самом зрело предвиденье:
Есть в опыте больших поэтов
Черты естественности той,
Что невозможно, их изведав,
Не кончить полной немотой.
В родстве со всем, что есть, уверясь,
И знаясь с будущим в быту,
Нельзя не впасть к концу, как в ересь,
В неслыханную простоту.
Фазиль Искандер как-то заметил: «Общение с поэзией раннего Пастернака напоминает разговор с очень пьяным и очень интересным собеседником. Изумительные откровения прерываются невнятным бормотанием, и в процессе беседы мы догадываемся, что не надо пытаться расшифровывать невнятицу, а надо просто слушать и наслаждаться понятным».
А Пастернак прилагал огромные усилия, дабы «прочистить горло», потому что человек до крайности эгоцентричный (не эгоистичный, Боже упаси) он чувствовал кровную связь с Россией, и преклонение перед ее народом и ее историей.
Сквозь прошлого перипетии
И годы войн и нищеты
Я молча узнавал России
Неповторимые черты
Превозмогая обожанье,
Я наблюдал, боготворя…
«Обожанье» и «боготворя» – именно в данном случае – не фигура речи, а суть поэта и человека Бориса Пастернака.
Такой вот парадокс, подаривший нам великого стихотворца.
Война, почва и «Доктор Живаго» позволили поэту прорваться к «неслыханной простоте».
Удивительные строки были написаны им в эвакуации:
Обители севера строгого,
Накрытые небом, как крышей!
На вас, захолустные логова,
Написано: сим победиши.
Тут впору обидеться: «захолустные логова», а замечательно другое – поэт трезво и определенно понимал, откуда придет победа – из безответной жертвенности русской провинции: «сим победиши».
Очарование социализмом, Сталиным вылетело из головы, как дурной хмель перед лицом страшного горя.
Слово «почва» не имеет никакого отношения к «почвенничеству» как разновидности славянофильства.
Почва – это просто земля, огород, лопата, тяпка – физический труд, который любил Пастернак.
Близость к земле, переворачивание ее пластов, наблюдение за мудростью её сокровенной жизни весьма способствует пониманию:
И того, что вселенная проще,
Чем иной полагает хитрец,
Что как в воду опущена роща,
Что всему свой приходит конец.
Что глазами бессмысленно хлопать,
Когда все пред тобой сожжено,
И осенняя белая копоть
Паутиною тянет в окно.
Хромая и фантастическая проза «Доктора Живаго» напоминала устную речь Пастернака с ее «перескоками» и требовала новизны «поэтической тетради».
Блестящие, великолепные строки наподобие: «Февраль. Достать чернил и плакать…» или «Пью горечь тубероз, осенних горечь…» в романе были бы не к месту.
«Доктор Живаго» требовал стихов окончательных, страшных, как кровь горлом, чтобы о любви можно было сказать так:
Как будто бы железом,
Обмокнутым в сурьму,
Тебя вели нарезом
По сердцу моему.
Испытана сурьмой и железом любовь неслыханного века мировых и гражданских войн и испепеляющих революций.
И как в этом мире, казалось бы, навсегда покончившем с человеком, в этой «бездне унижений» не погасла свеча, горевшая когда-то в феврале, а отныне – в вечности; какова же была сила творческой энергии, чтобы писать стихи после вселенских катастроф:
Сколько надо отваги,
Чтоб играть на века
Как играют овраги,
Как играет река.
Роман стал итогом жизни, в нем развязаны все концы и начала, в нем прозвучали мотивы «полной гибели всерьез» и, казалось бы, невозможной надежды:
Зачем же плачет даль в тумане
И горько пахнет перегной?
На то ведь и мое призванье,
Чтоб не скучали расстояния,
Чтоб за городскою гранью
Земле не тосковать одной.
Для этого весною ранней
Со мною сходятся друзья,
И наши вечера – прощанья,
Пирушки наши – завещанья,
Чтоб тайная струя страданья
Согрела холод бытия.
Что к этому добавить?
Разве что слезы…
Булгаков Михаил Афанасьевич
(1891–1940)
Начищенные до блеска лаковые штиблеты (Что за сияющая чепуха? – как говаривал Филипп Филиппович Преображенский), застегнутый на все пуговицы серый пиджак (пятна на костюме собственноручно выведены бензином), безупречный пробор (так заинтриговавший издателя-редактора Рудольфи) и, черт подери, монокль. Вот отчебучил – монокль в большевистской Москве!
Ба, да это маска! Непревзойденный виртуоз литературной мистификации, он был завзятый пересмешник в жизни.
К моноклю полагалась новая жена. Прежняя, Татьяна Николаевна Лаппа, спасшая его от смерти, больше не годилась – слишком проста и добродетельна.
Булгаков стремился в мир литературы, а стало быть – в мир Бондаревских, Лесосековых, Агапенковых, он очень хотел стать своим среди них (не без помощи монокля).
Он еще не знал, что самый талантливый из этой разношерстной публики (А. Н. Толстой – Измаил Бондаревский в «Театральном романе») в подпитии говорил о себе: «грязный, бесчестный шут».
Тем не менее, требовалась жена из литературных сфер, а еще лучше – из бывших, какая-нибудь Белорусско-Балтийская («12 стульев»). Или – самый крутой расклад – вернувшаяся в Совдепию белая эмигрантка, блудная дочь отечества.
Новая жена, Любовь Евгеньевна Белозерская, была, по выражению Михаила Афанасьевича, «баба бойкая и расторопная».
Она энергично и ловко, словно сам черт ей помогал, взялась улаживать литературные и бытовые дела мужа: появилась отдельная квартира, а в квартире мебель красного дерева.
Любовь Евгеньевна была дамой светской, ее знала половина Москвы, другую половину знала она сама. Она брала уроки верховой езды в какой-то военной или конной школе и лихо водила автомобиль одного симпатичного ведомства.
Расстался Михаил Афанасьевич с Любовью Евгеньевной безо всякого сожаления: «– Вы были женаты? – Ну да… На этой… Вареньке, Манечке… нет Вареньке… впрочем, я не помню» («Мастер и Маргарита»).
Умел, надо заметить, Михаил Афанасьевич быть галантным, когда хотел.
«Белая гвардия», первый роман Булгакова, против ожидания автора мир не перевернул и прошел почти незамеченным.
Но из «Белой гвардии» выросли «Дни Турбиных», пьеса, связавшая Михаила Афанасьевича с МХАТом, вместе с которым Булгаков-драматург прожил недолгую, но такую раскаленную историю любви, предательства (предательство – стихия театра, его воздух), разбитых надежд и сокрушительных триумфов.
Именно благодаря «Дням Турбиных» имя Булгакова становиться известным Сталину и тот уже не выпустит Михаила Афанасьевича из поля зрения. Драма Мольера, «Кабала святош», повторится в тоталитарном государстве с полупросвещенным государем.
И от судеб спасенья нет…
А тем временем «Собачье сердце» показало, насколько выросло мастерство Булгакова-прозаика, и как далеко простираются его амбиции писателя-философа; сатирическая тога стала ему маловата.
Неотразимый Евстигнеев в роли Филиппа Филипповича Преображенского отвел глаза зрителю, а ведь именно он, а не Шариков или Швондер, главная мишень сатирических стрел. Профессор и сам признает это: «вот что получается, когда исследователь вместо того, чтобы идти параллельно и ощупью с природой, форсирует вопрос и приподнимает завесу: на, получай Шарикова и ешь его с кашей».
Интеллигенция вовлекла десятки миллионов Шариковых в непосильный для них чудовищный социальный эксперимент и сама стала его первой жертвой.
В 1925 году Булгаков осознал: места ему в мире советских литераторов нет. «Я хочу сказать правду, … полную правду. Я вчера видел новый мир, и этот мир мне противен. Я в него не пойду. Он чужой мир. Отвратительный мир. Надо держать это в полном секрете».
Секрета не получилось: 7 мая 1926 года дневник «Под пятой» и рукопись «Собачьего сердца» были конфискованы сотрудниками ОГПУ. Булгакова стали таскать на допросы.
О литературной среде большевистской России в дневнике было сказано: «затхлая, советская, рабская рвань».
В 1928 году Булгаков буквально заболел «романом о дьяволе», а в 1929 познакомился с Еленой Сергеевной Шиловской (в девичестве Нюрнберг), которая была замужем вторым браком за видным советским военным.
Булгаков понимал, что писать большое мистическое произведение, ежеминутно опасаясь обыска и отвлекаясь на допросы, крайне затруднительно, а, положа руку на сердце, и вовсе невозможно.
В один миг все сошлось – Елена Сергеевна была ведьмой, много лет состояла на связи с органами; ее родная сестра, Ольга Сергеевна Бокшанская, секретарь В. И. Немировича-Данченко, была классной машинисткой и сотрудницей ОГПУ; муж Бокшанской, актер МХАТа Евгений Калужский, тоже служил не только в театре, так что за ними, новыми родственниками, Булгаков был как за каменной стеной.
Бокшанская относила на Лубянку обязательную копию всех булгаковских рукописей, Калужский – записи разговоров Михаила Афанасьевича дома и в театре; материалы Елены Сергеевны правил сам писатель. Никаких обысков, никаких допросов – не печаль, не воздыхание, а жизнь бесконечная…
Приказ Сталина не трогать Михаила Афанасьевича безусловно был (с 1926 года и до самого смертного часа чекисты напрямую ни разу не побеспокоили писателя) и появился, скорее всего, после телефонного разговора Сталин – Булгаков 18 апреля 1930 года.
Этот разговор стал следствием самоубийства Маяковского, письма Булгакова советскому правительству о своем крайне бедственном положении, просьбы отпустить его за границу и донесения Елены Сергеевны в ГПУ, написанного под диктовку Михаила Афанасьевича.
Сомнительно, чтобы Сталин пообещал Булгакову личную встречу: больше всего кремлевский горец боялся оказаться смешным, а Булгаков был известный шутник и человек непредсказуемый.
Сталин чрезвычайно интересовал Булгакова и не только как явление инфернальное; со Сталиным Пастернак хотел говорить «о жизни, о смерти», Мандельштам описывал воображаемую и желанную встречу с тезкой. И Булгаков думал, что личная встреча развяжет роковые концы и изменит его судьбу мистического писателя.
Но встречи не произошло, ее и не могло быть, Сталин предпочитал видеться с теми, кто был ему по плечу и был ему ясен – Фадеев, Симонов…
Заочно Сталин начисто переиграл Булгакова в истории с пьесой «Батум»: дал дописать, убедиться, что это продукт второй свежести, заочно похвалил и безусловно запретил дурацкую затею.
Булгаков был убит, и поделом – он надумал объехать по кривой изощренного мастера политической интриги, кунктатора и скорпиона.
Максиму Горькому, пришедшему к нему просить разрешить к постановке пьесу Николая Эрдмана «Самоубийца», Сталин сказал, что он не против (пьеса не пошла) и добавил: «Эрдман мелко берет. Вот Булгаков! Тот здорово берет. Против шерсти берет! Это мне нравится!»
Булгаков нравился настолько, что с 1926 года Сталин не позволил опубликовать ни строчки, ни в чем ни разу не помог, но не дал погибнуть в кровавой мясорубке 30-х годов.
Хочешь баловаться, называясь Г. П. Уховым – изволь; хочешь изобразить, как власть, лаская, душит художника – валяй, мы даже на сцене дозволим «Кабалу святош», но недолго; надумал писать роман о дьяволе и Понтии Пилате – воспаряй, а мы тебя к ремеслу пристроим: либретто будешь тачать в Большом театре.
Сразу после смерти в квартире Михаила Афанасьевича раздался звонок из Кремля: справлялись, действительно ли умер писатель Булгаков.
Опасались, что он и на сей раз пошутил, устроил розыгрыш?
И возможно, один человек в Кремле, получив подтверждение печального известия, раскурил трубку и сказал: «Ну что же, он заслужил покой».
Безусловно, Михаил Афанасьевич и Елена Сергеевна были созданы друг для друга, они прожили свои недолгие восемь лет в любви и согласии, что, впрочем, не мешало Елене Сергеевне посылать на глазах умирающего Булгакова призывные знаки Фадееву. Надо признать, что в данном случае Елену Сергеевну полностью извиняет то обстоятельство, что у Фадеева был большой черный автомобиль и личный шофер, похожий на грача; обстоятельства, предусмотрительно описанные Булгаковым в «Мастере и Маргарите».
Великие заслуги Елены Сергеевны перед русской литературой неоспоримы: благодаря ей «закатный роман» был дописан, она сохранила его и донесла до читателя любимое детище Булгакова.
Мистический роман породил мистическую ауру из загадок, разгадок, тайн и открытий, домыслов, фантазий и использования каббалы и бинома Ньютона даже там, где ларчик просто открывался.
Михаил Афанасьевич одновременно писал «Мастера и Маргариту» и «Записки покойника» («Театральный роман») и не смог удержаться от отменной шутки.
В «Театральном романе» почти все персонажи, даже самые малозначительные, имеют конкретного прототипа, и у каждого старого мхатовца хранилась заветная тетрадочка, где было написано: «Панин Михаил Александрович – Марков Павел Александрович; Романус Оскар – Израклевский Борис Львович» – и так до курьеров и капельдинеров.
В эмигрантской печати такой же список прототипов (совершенно произвольный) был приложен к «Собачьему сердцу».
И с той же куцей меркой масса читателей и критиков приступила к «Мастеру и Маргарите» и скоро те, кто оказался поумнее, поняли: «нет, мудрено» – как предвидел один предшественник Михаила Афанасьевича.
Чета Булгаковых, на первый взгляд, как нельзя лучше подходила на роль Мастера и Маргариты, но, на второй взгляд, неожиданно обнаружилось, что Мастер и Маргарита умерли, а Булгаковы вроде бы как живы. Потом обнаружились и другие несоответствия, но были и совпадения поразительные.
Назначенный на роль Воланда Ленин не курил и никогда не носил при себе портсигаров, даже и золотых.
Кроме того, ссылать философов на Соловки была его затея и будь то в его силах, он бы и Канта туда упек заодно с Махом и Авенариусом.
С хронологией, затмениями и полнолуниями выходил полный кабак – светила упорно указывали, что московские события романа совпали с похоронами мастера пролетарской культуры Максима Горького. И ни астрономы, ни астрологи, ни таблицы пасхалий, ни сам диакон Андрей Кураев не смогли внести ясности.
Словом, произошла путаница, о чем, правда по другому поводу, есть предупреждение в мистическом романе.
Относительно «Мастера и Маргариты» у Булгакова была установка: «чтобы прочли…»
Конечно, он шифровал роман разными кодами, таковы были обстоятельства его создания, и элемент мистификации и головоломки в романе есть.
Но неужели Михаил Афанасьевич мечтал, чтобы его любимый роман прочла кучка эрудированных халдеев?
«Я хотел служить народу» – Булгаков жил и творил в могучей гуманистической традиции русской литературы, и утверждать, что Булгаков писал для посвященных – значит оскорблять его подвиг.
Самый верный способ понять «мистический роман» (а неизбежность подобного романа мистическим образом возникла еще в 1918 году, когда большевики установили в тихом, богоспасаемом городе Свияжске памятник Иуде, грозившему небу кулаком) – это поверить автору и пойти за ним.



