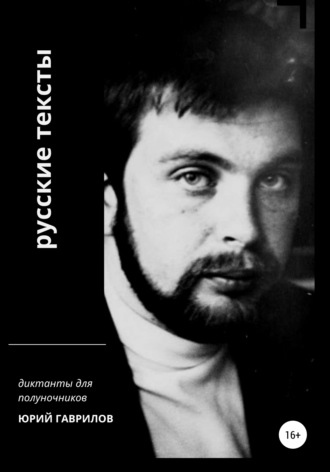
Юрий Львович Гаврилов
Русские тексты
Граждане города Мологи
…А в той земле, где Рыбинское море
теперь шумит, где белый теплоход
кричит в тумане, чувствуя в моторе
живую боль, и сбрасывает ход,
как бы поклон последний отдавая,
и вторят криком встречные суда
да чайки, и волна береговая
в глухую память плещется…
Олег Чухонцев
В 1885 году во Франции был установлен памятник «Граждане города Кале» работы Огюста Родена. Этот прекрасный и мощный монумент напоминает о подвиге, совершенном в далеком XIV веке.
Войска английского короля осадили Кале, горожане умирали от голода, но отказывались сдаться. И тогда надменный враг объявил условие снятия блокады: пятеро граждан Кале должны были добровольно принять мученическую смерть за родной город.
У Родена люди, вышедшие за городскую стену, очень разные: холодное мужество одного подчеркнуто отчаянием другого, они еще ведут между собой нескончаемый спор, но, движимые любовью к граду и ближнему, свой выбор они сделали и свой подвиг совершили. И жители города Кале, и Франция их не забыли, и через пять веков мужественная и страстная бронза Родена увековечила их.
На левом берегу верхней Волги при впадении в нее реки Мологи стоял одноименный город, упоминавшийся в летописях с начала XIII века.
В конце девятнадцатого столетия в Мологе числилось 7064 обывателя, в городе были пристани не только волжского сообщения, с Мологи началась (на южном плече) Тихвинская система, водный путь на Балтику.
Росла торговля, рос город: был открыт банк, служили 4 церкви; кроме обычных учебных заведений работала единственная в России гимнастическая школа, которую за свой счет содержал купец П. М. Подосенов.
В уезде насчитывалось 127 тысяч сельских жителей, заливные луга способствовали развитию молочного животноводства, обилие рек и озер позволяло не только ловить рыбу, но держать бесчисленные садки с живой стерлядью; пахали землю, гнали деготь, смолокурничали, валили лес, строительный и на дрова – обычная жизнь северного медвежьего угла.
В середине 30-х годов прошлого века вконец свихнувшаяся власть приговорила Мологу и уезд к смерти (людей им, что ли, было мало?) – ради сиюминутной выгоды, на потребу кровавому Беломорканалу 1/8 часть Ярославской земли была обречена затоплению.
Уходили под воду знаменитые заливные луга, земли не только ярославские, но и тверские, и вологодские; уходили под воду торговые села и глухие деревеньки, церкви и могилы предков, навеки уходила под воду родина, Молога.
Сопротивление безумию власти было невозможно, именно в это время Сталиным была пущена очередная судорога террора, и люди в скорбном безмолвии покидали обжитые места.
Но не все. И в судный час, когда вода пошла вверх по улицам, кое-кто решил принять смерть у родных очагов и могил. Впрочем, это был все никчемный люд: старики и старухи, безграмотные, верующие, бывшие лавочники и лабазники, мракобесы и изуверы, Дикие и Кабанихи, заскорузлые мещане, обыватели, не возжелавшие электрического блаженства.
Они приковывали себя к крестам на родительских могилах и кладбищенским оградам, к колодцам и воротам, затворялись в домах, их было, и в это невозможно поверить, и, тем не менее, их было двести девяносто четыре человека…
Они не были героями, они просто родились на этой земле, вросли в свою Мологу и отодрать себя заживо от нее не смогли, боль оказалась непереносимее смерти.
Сердце сказало, что без Мологи им жизни не будет, и они остались с ней навсегда.
Безмолвные жертвы, они не были героями, но они-то и были настоящими, подлинными гражданами города Мологи.
И, как говорится, пускай нам общим памятником будет построенный в боях социализм…
А где язык запнется у поэта,
При свете дня или ночной звезды
Пусть встанет как восьмое чудо света,
Белеясь, колокольня из воды…
(Олег Чухонцев)
22 июня
Белая ночь приготовила ложе на Псковщине…
Но уснуть ей было не суждено: в московской типографии ротация с жутким грохотом начала печатать воскресный номер «Правды» с передовой статьей «Всенародная забота о школе»; с аэродромов Польши и Румынии тяжело взлетали немецкие бомбардировщики – бомбить наши спавшие города и войска на границе.
Под Брестом танки вермахта получили приказ о 15 минутной задержке наступления: было решено пропустить последний товарняк с советской стороны, цистерны с авиационным бензином.
Крохоборы…
«22 июня, ровно в четыре часа, Киев бомбили; нам объявили, что началася война…»
Объявили позже: вы видели на фото и кинокадрах, с каким выражением общей беды на лицах слушают советские люди речь Молотова.
Умом они пока осознали только то, что коварный враг внезапно напал на нашу родину, некоторые даже надеялись, что все закончится быстро, к осени Красная армия возьмет Берлин – но это была, в основном, одураченная пропагандой молодежь.
Большинство мужчин подлежало мобилизации; все догадывались что работа станет еще изнурительнее, грядет неизбежная карточная система и голод.
Женщины нутром почуяли, что разлука с мужьями, сыновьями, любовниками, братьями, отцами, женихами будет вечной – никто не вернется назад.
И первыми исполнили душераздирающее «Прощание славянки» рыдающие и хрипящие, стонущие и плачущие, визжащие до грудного сипа паровозные гудки, колесные перестуки разрезали живую человеческую душу, замирали вдали, а потом и хвостовой кондукторский фонарь сливался с рельсами, оставляя пустоту отчаяния.
Но еще никто не знал, никто не понял в полной мере, что этот день сломал жизнь всем от мала до велика.
Сломал всей стране, искорежил ее судьбу на десятилетия вперед так, что ужасы ада станут повседневной жизнью, а для того, что пережили блокадники и пленные, нет слов на человеческом языке.
Мальчишки еще не знали, что встанут на снарядные ящики и будут по 12 часов работать у станков, а потом спать, полакомившись жмыхом, в остывающем шлаке плавильных печей.
Мужчинам и совсем еще юнцам, поросли нации, суждено было погибнуть.
О женщинах и сказать страшно: что значил для них этот день. Все надежды, все мечты, все упования – все в единый миг обратилось в пепел сгоревших летчиков и танкистов, в незахороненный прах пехоты, в безвестность сомкнувшихся вод.
У моих родителей до этого дня была другая жизнь, другие семьи, другие дети.
Топор 22 июня отрубил так, что не срослось; смерч 22 июня все разметал, разорвал, разбросал по стране; и мои родители встретились в эвакуации на Урале, так что я – сын этого черного дня, и мои внуки – его потомки.
Может быть, поэтому я уже много лет не сплю в эту ночь. Не потому, что обязан памятью, но не спится.
Я вижу горящие казармы, тонкошеих солдатиков в одних подштанниках, накануне в субботнюю баньку выданных старшиной, хрипящим сейчас в луже крови; и мессеры расстреливают их, бегущих врассыпную, одуревших, обгоревших, безоружных, не понимающих, что случилось…
Но вот начал бить на фланге заставы короткими очередями «Максим», прозвучала команда «в ружье!» – эти зеленые фуражки еще успеют убедиться, что враги – тоже смертны. Заставу немцы возьмут, но на сутки позже намеченного срока.
И вижу летчиков, которые в бессильной злобе смотрят на чадные костры на взлетной полосе – это горят их «Яки».
Лейтенант молодой, с персиковым пушком на щеках, взлетел на уцелевшем в ремонтной зоне истребителе и понял, что взлетел без боезапаса.
Это разгадали немцы и стали куражиться. Но вот один мессер решил проверить, насколько крепки нервы у русского.
И он пошел в лоб, и «Як» не отвернул, и слепящая белая ярость была последним, что увидел лейтенант в своей короткой жизни.
И какая-то песчинка в песочных часах блицкрига не упала, а зависла в воздухе – против всех законов естества.
И еще тот капитан-сапер, со спекшимся обугленным ртом.
Осатаневший от наглости немцев, раздавленный своим бессильем, не имея связи, а, значит, и приказа командования, он на свой страх и риск рванул мост над Бугом.
И еще одна песчинка раздумала падать.
А доктор Геббельс опубликовал знаменитую фотографию дня: пулеметное гнездо, «Максим» и трое убитых русских солдат…
Зря он это отпечатал в миллионах экземпляров: эти трое расстреляли все, до железки, их разметало гранатой; они не побежали, они не подняли руки как многие, они выполнили свой долг до конца, и их песчинка не легла туда, куда ей назначил немецкий Генштаб.
Мы с материнским молоком всасываем и на уроках истории нас учили: мертвые сраму не имут…
Но уже потянулись скорбные колонны пленных, а потери первого дня были чудовищны…
Мы до сих пор так и не пришли в себя от потрясений, которые начались 22 июня 1941 года.
А моя легкомысленная мама, получив в субботу стипендию, отправилась в воскресенье гулять по Невскому, там и узнала о начале войны, как раз у того места, где висит сейчас знаменитая табличка о том, что эта сторона улицы наиболее опасна при обстреле.
И на все деньги, сама не зная – зачем, купила в «Елисеевском» шоколад «Золотой ярлык» – одну из тех песчинок, благодаря которым они с бабушкой пережили первую, самую страшную блокадную зиму.
А мой брат-грудничок и прабабушка умерли, и смерть им принесла ночь на 22 июня, самая короткая в году.
Конечно, кому-то это совсем неинтересно; конечно, можно жить вне истории, как многие живут вне совести и стыда, как существовали во время войны разные мокрицы, забившиеся по щелям, избежав общей беды, но либо русские будут помнить 22 июня, либо они умрут…
Чувство истории дается не всем, как и чувство нравственное, и понимание прекрасного, и любовь к родному пепелищу.
Каждому свое…
«Совки» из ВИРа
Александр Гаврилович Щукин умер за рабочим столом, судорожно сжав в кулаке пакетик арахиса.
И в этом не было бы ничего необычного, если бы не два обстоятельства: Щукин умер от голода, а арахис был отобран им не для того, чтобы съесть, а для того, чтобы самолетом вместе с другими, особо ценными образцами, переслать на «большую землю».
В самом центре осажденного, умирающего от голода и холода Ленинграда, где не работал водопровод, канализация, отопление, не было электричества, где не ходил транспорт, и не убирали снег с улиц, но каждый день свозили с них трупы, на Исаакиевской площади находился Всесоюзный институт растениеводства (ВИР), основанный академиком Николаем Вавиловым.
И ВИР работал!
Каждый день истощенные, прозрачные или восковые люди из разных концов непроходимого города добирались до института, чтобы сохранить 200 тысяч образцов, собранных в 180 экспедициях, подчас – в труднодоступных районах мира.
Ценность коллекции Николая Вавилова (сам он в это время умирал от голода в саратовской тюрьме) была такова, что в немецком списке объектов, которые, в случае прорыва вермахта в город, должны быть захвачены в первую очередь, после первой позиции: Эрмитаж, второй шел ВИР.
Что ж, немцы понимали толк в селекции и агрономии.
Коллекция семян дикорастущих и культурных растений, основанная Вавиловым, была в то время и остается по сей день самым ценным в мире собранием подобного рода.
Но с точки зрения умирающих от голода ленинградцев, получавших 125 граммов того, что власть называла хлебом, ВИР был, прежде всего, огромным амбаром, где хранились десятки тонн зерна, картофеля, орехов, семечек подсолнуха.
Попробуйте отрезать ломтик хлеба, такой, чтобы умещался на ладони, и не ешьте ничего другого.
Сколько дней вы продержитесь, даже если не будете лишены прочих, как ленинградцы, необходимых благ цивилизации?
Умер от истощения хранитель риса Дмитрий Сергеевич Иванов, умерла от голода среди изобилия еды Лидия Михайловна Родина.
Блокадники проломили стену, и коллекцию картофеля пришлось отстаивать в рукопашной схватке.
Весной вскапывали газоны Исаакиевской площади и высевали то, что не могло храниться долго: капусту, картошку; вместе с солдатами охраняли делянки – и умирали от непосильной работы и голода.
В лихие 90-е (благословенные для бандитов и жулья) было пущено в оборот хлесткое, презрительное прозвище – «совок», то есть советский человек.
«Совок» – понятие многозначное.
Для меня – это человек, не отказавшийся от памяти, от отца с матерью, тот, кто не делает вид, что с 1917 по 1991 год жизни в России не было, а была одна непроглядная мгла и сплошное людоедство.
Это не так. Я прожил при советской власти, отвергая и презирая ее, большую часть своей жизни; это было трагическое, мучительное, противоречивое время, но это была наша жизнь – и «строк печальных не смываю», получается так, что я – антисоветский «совок».
Так вот те хранители ВИРа тоже были «совками», они жили в самой несвободной стране мира.
Они пережили и «кировские потоки», и расстрельный 37-й год…
Но пришел судный час, и каждый остался один на один со своей совестью, и они предпочли смерть малодушию.
И здесь никто их не мог ни принудить, не заставить.
Никто, никакой НКВД, уже не мог контролировать хранителей; коллекцию можно было потихоньку, по частям пустить на харчи, и таким образом лишить ее смысла.
Но они спасли ее ценой своих жизней.
Нет, не только арахис сохранил в своей немощной горсти Александр Гаврилович Щукин.
Он сохранил честь, человеческое достоинство, мужество, торжество духа – способность жертвовать собой во имя дела своей жизни.
И я склоняю голову перед «совками» из ВИРа.
Фото на память
В прекрасном настроении Карл Штранцль направлялся к месту нового назначения. Он только что получил чин обер-лейтенанта и должность, о которой мечтал.
На гражданке Карл торговал подержанными машинами, а теперь он обер-офицер. «Мне всего тридцать восемь лет, а я уже обер-лейтенант», – думал он, и восторг теснил его грудь.
Часть, куда был направлен Штранцль, участвовала в карательных операциях против партизан, меняла дислокацию, так что пришлось поколесить севернее Смоленска.
Но ни ужасные русские дороги, ни внезапно наступившие холода не смогли выстудить восторженного настроения Карла. И даже то, что в Полозово окончательно сел аккумулятор, не смутило Штранцля: ему подсказали, что неподалеку, в соседней деревне, есть мастер, который занимается зарядкой аккумуляторов.
Карл, кажется, знал своего земляка, баварца Альберта, владельца небольшой автомастерской в городе Харе, что под Мюнхеном.
Когда Карл въехал в деревню, на улице не было ни души, только какой-то шкет, укутанный в тряпье, стоял на обочине дороги.
Штранцль решил опробовать свою новую «Лейку», купленную по случаю три дня назад.
Он окликнул мальчика, тот молча посмотрел на него исподлобья тяжелым волчьим взглядом и побежал на задворки избы.
Пока заряжался аккумулятор, Карл расстрелял целую пленку: старый знакомый Альберт, его камрады, виды деревни, аборигены, что жили неподалеку от своего бывшего дома в землянке (в избе поселился Альберт, сказавший, что не может спать в одном помещении с унтерменшами).
Только в дороге Карл догадался, что его поразило во взоре мальчишки: «Ужо придут наши!» – вот что выражал этот тяжелый недетский взгляд.
И восторженное настроение новоиспеченного обер-лейтенанта незаметно улетучилось. Его стала угнетать унылая бескрайняя равнина, угрюмые враждебные леса, серые избы нищих деревень, разбитый войной убогий городишко Гжатск.
«Мы принесем сюда порядок, культуру, мы научим работать этих никчемных людей, и этот волчонок, когда подрастет, будет строить хорошие дороги для хороших немецких авто…»
Мысли были правильные, но вот уверенности им не хватало.
В семье погибшего под Оршей обер-лейтенанта Штранцля бережно хранили фронтовые письма и фотографии Карла. В день смерти письма читали, а фотографии рассматривали.
Особенно выразительной была одна: пустынная улица, невообразимая грязь на дороге, на обочине маленький оборвыш с обжигающим недетским взглядом исподлобья.
На обороте педантичным Карлом было написано: «12 November 1942. Kluschno».
Будущего строителя образцовых немецких дорог звали Юра, Юрий Алексеевич Гагарин.
Сочтемся славою…
Плачь, Иеремия, плачь! Плачь от зависти. Вот образец слова, вот медь звенящая и пенье труб:
«Указ Президиума ВС СССР об отмене Указа Президиума ВС СССР «Об отмене Указа Президиума ВС СССР»».
Это же «Песнь песней» – понятно, ритмично и сильно сказано.
Кто? Кого? Что отменили? «Кто на ком стоял?» – помните недоумение профессора Филиппа Филипповича Преображенского.
Мычит, как глухонемой, мертвый язык канцелярит. Даже он не стерпел надругательства над строем речи.
Как говорит народ-языкотворец – без пол-литра не разберешься. А тут и литра маловато будет.
Этим последним Указом Советской власти (декабрь 1991) была, как всегда – с опозданием, восстановлена справедливость и возвращена воинская честь и слава человеку с трагической судьбой, комбату Владимиру Сапрыкину.
В сентябре 1941 года батальон капитана Сапрыкина был окружен. Сапрыкин из окружения вышел, в форме, со знаками различия, с документами, с оружием, и сам явился в Особый отдел дивизии.
И оказался в Гороховицких лагерях НКВД: голод, грязь, холод, неизвестность. А Сапрыкин рвался на фронт, где сражались его отец и жена; он бежал из лагеря и вернулся в него.
Трибунал: десять лет, замененные на штрафбат (почти верная смерть).
Ранение, снятие судимости – «смыл кровью», а что было смывать?
Комбат, ордена Красного Знамени и Александра Невского, медали.
В декабре 1943 года из-за бездарности и разгильдяйства начальства попал с батальоном в танковое кольцо.
Трехдневный бой; когда в живых осталась горстка солдат и офицеров, вызвал огонь артиллерии на себя.
Герой Советского Союза (посмертно).
А он остался жив, получил три тяжелых ранения, попал в плен, где его с того света вытащил военнопленный врач Анохин.
После войны Сапрыкин оказался в Канаде. Такой выбор был мучительным, но вынужденным – он понимал, что ему припомнят все и ничего не простят: окружение, побег из лагеря НКВД, плен.
В 1975 году на школе, где Сапрыкин был школьным учителем математики, установили памятную доску, а в 1977 – ее уничтожили.
Выяснилось, что Сапрыкин жив, да еще за границей (логика, видимо, такая: раз жив, да еще в Канаде, значит, и огонь на себя не вызывал). Посол СССР в Канаде А. Н. Яковлев просил за него, но маршал Устинов, никогда и нигде не воевавший, отрезал – у нас в плену героев нет. Врал маршал, болезнь у них такая чиновничья – палец о палец лень ударить и врут по любому поводу.
В плену героев нет? К этому времени героями Советского Союза были Муса Джалиль и брестский майор Гаврилов, погибшие в неволе, летчик Девятаев, угнавший немецкий самолет и многие другие.
Святой человек, инвалид войны, Петр Михайлович Дунаев хлопотал о возвращении Сапрыкину Золотой Звезды и получил казенный ответ: «Учитывая, что Сапрыкин В. А. к настоящему времени умер, Министерство обороны СССР считает, что рассматривать вопрос о восстановлении его в звании Героя Советского Союза нецелесообразно».
Стало быть, мертвые славы не имут?
Отняли Звезду, потому что остался жив и отказались вернуть, потому что умер!
Но и это была ложь, Сапрыкин был жив и, когда радением неугомонного Дунаева это было достоверно установлено, Министерство обороны попросило помощи у КГБ.
Заместитель председателя КГБ Г. К. Цинев публично заявил, что комбат Сапрыкин – предатель, полицай, каратель.
Ведал ли генерал армии Цинев, что он лжет и клевещет? Конечно, знал, но он был кадровый политработник, и ложь была его ремеслом.
Когда Дунаев пробил и эту круговую оборону чиновников, пришлось им написать позорную и нелепую сагу о своей жестокости, трусости и подлости: отмену об отмене отмены…
Случай из практики
Директор Института фармакологии, академик медицины Василий Васильевич Закусов был вельможа, русский барин, хам и самодур.
Подчиненным профессорам он говорил «ты» и помыкал сотрудниками, как хотел.
Когда Академия медицинских наук достроила наконец-то долгожданный жилой дом, и многие достойные специалисты безнадежно мечтали получить в нем квартиру, Василий Васильевич потребовал себе две – одну для себя, а другую – для своего собрания картин.
Злые языки утверждали, что он намеревался выбивать и третью квартиру – для собаки, но жена отговорила.
Однажды промозглым октябрьским днем 1952 года, когда на Лубянке полным ходом шили белыми нитками печально знаменитое дело врачей, к Закусову по пустяшному делу пожаловали два офицера МГБ.
Они привезли с собой истории болезней высокопоставленных пациентов и выписанные «убийцами в белых халатах» рецепты.
Чекистам нужно было заключение маститого ученого (а в фармакологии Закусов действительно собаку съел, и мнение его высоко ценилось в научном мире), что все назначения носили вредительский, злонамеренный характер и имели своей целью умерщвление видных государственных деятелей.
К удивлению чекистов академик принялся внимательно изучать привезенные ими бумаги, а про одну историю болезни сказал: «Интересный случай из практики…»
Закончив свои штудии, Закусов достал «Паркер» с золотым пером и четким, не докторским почерком написал: «Все эти назначения достойны лучших врачей мира», после чего, нарочито стуча каблуками, сановной походкой отправился в черный воронок.
На Лубянке его денно и нощно избивали с особой жестокостью, как не оправдавшего доверия.
Будучи выпущен из узилища вместе со всеми «врачами-вредителями» в апреле 1953, Василий Васильевич Закусов, на котором живого места не было, вернулся на круги своя: распекал сотрудников, метал громы и молнии, устраивал судьбу своей бесценной коллекции, выбивал себе новый «ЗИМ»…
Интересный случай из практики.



