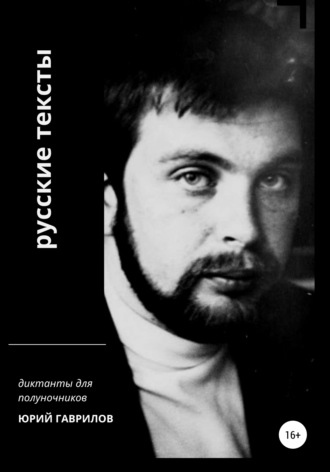
Юрий Львович Гаврилов
Русские тексты
Выдуманный литературный анекдот
Пушкин очень любил подражать кому-нибудь. То путешествовал, как Петр Великий, то с тростью железной ходил, как Иван IV, то стихи писал, как Бенедиктов. А вот детей чужих, как Лев Толстой, вовсе не любил. «Дружба дружбой, а табачок врозь», – он Гоголю говорил.
* * *
Пушкин очень любил путешествовать. На самом деле он Петру Великому подражал. Куда только Пушкина не заносило, однажды он даже в Турцию попал. И в этом он опростоволосился – Петр-то Великий никогда в Турции не бывал.
* * *
Гоголь с детства умел хорошо писать, а вот читать совсем не умел. Встанет посреди улицы, как баран, и даже вывеску прочитать не может. Как-то Пушкин ему говорит: «Вы, Николай Васильевич, выучились бы читать, хоть у дьячка. Если бы Вы знали, как приятно читать свои произведения дамскому полу». А Гоголь дам не любил, стеснялся. Так и не выучился читать.
* * *
У Гоголя совсем не было детей. До смешного – ни одного. А у Пушкина детей было пруд пруди, и каждый год полку прибывало. «Напрасно вы так, Николай Васильевич, – журил Пушкин Гоголя, – занятие от скуки приятное, не все же камнями кидаться».
* * *
Известно, что Пушкин каждый день учил Гоголя бросаться камнями. Да неудачно. Гоголь как запулит – все в Пушкина! «Экий Вы неметкий, – сетовал Пушкин, – не то что, скажем, Жорж Дантес». Но Гоголь с Дантесом знакомиться не пожелал, уехал в Рим, перестал бросаться камнями и стал пить минеральную воду.
* * *
Пушкин, как известно, учил Гоголя кидаться камнями. Сначала дело не клеилось, Гоголь был ужасно неловкий и все конфузился. Но когда Николай Васильевич разбил первый фонарь, он вошел в раж, посшибал решительно все фонари и вывески в Петербурге и уехал в Рим пить тухлые минеральные воды.
* * *
Однажды в Троицын день Пушкин и Гоголь сели в открытую коляску и поехали на народные гуляния набираться сюжетов. Увидел такую их дружбу государь и решил произвести обоих генералами. Но потом раздумал: Пушкин все же был арап, а у Гоголя имелся неприлично длинный нос. Пушкин был пожалован камер-юнкером, а Гоголь остался с носом. Он обиделся и уехал в Рим, где с досады стал пить тухлые минеральные воды.
* * *
Гоголь ужасно много пил кислой лечебной воды и стал частенько заглядывать в известное заведение искусственных минеральных вод, где толпились дамы полусвета. «Смотрите, Николай Васильевич, – подтрунивал над ним Пушкин, – нынче вы все пеняете, что из-за угла сначала появляется нос ваш, а потом только вы, а от искусственных минеральных вод можно вообще носа лишиться».
* * *
Гоголь, как известно, совсем не умел читать и водил постоянно с собой пономаря, заикатого гнусавого замухрышку. Когда этот стручок читал произведения Гоголя, от волнения пропуская и перевирая слова, Пушкин смеялся так, что кишки было видно, бил себя по ляжкам и кричал «Ай да сукин сын!» Поэтому многие поверили, что Гоголь пишет смешно.
* * *
У Гоголя из дому пропал золотой портсигар. Он позвал своего слугу, немца, показал ему кулак и сказал: «Знаешь ты, колбаса немецкая, чем этот параграф пахнет». Но слуга только глазами моргал. Гоголь пожаловался Пушкину. «Позвольте, Николай Васильевич, – удивился Пушкин, – откуда у Вас портсигар, ведь вы никогда не курили». Гоголь понял, как он обмишурился, дал слуге за обиду катеньку, а сам от стыда сбежал в Рим.
* * *
Гоголя назначили профессором, и он читал студентам историю и географию. День читает, другой читает. Наконец не выдержал и бросился к Пушкину: «Просветите хоть вы меня. Что такое история я слыхал – это про Александра Македонского, что он герой, а какая такая география, ума не приложу». Пушкин смеялся, бил себя по ляжкам и кричал: «Ай да Гоголь! Ай да профессор!»
* * *
Гоголь любил малороссийские дыни, а Пушкин – хорошеньких женщин, из-за этого они часто ссорились. Пушкин дразнил Гоголя: свернет лист рукописи рожком и к носу приставит, а Гоголь отвечал Пушкину: «Нога петушья!»
* * *
В Петербурге стали возникать различные акционерные общества прикосновения к чужой собственности. Гоголя едва не обобрали, его спасло только то, что у него вовсе не было денег. Да и Пушкин ему много помог, рассказал «Мертвые души»; Гоголь уехал в Рим писать первую часть и пить тухлые минеральные воды.
* * *
Гоголь своим длинным носом чуял много лишних запахов: то у него чай рыбой воняет, то рыба – чаем. Особенно он против устриц ополчался. «Я-то знаю, чем устрица пахнет», – говорил он Пушкину. А Пушкин посмеивался, он был гурман, а Гоголь – аскет; так ни одной устрицы за всю жизнь не попробовал.
* * *
Гоголь был необыкновенно щепетилен во всем, что касалось одежды. Даже сюртук особого покроя для себя сочинил и стал в нем похож на лютеранского пастора. И вдруг, возьми да и начни носить берет. Жуковский всполошился: «Дойдет до государя! Вольнодумство непростительное! Кукольник наябедничает, что Вы город бунтуете!»
Но Гоголь просто по рассеянности напяливал на голову берет Брюллова. Брюллов свой берет спрятал подальше, а Гоголь вновь учудил – стал вовсе без головного убора ходить. Тут уж Пушкин вмешался: «Будет бунт. Бессмысленный и беспощадный». Рассказал Гоголю «Мертвые души» и отправил в Рим, от греха подальше.
* * *
Гоголя решительно все принимали за Пушкина, притом, что они вовсе не были похожи. Гоголь был ростом повыше, волос носил прямой и длинный, а Пушкин имел волос кучерявый и жесткий, известное дело – арап но, вот подишь ты, все их путали, даже Вяземский, который с Пушкиным был не разлей вода. Одно имелось средство у Гоголя от этой обидной мороки – обнародовать нос свой. Но он опасался насмешек и нос не показывал. Так и сходил за Пушкина, даже стихи писал.
* * *
Гоголь не брал в руки карт. «Мне от них мерещится», – говорил он. «Полно, Николай Васильевич, – возражал ему Пушкин, – карты – сильней нет страсти…» «То-то что страсти, – соглашался Гоголь, – как представлю: у меня на руках целых четыре дамы…». Тут Гоголь крестился и прыскал себя кельнской водой.
* * *
Гоголь был очень мнительный. Чуть какой ячмень надует, Гоголь уже кричит: «У меня французская болезнь!» Пушкин над ним подтрунивал: «У вас-то откуда ей взяться! Вы же совсем не читаете свои сочинения дамскому полу…» «С ветру надуло или сорока на хвосте принесет, вот и пропал нос», – Гоголь впадал в отчаяние и прыскал себя кельнской водой. Больше всего он опасался, что нос пропадет, даже повесть об этом написал.
* * *
Гоголь очень любил делать разные ужимки. Приходит он однажды к Пушкину и с испуганной ужимкой сообщает: «Знаете ли вы, Александр Сергеевич, что Гнедичу на новой казенной квартире стены покрасили голубцом. И, представьте себе, не простым голубцом, – тут Гоголь сделал уже совершенно невозможную ужимку, – а особенным голубцом».
Пушкин, любя Гоголя, с тех пор частенько говаривал: «Наш-то Николай Васильевич – не простой голубец, а особенный…»
* * *
Гоголь имел прескверную привычку все нюхать. Вот и каждый камень, прежде чем бросить (Пушкин научил его кидаться камнями), обязательно обнюхает, да еще скажет: «Камень сей лежал подле навозной кучи…» Пушкин сердился: «Стыдно вам, Николай Васильевич, какая от вас неприятность, большая важность знать, чем нужник смердит!» Но с Гоголя как с гуся вода, и он Пушкину доверительно сообщал: «От князя Вяземского пахнет кельнской водой, от Гнедича – голубцом особенным, а от Ивана Андреевича – жарким и пирогами с капустой…»
* * *
Гоголь жгуче завидовал Хомякову, что тот пишет «Семирамиду». «Надо бы и мне изобразить что-нибудь античное, героическое, например, Лаокоона», – часто говаривал Гоголь. Но кривой Гнедич, этот голубец особенный, рассказал зачем-то Гоголю, что Лаокоона уже написал немец Лессинг. Гоголь очень огорчился, опять стал грызть ногти, чесать нос и так ничего античного не изваял.
* * *
Одно время Гоголь повадился грызть ногти и чесать до крови свой длинный нос. Пушкин пенял ему: «Ногти холить следует, а не грызть. Вам, Николай Васильевич, надобно руки за спиной завязать, а случится, выкинется у вас какая комедия или поэма, вам Пфефер-Вурст[11] их вмиг развяжет (у Гоголя в услужении был немец). Но Гоголь рук себе крутить не позволил и уехал в Рим, где за день выпивал более сотни стаканов тухлых минеральных вод, что с завязанными за спиной руками было бы крайне затруднительно.
* * *
Любимый предмет у Гоголя был нос его. «Пришли мне мой «Нос» назад, потому что он мне очень нужен», – писал Гоголь Погодину, и ему же: «Сам черт разве знает, что делается с «Носом»! Я послал его как следует, зашитого в клеенку…» Даже Пушкин признавал: «У нашего Николая Васильевича не нос, а просто какой-то голубец особенный!»
* * *
Гоголь очень любил писать письма, потому что имел замечательный почерк, круглый, разборчивый, с умеренными завитушками. Но ошибок сажал по три-четыре в каждой строке, особенно не жаловал знаки препинания. Пушкин, читая письма Гоголя, хохотал, бил себя по ляжкам и кричал: «Ну, Гоголь! Ну, грамотей! Ну, писатель! Щекатурка, страм, а запятые где!? Ну, просто какой-то голубец особенный!»
* * *
Гоголь был очень высокий и, чтобы скрыть это, сильно сутулился. «Что выросло, то выросло, верста вы коломенская, – подшучивал над ним Пушкин, – все то он горбится!»
«Горбатого могила исправит», – кротко отвечал Гоголь.
И, как выяснилось впоследствии, он был не прав.
* * *
Гоголь очень любил черешню. Наберет полный рот ягод и давай косточками пулять во все стороны. «Очень вы некрасиво изволите есть черешни, Николай Васильевич, – пенял ему Пушкин, – плюетесь, ну ровно верблюд. Косточки надо в жменю собирать, а потом куда-нибудь, хоть под комод, незаметно выбросить».
* * *
Пушкин начал писать «Историю Пугачева». «Опять вас, Александр Сергеевич, на солененькое потянуло, – заметил Гоголь, – дойдет до государя, вот вам и конфуз. Вы бы лучше что-нибудь в духе Вальтера Скотта или вот историю генералов». Но Пушкин стоял на своем, он был упрям, а Гоголь – деликатен.
Русские чудаки
Антики. Беспардонные вруны
В Москве на рубеже веков жил некий князь, богач и отчаянный хлебосол, имевший странную склонность врать гостям всякую чепуху, без конца и без запинки.
Природа и мотивация лжи очень сложна и интересна; выключим за скобки ложь корыстную – тут все ясно: лгут из выгоды; туда же, за скобки, ложь ради спасения, когда неправдой и умолчанием хотят избавить ближнего от ненужных страданий, но зачем лжет Ноздрев? Что ему в рассказе о том, что он поймал русака за задние ноги? Лотман говорил, что Хлестаков лжет из-за презрения к себе; редкий случай, но Юрий Михайлович ошибается, Хлестаков слишком мелок, чтобы презирать себя, это чувство рождается либо умом, либо рефлексией недюжинной.
Так вот, наш барин имел пункты: все, что не подавалось на стол – стерляди и гигантские белуги, омары, устрицы, ананасы – все это якобы выращивалось в его подмосковном имении, в Люблино. Любил он рассказывать о чудесном сукне, вытканным по его заказу для князя Потемкина, из шерсти рыбы, пойманной в каспийском море. Семь верст до небес и все лесом.
Польский граф Красинский, в 1812 году воевавший на стороне Наполеона, был тот еще Мюнхгаузен, а когда его ловили на слове, выворачивался с изумительной изобретательностью.
Однажды он в блестящей импровизации поведал миру, как за подвиг на поле битвы Наполеон наградил его орденом Почетного легиона, сняв его со своей груди. «Так что же Вы не носите его, граф?», – хором воскликнули пораженные слушатели. «Я вернул его императору, – не моргнув глазом, пояснил Красинский, – я счел мой поступок недостойным такой награды».
Однажды он проврался о своих воинских доблестях так жестоко, что для изложения дальнейших подробностей призвал на помощь своего адъютанта. «Ничего сообщить не могу, – бесстрастно отозвался тот, – Вы, Ваше сиятельство, изволили забыть, что я был убит при самом начале сражения…»
Одному из русских вдохновенных вралей его фантазия обошлась дорого – он был приговорен к пожизненной каторге, но о нем разговор особый.
Народ говорит: не хочешь – не слушай, а врать не мешай.
Антики. Генерал-суевер
Начальник всех кадетских корпусов при Александре I был суеверен до смешного: у всех дверей его дома были прибиты подковы, найденные им и собственноручно приколоченные; в спальне, в позолоченной клетке, помещался петух для отпугивания домового.
Черные кошки, понедельники и пятницы, пустые ведра, зайцы, рассыпанная соль и разбитые зеркала – вся эта чушь почиталась генералом как святыня и управляла его поведением.
Особенное предубеждение питал он к нечаянным встречам со священнослужителями, которые известный русский предрассудок относит к самым несчастным предзнаменованиям.
Встретив батюшку, генерал тотчас выскакивал из экипажа и приглашал его к себе домой; попы, охочие до дарового угощения, охотно садились в карету.
Заманив гостя в специальную комнату, генерал, под видом распоряжений по поводу закуски, покидал помещение, а гостя запирал на ключ, дабы быть уверенным, что уж этот-то священник не перейдет ему дорогу; однажды таким образом он заточил в узилище трех попов.
По Васильевскому острову, где жил генерал, поползли слухи о странных недоразумениях, а затем местные священники и причт, едва завидя высокую карету цугом с двумя лакеями в военных ливреях на запятках, прятались куда попало, невзирая на сан свой.
Новая сорочка, как известно, приносит беду, поэтому генерал и сорочку надевал с предосторожностью: камердинер держал перед ним распахнутую рубашку, генерал, с разбега, набычившись, засовывал голову в рубашку и тут же отбегал назад и так до трех раз, с последнего захода он вскакивал в растопыренную рубаху и уже оставался в ней.
В его доме во всех комнатах, по примеру Суворова, висели иконы и теплились лампады, а одна, довольно большая зала, служила образной, в ней по всем стенам в несколько ярусов теснились иконы до самого потолка.
Однажды в этом оригинальном помещении вместе с хозяином находился приходской священник, которому генерал благоволил. Суеверу пришло в голову приложиться к какому-то образу, расположенному в самом верхнем ряду – речь шла о испрошении покровительства в карточной игре. Генерал уже было распорядился снять образ, но священник остановил его, заметив, что в таком случае достаточно одного усердия почитать святыню.
Но генерал нашел способ понадежнее усердия, неожиданный и галантный: он послал образу воздушный поцелуй.
Антики. Губернаторы-чудаки
Струйский был владимирским губернатором; он одевался странно даже для своего времени: с фраком носил парчовый камзол, подпоясанный розовым шелковым кушаком, обувался в башмаки с разноцветными бантиками.
Он был законченный графоман и, подобно графу Хвостову, сам себя издавал. Типография его была лучшая в России, он выписывал из-за границы всевозможные шрифты и даже эльзевиры, с серебряных литер которых печать получается исключительно четкой, изящные виньетки, бордюры, рамочки.
Книги свои Струйский печатал на атласе или на дорогой александрийской клееной бумаге с водяными знаками; на типографию он тратил весь доход своего главного имения Рузаевка, где жил безвыездно после выхода в отставку.
Пензенский губернатор, известный под именем князя Григория, в нежной юности насмотрелся на своего дедушку, святейшего князя Потемкина, его малый двор, фаворитов и фавориток, и решил превзойти его.
Начал он с того, что назначил себе фавориток, двух пожилых некрасивых женщин, подальше от соблазна, так как был женат, жену любил и хранил супружескую верность неукоснительно, что ныне кажется смешно.
Одна из фавориток получила титул маркизы де-Монтеспан. Она составляла князю Григорию партию в бостон и давала ему деньги взаймы (в которых он не нуждался) под высокие проценты, за что к ее титулу последовало прибавление мадам ла-Рессур.
Второй платонической метрессой пензенского Людовика стала тихая богомольная старая дева, которая пугалась и вздрагивала, когда к ней обращались «девица де-ла-Вальтер».
Жена чудака была включена в игру, она должна была выказывать крайнюю холодность обеим фавориткам, хотя на самом деле имела с ними самые дружеские отношения.
Уподобившись Людовику и Потемкину, князь Григорий захотел стать еще и иудейским царем Давидом: он выучился изрядно играть на арфе, по утрам выходил на крыльцо своего дома в ветхозаветном костюме и пел лишенным приятности голосом псалмы и фривольные французские песенки и куплеты.
Из своих чиновников он составил себе двор; для молодых писцов простого происхождения нанял учителя танцев, одел их по последней моде, жаловал камер-юнкерами, пошил им жилеты немыслимого цвета, дабы они не смешивались с публикой на балах, где все девицы обязаны были с ними танцевать. Секретарь канцелярии жаловался, что совершенно некому переписывать, и все дела встали; губернатор распорядился сверх штата нанять других писцов и платил им жалованье из своих средств.
Жена иркутского губернатора Трескина, Трещиха, поклялась, что на каждого своего ребенка взятками соберет по пуду ассигнаций; детей у нее было восемь.
Собрала и привезла в европейскую Россию в мороженых осетрах. Но это не смешно.
Антики. Князь С. Г. Голицын и дело 14 декабря
Пушкинская шутка:
Полюбуйтесь же вы, дети,
Как в сердечной простоте
Длинный Фирс играет в эти,
Те, те, те и те, те, те, –
требует пояснений.
«Длинный Фирс» – князь Сергей Григорьевич Голицын, личность весьма замечательная, великосветский массовик-затейник 30–40 годов.
Кавалергардских, гвардейских статей, фонтан красноречия и веселья, неистощимый рассказчик, враль, балагур. Сочинитель анекдотов, музыкант, певец, обладавший незаурядным басом, он был душой общества и, конечно, нигде никогда не служил, справедливо почитая смех и вообще веселье, которого он был источником в любой гостиной, своим гражданским поприщем.
Его не смущало, что будучи отпрыском знатного рода, но не имея никакого чина, должен был, дожив до седин, подписываться «недоросль князь Голицын»; не мешал ему и нервный тик – следствие сильного испуга, пережитого в детстве, постоянное передергивание лица усиливало комический эффект его выразительной мимики.
Он познакомил великосветскую молодежь Петербурга с новым изящным развлечением – шарадами в действии, которые разыгрывались на званых вечерах актерами-любителями.
Как-то, играя в карты с человеком, уже ему задолжавшим (что было отчасти против строгих правил), на вопрос должника: «На какие деньги играем? На эти или те? (подразумевался долг)». Голицын отвечал: «Это все равно: и на эти и на те, и на те, те, те…»
Незамысловатая шутка понравилась и запомнилась игрокам – и Пушкину.
Голицын был домашним человеком в доме генерала Чернышева, впоследствии члена Следственной комиссии по делу декабристов; любимец детворы и солист домашней оперы, он заслужил почетное прозвище Фирса, то есть мешающего и все в беспорядок приводящего.
А память-то святого мученика Фирса со товарищи празднуется 14 декабря – ну не смешно ли?
От Следственной комиссии это в высшей степени подозрительное совпадение: Фирс, дата, известные события – не ускользнуло (где имение, а где река?), и поволокли фельдъегери раба Божия, производящего кавардак и забавы, в крепостные казематы объяснятся: не он ли режиссер-постановщик народных гуляний с пушечной стрельбой и лужами крови.
Длинного Фирса отпустили, оставив в подозрении.
Такая вот шарада в действии.
Что за комиссия, Создатель, быть затейником в России?
Антики. Ермил Иванович Костров
Костров, первый переводчик Гомера и Оссиана на русский язык, был из крестьян, он закончил славяно-греко-латинскую академию, из Московского университета вышел бакалавром и был оставлен в должности университетского поэта.
Костров имел русскую слабость придерживаться чарочки; сложения он был самого субтильного, он и трезвый нетвердо стоял на ногах. Крестьянский сын знал в совершенстве латынь, древнегреческий и древнееврейский языки, французский – переводил Вольтера и энциклопедистов.
В доме мецената графа Шувалова у него была своя комната и ключ от буфета с водками.
Однажды Иван Иванович Дмитриев, поэт, впоследствии министр юстиции, застал Кострова в девичьей, тот сидел в кругу молодиц и сшивал лоскутки, рядом с ним лежал том Гомера на языке подлинника. «Вот, девчата велели куклу лоскутную сшить», – объяснил свое поведение Костров.
Добродушие его было пленительным и беспримерным. Он был выведен в одной комедии в смешном виде и даже обидном виде, Костров любил читать вслух именно те явления, в которых он осмеивался и приговаривал, имея в виду автора: «Ах, он пострел! Я и не подозревал в нем такого ума, как славно потрафил меня».
Нравственности он был неколебимой, но, будучи нетрезв, иной раз ложился на стол и обращался к воображаемой возлюбленной: «Где ты, восторг сердца моего? На Олимпе? Выше! На Эмпиреях? Выше! Непостижимо!»
Однажды Дмитриев увез Кострова, пьяного до изумления, в Петербург, всю дорогу подогревая его, и выпустил на Караванной улице, когда тот отчасти протрезвел.
«Иван Иванович, у меня рассудок мешается, – сказал потрясенный Костров, – я не узнаю Москвы».
Не раз и не два в гостях у Бекетовых друзья, изрядно подпоив Кострова, ссорили его с младшим братом Карамзина, следовал вызов. Карамзин брал в руки шпагу, а Кострову давали ножны, он не замечал этого и с трепетом защищался, опасаясь пролить кровь невинную.
На языке Кострова «пить с воздержанием» значило пить так, чтобы держаться на ногах. Однажды он бражничал со студентом Верещагиным, переводчиком. Студент пил без воздержания и из кабака пополз на четвереньках, «не по чину, не по чину», – закричал Костров на собутыльника.
В бытность Екатерины II в Москве, императрица пригласила Кострова на обед, но он не явился.
«Не стыдно тебе, ты променял дворец на кабак», – сказал Шувалов.
«Побывайте в кабаке, не променяете ни на какой дворец», – парировал Костров.
За перевод Илиады Екатерина II пожаловала Кострову тысячу рублей новыми ассигнациями (до этого в России не было бумажных денег), сумму весьма приличную по тем временам. Костров отправился кутить в свой любимый Царскосельский трактир. Здесь он встретил убитого горем офицера, потерявшего 800 рублей казенных денег, его ждала солдатская лямка.
Костров сказал: «Я нашел ваши деньги и не хочу пользоваться ими», вручил офицеру и быстро ушел из трактира.
Умирая в нищете, Костров никогда не пожалел о своем великодушном поступке.



