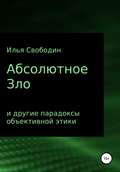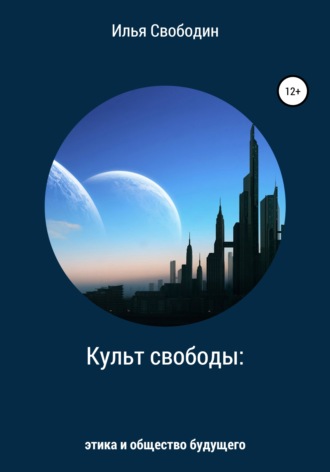
Илья Свободин
Культ свободы: этика и общество будущего
Как и всякая зависимость, потребность в информации растет, создавая положительную обратную связь с ее источниками. Эмоциональная насыщенность информации позволяет превратить ее в товар. Источники начинают производить информацию ради ее продажи – т.е. вместо того, чтобы служить договору и свободе, она начинает служить обману и насилию. Информационный ком увеличивается в размерах, благо информация может расти безостановочно. Избыток информации еще больше обостряет проблему эмоциональной насыщенности. Захватить внимание становится все труднее и требует все больше эмоционального давления.
– Запоминание
Информация любит запоминаться. Но, к сожалению, неравномерно. А это уже насилие над тем, что запоминается хуже! Вот скажем, реклама. Хочется верить, что обьявление о новом товаре с честным упоминанием его достоинств и недостатков вполне может претендовать на роль этического образца. Но проблема в том, что упоминание более одного раза уже ставит под вопрос нейтральность рекламодателей. Известно, что даже негативная известность помогает продажам. Не менее важно броское, звучное, эффектное наименование, без чего обойтись просто невозможно. Похоже такие символы, как бренды, торговые марки и фирменные знаки должны найти уникальный способ запоминаться не запоминаясь. А может ОЭ вообще требует отказаться от имен, ведь любое имя несет в себе постороннюю и потенциально вводящую в заблуждение информацию? Однако цифры тоже запоминаются неодинаково!
Реклама – только часть стратегии проталкивания товаров и навязывания потребностей. Не будет преувеличением сказать, что вся индустрия маркетинга, на который уходит больше затрат, чем на разработку и производство – самое бесстыдное насилие. Изобилие фальши – следствие не только экономической войны, но и простоты с которой фальшь производится и потребляется. Изобретение нового – нелегкий процесс, легко заменяемый псевдоновизной, главная цель которой – привлечь внимание и запомниться. Это лишь эмоциональный раздражитель, опирающийся на уже знакомое, измененное неважно в какую сторону – от красочной упаковки до звонких слов, переиначивающих или извращающих вполне годные старые смыслы. Псевдоновизна не должна быть слишком новой, оригинальной и необычной. Человек, как существо интуитивно нацеленное на свободу, падок на новое – стремление к новизне неизбежно и неконтролируемо. Новое, даже бессмысленное, само по себе несет знак современности и актуальности. Если свежую мысль изложить приевшимися, стертыми словами, она будет казаться потасканной, унылой, а сам текст – банальным, дилетантским и вообще предназначенным для дебилов. А вот если несвежую – новыми, непонятными и странно звучащими терминами, она заиграет, заискрит и ее захочется запомнить.
С новизны начинается война за память. Лучше всего запоминается первая информация о чем-то новом – и потому генераторы информационного мусора стремятся не только к количеству, но и к скорости генерации. Но новизна, быстро проникающая в мозг, неглубока – она основана на остроте первого впечатления. Истинно новое требует работы не только по созданию, но и по усвоению, пониманию. Впечатление – механизм природный, а значит изобретение впечатляющих смыслов целится в субьективное, эмоциональность становится оружием в войне. Но привлечь внимание мало, надо удержать и закрепить его. Старое проигрывает не новизне, а напору псевдонового смыслового мусора. В войне за память побеждает то, что упоминается чаще, плюс чему помогает личное мнение, вызывающее доверие. Оба эти условия сочетаются в феномене известности.
6 Информационный капитал
– Известность
Если полагаться на знакомый канал, чтобы выбрать другие, на знакомый источник, чтобы оценить другие, на знакомый символ, чтобы удостоверить другие – получится насилие известности. Известность возникает от многократного повторения, превращая знакомое в привычное и родное. Примерно как и мы, друзья, раз за разом возвращаемся к этому феномену, повторяя на все лады "известность", "величие", "популярность". А что делать? Привычное необходимо в бесконечном мире. Невозможно же каждое утро начинать жизнь с чистого листа! Но привычное возникает не всегда так, как нам бы хотелось. Я бы сказал, оно обычно возникает вопреки. Уже простое упоминание имени или названия придает ему определенную ценность, которая влияет на отношение к нему – это отношение улучшается, приобретает доверительность. Символ проникает в память, память формирует личность, а собственная личность имеет безусловную ценность. И хотя эта ценность не слишком ценится этикой, люди пока не нашли способа побороть память. В итоге известное приобретает вес, многократно превосходящий количество упоминаний, не говоря о его заслуженности. Даже сам эпитет "известный" несет его.
Насилие известности делает обмен неравноценным, примерно как на "свободном" рынке. Достоинство постороннего человека должно магическим образом гарантировать возможность каждому мнению быть услышанным и оцененным всеми на равных. Но в реальности, в условиях разной новизны и частоты упоминаний, т.е. фактически насильственности информации, ее качество едва ли может служить основанием для оценки, а значит основанием служит все что угодно, кроме этого. Да и возможно ли такое благообразие? Моральное достоинство людей одинаково, но одинаково ли качество мозга и способности сформулировать мысль? Как сделать, чтобы мнение каждого учитывалось достойно? Не следует ли из неравного качества источников информации автоматическое неравенство обмена? Неравенство в качестве влечет повторяемость, повторяемость влечет известность. Кто-то становится популярным источником, а кто-то – молчаливым слушателем, кто-то читателем, а кто-то – писателем. Как избавиться от информационных "классов" и предоставить каждому мнению одинаковое право на участие в договоре? Должны ли размеры источников и каналов быть равны так же, как веса участников рынка?
Ценность и соответствующую весомость приобретает также контекст в котором происходит упоминание известного символа. В результате, авторы для убедительности своих текстов привлекают максимально известные имена, сыпят цитатами и украшают их эпиграфами, что придает известным еще больше известности. Популярность начинает влиять не только на мнение, но постепенно вызывает почитание и восторженную эмоциональную реакцию, которая в этом случае оказывается индуцирована извне – т.е. является следствием насилия, а не собственного эстетического или интеллектуального переживания.
Наиболее характерно этот эффект проявляется в искусстве. Искусство вообще крайне субьективная вещь, вопрос об обьективной ценности шедевров вечно открыт. Любые произведения слишком привязаны к контексту, чтобы стать действительно вечными. Их эстетическая ценность в результате обязательно дополняется другой – искусственно-информационной. Осознанно или нет, но люди склонны пользоваться чужими мнениями как основой не только собственного мнения, но и самого искреннего восприятия. Что открывает легкий путь к навязыванию любых оценок, а в дальнейшем – и поведения.
– Касты
Феномен целенаправленного приобретения известности, а затем ее использования в корыстных целях, позволяет снова говорить о капитале, на этот раз информационном. Известность легко конвертируется в деньги, а деньги, чуть менее сложно, в известность. Особенно эффективно этот процесс происходит в случае группового сговора. В основе деятельности группы лежит взаимный маркетинг – раздувание взаимной известности ее членов. Впрочем, иногда сговор и не требуется – группа формируется сама собой. Равно как и не всегда феномен обьясняется корыстью – помимо кассовой и классовой солидарности, за ним может стоять этническая общность, стремление к успеху/власти/интеллектуальному признанию или обыкновенное тщеславие. Суть не меняется оттого, что класс в данном случае – культурная, т.е. предположительно близкая этике, элита. Никакой такой близости нет. Есть близость человеческая – личные связи.
Первой из обьективных причин появления этого типа капитала является взаимное уважение людей, видящих друг в друге специалистов/экспертов. Людям свойственно прислушиваться к тем, кто мыслит и излагает сходным образом и с кем связывает длительное интеллектуальное, хоть не обязательно личное знакомство. Люди всегда предпочитают похожих. Взаимное уважение взаимоусиливается, появляется дискриминация тех, кто кажется не вполне достойным внимания. Вторая обьективная причина – уважение со стороны "непричастных" к тем, кто обладает подобной, трудно достижимой репутацией. Отношения становятся асимметричными. Формируется своеобразный клуб авторитетов, принадлежность к которому и особенно общение в узком кругу может исказить взгляд на реальность и развить коллективную субьективность. Известность ведет к насилию затрагивающему не только ничего не подозревающих потребителей информации, но и ее источники. Результат? Профессиональная спесь, чувство превосходства, элитарность, а потом и неизбежный взаимный маркетинг. Непричастные, в свою очередь, оказываются лишены влияния и голоса, а группа окончательно монополизирует право на истину. Заключительным этапом становится образование формальной интеллектуальной или, правильнее, информационной элиты – когда должности, премии, знаки отличий и доступ к каналам дальнейшего информационного влияния достаются в зависимости от авторитета, идейной и культурной близости, а фактически – принадлежности.
Такая каста напоминает маленький, но сплоченный класс, охраняющий свои привилегии. В былые времена высшие классы настолько отличались от низов, что имели даже свой отдельный язык. Каста в этом смысле наследуют традициям элитизма. Если она существует достаточно долго, каста вырабатывает терминологию и даже подобие языка, служащего фильтром по отсеву безграмотных. Вы не замечали, друзья, как бывает тяжело читать специальные работы, перенасыщенные сложностями, скрывающими смысловую пустоту или в лучшем случае тривиальность? Это значит каста уже дошла до той черты, за которой она живет в своей собственной реальности.
Пробить брешь в устоявшейся кастовой системе извне проблематично. Проникновение в нее начинается по-разному, но в любом случае необходимо следовать правилам игры. В политике – с попадания в фокус внимания, в искусстве – со скандала, в других областях – с удачного творческого или профессионального результата. Полученная известность включается в работу, пока она горяча. Для поддержки привлекаются уже известные авторитеты – личные рекомендации являются необходимым условием кооптации новых членов. Собственно, авторитет – это и есть известность, привлекаемая для продвижения другой известности. Чем авторитетнее автор/эксперт, тем он известнее, а чем он известнее, тем авторитетнее. Постоянное вращение в потоках информации придает мнению известного лица вес, несоизмеримый с его умом или компетентностью, поэтому без взаимной поддержки авторитетным людям нельзя – только чьим-то мнением можно создать себе авторитет, а своим авторитетом – поддержать чей-то, таким образом надежно сохраняя общее место в информационном поле.
Считать подобное насилие чуточку "обьективным" позволяет тот факт, что кроме перечисленного выше, феномен обьясняется обьективными сложностями с совершенным вкусом, необходимым для оценки деятельности, не приносящей прямой практической пользы. Отсюда закономерно-ложно понимаемый смысл ценности – ценно то, что, во-1-х, пользуется уважением, во-2-х, у знатоков. Но разумеется, компетентность, так же как и развитый вкус, еще не дают право пренебрегать скромностью, беспристрастностью и пониманием собственной субьективности. Не говоря о бесцеремонном применении личного информационного капитала.
– Культурная коррупция
Сформированные кастами ценностные критерии и культурные идеалы так окостеневают, что остаются в народной памяти навсегда и способны исчезнуть только вместе с народом. Они формируют саму его культуру и потому, учитывая вышесказанное, мы можем считать нынешнюю, пре-договорную и до-этичную культуру насквозь коррумпированной и насильственной, духовные сокровища и национальные достояния которой не только субьективны, но и приватизированы и превращены в источник ренты. Деятельность по культивации великих имен/культовых фигур/массовых идолов не только сплачивает нацию, но и служит экспортным товаром, а точнее оружием в ведущейся глобальной культурной войне. И именами дело не ограничивается. Имена порождают термины, термины влекут заявки на приоритет, приоритет гарантирует вечное культурное превосходство. Так из воздуха создаются национальные, а значит субьективные и ложные ценности. И чем шире мировое признание этих мифических сокровищ – начиная с самого национального языка – тем весомее рента и надежнее будущее.
Разумеется, самой благодатной почвой для процветания коррупции является искусство. В авангарде, правда не искусства а коррупции, идет отряд экспертов, критиков и "разноведов" – мастеров слова, способных убедительно выразить нужное мнение. Суть процесса – нагружение искусства смыслом, которого там нет, творческая интерпретация, толкование. Толмачи убеждают ничего не подозревающие массы в достоинствах шедевра, из которых главное достоинство, разумеется, авторство, поскольку авторство – его единственный обьективный атрибут. Интерпретаторы переключают смысл с обьекта на субьект и придают имени автора необходимую ценность, которая далее плавно проникает во все его шедевры. Эта ценность поднимает имя на необходимую сакральную высоту, неуязвимую для последующего критического анализа. Друзья, надеюсь, у вас не создалось впечатление, что я против критиков? Критики необходимы – но самим творцам. И не для продвижения, а чисто для творчества.
За критиками следуют активные почитатели и ранние последователи или, выражаясь прямо, святые угодники. Это знатоки, разбирающиеся и любящие искусство, но не способные, или скорее не допущенные, нагружать шедевры смыслом подобно критикам. Зато они способны наслаждаться им, греясь в лучах сакральности и поглядывая свысока на всех остальных – отсталых и темных. Гордость угодников проистекает от того, что они знают все нужные имена, но доказать это можно только упоминая их. Так добровольно и бесплатно выполняется необходимая работа по продвижению созданного мнения. Поведение знатоков, по моим личным наблюдениям, обьясняется их повышенной эмоциональностью, сопровождаемой проблемами с поиском личного смысла. Искусство вообще очень близко располагается к эмоциональному насилию, его важно воспринимать сдержано, критично и вдумчиво, не выпячивая личный субьективный аспект.
Описанное "эстетское" насилие не ограничивается искусством. Все, что имеет трудно добываемую обьективную ценность, оказывается способно проникать в культуру подобным образом. И даже больше того – то, что имеет очевидную ценность, оказывается подвержено влиянию информационного капитала. Например, подобный коммерческий маркетинг прекрасно продвигает не только предметы роскоши, становящиеся значительно роскошнее благодаря торговой марке, но и вполне практические массовые продукты, марки которых переходят на подсознательный уровень вследствие широкой циркуляции в массах. Если ценность товаров оказывается где-то между этими крайностями, например недоступна быстрой и всесторонней оценке, как в лекарствах или страховках, маркетинг, а точнее манипуляция информацией, становится серьезным средством информационного насилия над потребителями.
Единственная область, кое-как сопротивляющаяся давлению информационной коррупции – точная наука. Благодаря легкости практической проверки истинности, здесь удалось исторически выстроить критерии обьективности, отчего насилие не слишком помешало привязать ценность имен к ценности дел – по крайней мере, если сравнивать с остальными областями культуры. Однако в наше время, когда знание все больше погружается в мир теоретических абстракций и все меньше пересекается с практикой, а финансирование зависит от мнения бюрократов, критерии начинают смещаться, испытывая все более сильное давление политической/научной коньюнктуры, популярности и актуальности, намертво привязанным к информационному насилию – вниманию, репутации и импакт-фактору. "Публикуйся или помри" (publish or perish) – вот девиз современного ученого. Результат – не открытия, а привлечение внимания, столбление приоритета, взаимные ссылки, умышленное игнорирование и т.д. Стремление к успеху побеждает стремление к истине.
В менее точной науке этичные методы получения результатов уже безнадежно проиграли искусству оказаться известным, попасть в струю, припасть к нужным рукам. Корифеи имеют приоритетный доступ к финансированию и публикациям, образуя петлю положительной обратной связи, разрастаясь сами собой, превращаясь в псевдоученую торговую марку, на которую работает множество неизвестных героев, в свою очередь озабоченных не научным результатом, а собственным успехом неотделимым от известности. Ситуация становится неотличимой от искусства, включая искусство чеканки звонких терминов и эффектные образы, помогающие привлечению внимания и продвижению влияния в массы. Разве что механизм образования кланов слегка другой. Помимо личных знакомств в нужных кругах, он требует верности устоявшейся теории/идеологии, что счастливо сочетается в случае научной "школы", намертво скрепленной родственными связями "учитель-ученик".
Теперь бóльшую известность приобретают идеи влиятельных, причем со стороны совершенно непонятно почему, людей. Оказавшись исторически в центре внимания, они набирают вес автоматически – благодаря многочисленным начетчикам, не способным выдвинуть свои идеи, но зато способным бесконечно угадывать, что имел в виду автор, кто на него повлиял и на кого он повлиял в свою очередь. Вы друзья наверняка угадали о ком я. Официальная философия давно выродилась в Священные Писания – иконы и идолы, портреты и авторитеты, многослойные толкования толкований. Благодаря этому нехитрому, и даже внешне этичному приему, проявление уважения к умершим коллегам стало отличным способом сформировать замкнутую систему и отгородиться от лишних претендентов на знание истины дабы успешнее паразитировать на чужих идеях. Что совсем не удивительно, если вспомнить что философия – не более чем искусство, хотя и скучноватое.
7 Массовая информация
– Болезнь
Стоит ли после мира науки спускаться на грешную землю, чтобы убедиться, что нынешнее повсеместное информационное насилие – следствие поголовной грамотности и такого же поголовного невежества, дающих простор описанным выше феноменам? А вернее, ленивых мозгов, составляющих резервуар общественного сознания и являющихся питательной средой для формирования в нем скоплений информационных "масс", всасывающих информационные "газы" и зажигающих информационные "звезды"? Поведение свободной информации, получившей возможность себя вести так, как ей хочется, ничем практически не отличается от поведения финансового капитала на свободном рынке. И он, и она не работают на благо общества, а деформируют саму среду, что создала возможность их существования. Впрочем, свободные они только с точки зрения тех, кто пользуется ими в целях насилия.
"Гравитационные" искажения информации – следствие взаимного усиления негативных информационных феноменов. "Звездой" может стать что угодно, любой материальный или идеальный обьект, от человека до абстракции. Поскольку оценить обьективную пользу чего бы то ни было становится невозможно, искажаются не просто картины мира, искажаются смыслы, цели и приоритеты. В таких условиях поведение людей поддается легкой манипуляции, фактически массовому информационному закабалению, нацеленному на укрепление власти и консервацию существующего общественного порядка. Информация превращается не просто в товар, а в продуктивную силу, без которой невозможен никакой успех. А экономическая война дополняется информационной. Так ленивые мозги, не способные к автономии, но зато вооруженные эффективными средствами доступа к информации (СМИ) и обмена ею, порождают массовое информационное общество, где формируется своеобразная социальная реальность.
Информационные волны и пузыри, нагнетаемые целенаправленными усилиями заинтересованных каналов и источников, способны затопить любую здравую мысль и заглушить любое сомнение. Многократно повторенное превращается в истину в силу повторяемости, а не обоснованности. Гравитационные неравномерности – основная причина любого суеверия, заблуждения, предрассудка, самосбывающегося пророчества и прочих флуктуаций общественного мнения, по своему накалу легко доходящих до массовых истерий. Ибо по неведомым, но зловредным законам, популярным, интересным и привлекающим внимание является все наиболее далекое от здравого смысла, а общественное мнение – мнением наиболее агрессивной и невежественной части общества. Соответственно, массовый вкус является самым непритязательным, массовые каналы – самыми примитивными, массовые кумиры – самыми пошлыми.
Впрочем, некоторые из этих законов настолько банальны, что видны невооруженным глазом, например, законы "оригинальности" и "среднего". Оригинальность – это всегда отличие от общепринятого, и чем оригинальность больше, тем отличие сильней, тем труднее ей попасть в фокус внимания, привлечь сторонников и сформировать информационную звезду, способную противостоять массе. "Закон среднего" – информационный аналог массового потребительского общества. Благодаря тому, что средних – в том числе в смысле умственных способностей – людей всегда больше, самым популярным становится все среднее. Что автоматически усиливает его популярность и влияние на всех остальных. Среднее навязывается в точности как любой массовый и потому дешевый продукт.
Описанной болезни особенно подвержена демократия, имитирующая свободу информации в ряду всех прочих своих "свобод". Сама демократическая форма политической власти основана на известности, на консолидации общественного сознания вокруг единого мнения. Если прочие формы власти использовали ложь в качестве дополнительного средства, для демократии информационное насилие, промывка мозгов, ложь, возведенная в квадрат – альфа и омега, ее экзистенциальная основа. Древняя, чисто насильственная власть недолго опиралась на кулаки. Подкрепленная авторитетом шаманов и колдунов, она стала воплощать в себе сакральное, но после того, как ореол святости был сорван прозревшим народом, надежной опорой власти, помимо силы и традиции, стала популярность. Умение манипулировать массой стало острой необходимостью. В результате, озабоченный популярностью политик становится слугой не только манипуляторов, но и манипулируемых, и вместо придания массе здравомыслия, он сам колеблется вместе с ней, усиливая амплитуду информационных волн. Политика, да и вся общественная жизнь, превращаются в балаган, чье истинное содержание мало кому понятно. Его действующие лица, помимо лиц и голосов – большие и малые звездочки: партийные и идеологические бренды, теории и концепции, штампы и лозунги, не говоря об обычных названиях и именах, давно потерявшие первоначальный смысл и обладающие лишь "силой свечения", соответственно распространению в мозгах. Консенсус образовывается вокруг того, что способно наиболее сильно привлечь внимание, генерируя требуемые эмоции и утверждаясь в качестве истины. Звездочки консолидируют общество, превращая его в большую, хоть и склочную семью раздираемую борьбой за "своих". Пока существует общественное мнение, завороженное свечением массовой информации, власть имеет в нем прочную, хотя и колеблющуюся опору. Демократическая власть – в некотором смысле его материализация, фокус, куда сходятся все разнонаправленные мнения, горнило, где сжимаются все расхождения в них, а также сингулярность, куда сворачивается любая свобода иметь мнение, отличное от других.
Власть общественного мнения – бессовестна, безответственна и безжалостна. От моральных погромов до молчаливого осуждения – эффекты безграничны. Но и без этих эксцессов сгустки информации способны убивать, просто влияя на выбор. Даже попытки добросовестного обращения к предмету, выбранного не своим умом, а вследствие шумихи, популярности или моды – это уже насилие. Это замыливание актуальной темы и наводнение ее низкокачественной информацией, помехи ее осмыслению, искажение приоритетов, отвлечение внимания и ресурсов с других направлений, сужение возможностей выбора у других. Под давлением искаженной информации человек теряет ориентацию. Под пресс ее веса попадают не только множество случайных людей, которые неоправданно меняют свое поведение и жизненные цели. Сильнее страдают те, кого чужое мнение и известность лишили шанса на успех. Это люди, занимающиеся тем же самым, в той же области. Иногда результат их труда оказывается обьективно не хуже, и даже лучше авторитетного, но обьективно оценить его пользу оказывается невозможно. Еще больше страдают люди, близкие великому человеку. Вся их жизнь невольно умаляется, а сами они оказываются просто придатками к своему известному родственнику или коллеге.
Массовая информация питающая массовые истерии неотделима от эмоционального насилия. Истерия – это вообще эмоции. Захват и удержание внимания требуют игры на ощущениях, скрытых комплексах, подавленных желаниях. Все, что культура и особенно этика, подавляет и ставит в рамки, машина массовой информации вытаскивает наружу и бесстыдно эксплуатирует. СМИ кормятся всем, что мешает свободе. Скандалы, происшествия, катастрофы – чем людям хуже, тем СМИ лучше. Всякое СМИ, выживающее в информационной войне, обречено на эмоциональное насилие. И его результат – тотальная ложь, подмена смысла жизни и незаметное превращение человека обратно в животное.
– Лечение
Если борьба с прочим насилием понятна, давно практикуется и требует не только этики, но и героической морали, то как быть с информационным? Как лечить информационную зависимость от других, от массы? Позвольте, друзья, в силу особой важности вопроса, посвятить ему пару слов. Я знаю, вам это не надо, это – для меня, чтобы не забывать.
Борьба со своим мозгом требует оперативного вмешательства. Главное лекарство – желание независимости, автономии. Надо не прятаться за спинами других, повторяя как попугай "от меня ничего не зависит" – потому что все вокруг зависит от независимых людей.
1) Прежде всего надо преодолеть пресс изобилия, отказаться от поглощения легкодоступной, броской массовой жвачки и сосредоточиться на поиске оригинального, его анализе и критике, осмыслении чужого мнения и выработке собственного. Узнав что-то новое, надо отвлечься и поразмыслить, оценить его. Надо думать хотя бы полчаса в день. Надо ограничить свою потребность в регулярных новостных дозах и навязанных эмоциях. Мозг должен получать информацию, когда он хочет работать с ней, а не когда он уснул и надо срочно заполнить пустоту в голове.
2) В пустой голове нет места здравому смыслу, там все занято банальностями и шаблонами. Вместо анализа там пиетет к авторитету, а вместо сомнения – слепая вера. А должно быть наоборот. Чем человек известней, а канал – популярней, тем сомнение сильней! Ведь не просто так он стал известным. Мозги должны не впадать в паралич при виде звездного пузыря, а активизироваться – ведь это насилие! Нельзя доверять и авторитетам, надо все проверять и переосмысливать самому. Надо отторгать кастовость, любую систему, настроенную на собственное увековечивание, отвергающую чужаков.
3) Надо преодолевать тягу к знакомому. Мозг должен искать необычные решения, нестандартные подходы. Не все, что не транслируется по массовым каналам, что не популярно у толпы, что кажется маргинальным и безумным, на самом деле такое. Новое, чем оно новее, тем необычнее, тем больше хочется над ним посмеяться и забыть. Знать – это моральный долг! Невежество рождает такую же ответственность как и знание, но вместе с ответственностью, оно рождает еще и вину. Закрывать глаза, проходить мимо, замалчивать, игнорировать – насилие.
4) Надо постоянной переоценивать ценности, непрерывно развиваться. Твердые убеждения бывают только у твердых идиотов, не способных преодолеть насилие прошлого – когда лучшие годы и масса сил отданы ошибочным идеалам. Принципы, вкусы и предпочтения необходимо обязательно периодически пересматривать.
5) Надо избегать эмоциональной информации. Эмоции – это внушение, включение внерассудочных механизмов. Вместо пищи мозга такая информация превращается в яд. Договор невозможен пока публичное пространство не освободится от мусора, истерий и лжи, намеренного привлечения внимания, высасывания новостей из пальца, приоритетного продвижения личного имиджа, разжевывания и опошления идей, замены материала для размышления патокой для удовольствия, обращения к чувствам, а не логике. Публичное информационное пространство будет, в силу формальности, текстовым и вербальным, а не образным и визуальным, подменяющим смысл и суть дела зрелищностью. Обилие видео и картинок – первый знак пошлости. Важны язык и форма изложения – ясные и краткие. Творчество в слово- и смысло-образовании, усложненное наукообразие, старые идеи на новый лад, обилие имен и ссылок на авторитеты – признак не только пустоты в голове, но и психологического давления, манипуляции.
Как видите, много чего надо. Обьективность нелегка. Этичное, независимое мышление требует равно критического отношения ко всему – и к устоявшимся взглядам, и к коллективному мнению, и к маргинальным идеям. Оно требует освобождения от власти традиции, культа великого имени или стремления к оригинальности. Вот я в принципе не считаю себя этичным, а тем более обьективным человеком, но честно стремлюсь рассматривать идеи, а не авторов. Может отсюда у меня и склероз? Я даже свое имя забываю, вот до чего дошло!