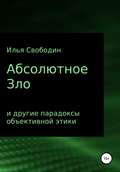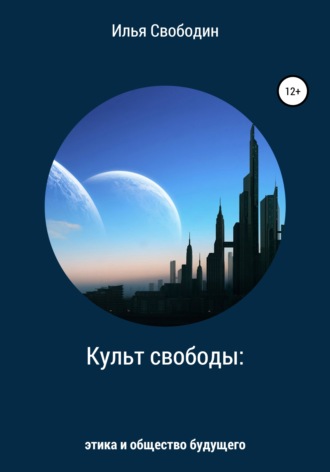
Илья Свободин
Культ свободы: этика и общество будущего
7 Самоограничение
– Смысл идеи договора
С этих вопросов начинается существование человека и работа его разума. Что такое человек, почему надо быть этичным, зачем я живу и т.д. и т.п. Вопросы эти, независимо от того, есть на них ответы или нет, неотделимы от морального долга, норм поведения и в конечном итоге от самоограничения. Ибо любая "правильность" возможна только путем ограничения детерминизма и путь этот всегда начинается с самого себя. Но если ответов нет, даже человек обладающий разумом, будет дополнительно напрасно мучиться, стараясь ограничивать свою биологическую сущность и слепо следовать требовательным, но необьяснимым нормам. А этика обьективна – ей нельзя не следовать, даже если периодически получается неосознанно впадать обратно в детерминизм. Просто вместо договора пока используется то, что сложилось исторически само собой. Вот чтобы покончить со слепотой и мучениями, чтобы эту неосознанность выявить, а правильность сделать простой и понятной, необходима идея общего, явного социального договора. Разуму требуются идеи, помогающие понять и обьяснить почему, зачем и для чего. Так намного легче жить и проще стать человеком. Знания – не самоцель, они средство достижения этой простой и одновременно великой цели.
В принципе, самоограничение привычнее именовать "волей", поскольку насилие над своей природой требует немало сил, которые как раз и принято ассоциировать с силой воли. Я предпочитаю "самоограничение", поскольку воля уж слишком примелькалась в сочетании с произволом, своеволием и прочим волюнтаризмом.
Понимание создает из самоограничения реальный моральный механизм. Самоограничение, следование норме – это запрет, налагаемый на самого себя, первый признак человека. Но самоограничение и следование норме – не одно и то же. Следовать можно бездумно – из страха, по привычке, подражая окружающим. Слепое самоограничение – все тот же детерминизм: это или покорность и безволие, превращающее нормы в досадные помехи счастью, или фанатизм, твердолобость и тупость, превращающие разум в машину, а нормы – в догматы. Которые, в итоге, неизбежно нарушаются, ибо их причина неизвестна, а смысл неясен. Разумный человек следует нормам осмысленно – понимая и их временность, и их условность. И при этом – беспрекословно. Понимание порождает ответственность, самоограничение становится не смутной интуитивной потребностью, а ясным и твердым долженствованием.
Идея договора не только позволяет осознать суть этики и заодно смысл жизни, но и помогает отличить людей от тех, кто только учится или делает вид. Люди без этики проявляются по отношению к его необходимости. Никто не может в трезвом уме отказаться, заявив: "это ваша придуманная, фальшивая мораль, мы будем жить по своей – истинной, богом-данной, единственно-верной и научно-обоснованной". Ссылки на "свободу вероисповедания", "свободу совести", "свободу науки" или свободу без дополнения звучат особенно смешно – как детская логика "хорошо то, что приятно". Ибо отказ от договора означает угрозу и, следовательно, насилие. Это собственно и есть его определение: насильственное действие – то, которое затрагивает других и на которое не получено одобрения в результате договора. Наивно полагать, что чья-то "истинная" мораль не затрагивает ничего не ведающих посторонних. Только договор может определить, что допустимо, а что – нет.
Без договора самоограничение не может работать. До какой степени необходимо и возможно ограничивать свою волю, чтобы самоограничение не превратилось в самоотречение, этика в мораль, а жизнь в смерть? Неочевидность ответа позволяет некоторым учащимся отождествлять самоограничение со смирением, покорностью и прочей борьбой с собственной порочной натурой. А другим – навязывать свои желания окружающим. Этика требует одинакового самоограничения от всех. Правда, одинаковое оно только снаружи. Поскольку темперамент у всех разный, то и степень контроля – тоже. Равенства опять не получается. Только таинство договора позволяет решить задачу. Самоограничение – в высшей степени коллективный механизм. Может быть поэтому оно пока и не стало руководящим принципом поведения. Пока совесть подчищает хвосты за его промахи. А когда эти промахи становятся слишком явными, совести помогает нетерпимость окружающих, которая является обратной стороной самоограничения.
– О звании (и определении) человека
Договор переводит представителей вида гомо-сапиенс из дикого, первобытного и неразумного состояния в человеческое. Противники договора заслуживают такого же отношения как безвольные животные или запрограммированные роботы. Они – часть окружающей среды. Они – вне свободного общества и не касаются нас, пока они не кусаются и не царапаются. Принуждать к договору нелепо. К нему стремятся все нормальные люди. От договора нельзя отмахнуться, из него нельзя выйти, о нем нельзя забыть.
Вспомним наши принципы организации общества и сравним человека и камень. Если камень подбросить вверх – он упадет. Из этого наблюдения мы можем сделать вывод, что камень "должен" упасть, если его подбросить. Быть камнем означает подчиняться законам камня. Точно так же мы можем поступить и с человеком, правда не подбрасывая его, а прикладывая к нему эти принципы. Из них следует, что человек должен ограничивать свою волю, чтобы не мешать другим. Если же человек не ограничивает себя, то как и камень, не падающий на землю, он рискует улететь в далекий космос. Но конечно сам собой, друзья мои, мы же не можем принуждать к договору, правильно?
"Долженствование" камня – следствие детерминизма. Да, человеческий "детерминизм" – особенный. Человек может иметь свободу воли, но никогда не пользоваться ею – например, если он вырос в лесу. Но гораздо чаще мы наблюдаем нарушение второго принципа. Человек навязывает свою волю другим, в том числе морально. Почему? А почему бы и нет? Универсальность этики сродни универсальности логики. Можно мыслить логично и радоваться свету истины, а можно заблуждаться и жить во тьме предрассудков. Так и тут. Можно вести себя этично и быть свободным, а можно своевольничать и жить в постоянном страхе. Что же делать, если человек принципиально отрицает этику? Выход кроется в понятии "определения". Если мы определим камень, как нечто падающее вниз, если это подбросить, является ли камнем то, что никогда не было подброшено? Договор – это тест. Так давайте подбросим!
Но вдруг человек оказался по обьективным причинам не способен на договор? Скажем, некто лишил другого свободы воли. Бывает? Безусловно. Человека можно лишить физической возможности двигаться, есть, пить. Его можно превратить в робота, выполняющего чужие команды. Можно напичкать таблетками до состояния полной невменяемости. Или промыть мозги и запутать до степени абсолютного послушания. Короче – низвести до состояния камня. Но можем ли мы после этого положа руку на сердце сказать, что это – человек? Только честно? А тот, кто его довел до такого состояния? Чем он отличается от, скажем, волка, который навязывает овце свою волчью волю? Тем, что сыт, причесан и неплохо разбирается в философии? Но какое это имеет отношение к человеку?!
Потому что каким бы иным не казался нам детерминизм свободы – он по сути такой же. Быть человеком можно только если подчиняться "законам" человека. Бытие = долженствование. Проще говоря, нельзя просто "быть" человеком – родиться и жить, следуя законам детерминизма, внешнему принуждению, привычкам или традициям. Быть человеком значит хотеть, стараться, стремиться им быть. Аналогично, свобода появляется только когда к ней стремятся, добро – это то к чему должно стремиться и т.д. Человек, выбирающий насилие – не человек, потому что он ничего не выбирает. Насилие не выбирают, насилию подчиняются.
Цель "быть человеком" не включает выходных, праздников или отпусков. От выбора нельзя уклониться. Даже когда его не хочется делать и кажется, что его можно избежать, выбор все равно происходит, только теперь сам собой. Его делает кто-то или что-то другое, а человек превращается в обьект выбора, теряет статус субьекта и одновременно – человека. Потому что уклонение от выбора это тоже выбор. И насилие не спрашивает человека – знает ли он, соображает ли что делает? Детерминизм непреклонен, поэтому знание о самоограничении так же императивно, как и само самоограничение. Уклониться нельзя не только от выбора, но и от знания о нем. Что ставит вопрос о книге совсем в иную плоскость, не так ли друзья?
Возможно, наши принципы не нормативны по форме. Но это еще лучше, потому что они нормативны по содержанию. Они определяют, что такое человек. Высказывание "человек – существо, которое думает" по содержанию эквивалентно "человек должен думать". Не "может", а именно "должен" – кто что может, неизвестно. А "человек имеет свободу воли" эквивалентно "человек должен быть этичен". Таким образом, мы можем переписать наши принципы организации общества свободных существ людей гораздо яснее:
1) Человек – тот, кто сам ограничивает свою волю.
2) Общество – совокупность людей, согласующих ограничение воли каждого.
Все, что не соответствует этим определениям, следует называть иными терминами, например, "гомо-сапиенс", как придумали называть современного обитателя планеты не лишенные юмора ученые, или "гоминид". Ведь мораль, как навязанные эволюцией стадные нормы взаимопомощи, присуща уже обезьянам, ученые в этом неоднократно убеждались. Все, выживающие коллективно, так или иначе следуют стадной "морали". Но пока ученые не смогли обнаружить ни одного животного, способного стать свободным. Этика оказалась присуща только людям. И их уже обнаружили.
Правда? Честно говоря, друзья, мне трудно углубляться в этот вопрос. Однако у меня нет никаких сомнений, что любая разумная цивилизация использует обьективную этику как свою нормативную основу. И это, кстати, было бы самым важным, что следовало бы позаимствовать землянам, но почему-то я думаю, их, если что, больше заинтересуют новые орудия убийства. Так или иначе, поскольку у нас нет возможности исследовать инопланетян, оставим их в покое.
– Зачем мы живем?
Но почему самоограничение – т.е. всего лишь ограничение своих желаний и потребностей – делает нас людьми? А как же обьективное добро, создание возможностей? Как из ограничений появляется уникальность личности, труд, творчество и безграничный прогресс? Какая тут связь?
Ну, во-1-х, напрямую все это из самоограничения не вытекает, вытекает свобода, а уж из нее вытекают всяческие, как мы знаем, чудеса. Но, опять таки, вытекают не гарантировано. А во-2-х, самоограничение – это только начало. Тут уместно будет разобраться, как и к чему свобода нас принуждает. Свобода начинается с того, что мы ограничиваем своеволие: страсти, желания, инстинкты, потребности и т.п. – все то, что идет прямиком из нашей животной природы, потому иначе этому добру идти неоткуда. Так мы боремся со своей природой и научившись более-менее жить в мире, договорившись, мы обнаруживаем, что источники многих наших желаний лежат, на самом деле, снаружи. Так, страх идет прямиком от внешней угрозы, холод – от того, что выпал снег, голод – что рядом не нашлось жареного гуся и т.д. Ибо мир мы познаем, в основном, опираясь на наши органы чувств. Конечно, можно сколько угодно бороться со страхом и холодом сидя на месте и ничего не предпринимая, но такое самоограничение может легко ограничить время жизни, а это вовсе не то что нам бы хотелось. И потому естественным продолжением самоограничения, а точнее – более эффективным, становится ограничение внешнего насилия, изменение внешних условий. Как это связано? Изменение условий позволяет нам лучше контролировать наши желания. И устранение угрозы, и теплое жилище – в конечном итоге всего лишь средства сделать так, чтобы мы вели себя прилично, чтобы не убивали все, что кажется опасным, не дрались изза места у огня или куска мяса. Получается, что покорение природы – не цель сама по себе, а лишь способ помочь договору! Ведь согласитесь друзья, куда легче всем вместе договориться в тепле и сообща убить мамонта, чем сидеть голодными холодными и ждать кто первый прыгнет на соседа, чтобы его сьесть? Так, необходимость самоограничения, налагаемая на нас свободой, делает необходимым улучшение мира. Ибо мир, где нет нужды себя слишком сильно ограничивать – это несомненно лучший мир: и свободный, и полный всевозможных возможностей.
Но для изменения мира недостаточно одной осознанной необходимости. Во-1-х, надо придумать как его изменить. Мы ставим себе задачи и пытаемся их решить, обсуждаем и оцениваем альтернативы, а также отдаем должное тем, кто оказался успешен в придумывании решений – дабы стимулировать их дальше. Во-2-х, решения необходимо не только творить, но и претворять. И тут уже мы трудимся, сотрудничаем, опять обсуждая и оценивая результаты, и конечно отдавая должное наиболее успешным. Все эти задачи изменения мира воспитывают в нас многие и многие качества, начиная от трудолюбия и заканчивая ленью, которая ищет как бы сделать так, чтобы менять мир с наименьшими затратами труда.
Вот такая несколько упрощенная схема приоткрывает завесу над тем процессом, который лежит где-то в глубинах мироздания и который разворачивает крохотное самоограничение, что приютилось в душе каждого свободного индивида, в огромную созидательную силу, придающую не только смысл существованию всех и каждого, но и увлекающую мир в неведомые дали. Процессом, который, как видно, полностью основан на благе договора и который безусловно заслуживает в дальнейшем значительно более подробного рассмотрения.
– Зачем нужна этика?
Понять себя разуму непросто. Если глубинные его механизмы, такие как совесть и верность слову, вроде бы не вызывают сомнений, то чисто умственные выводы постоянно нуждаются в подтверждении. Разуму свойственно сомневаться – так он работает. В этом проблема с истинным самоограничением – оно умственно. Какой-то там самоконтроль, подчинение каким-то там нормам, бесполезное ограничение своей воли – это все не имеет никакого естественного, биологического основания. Разум нуждается в четкой, ясной и убедительной логике. Увы, свобода не дарит нам такого счастья.
Требования этики не обьясняют свою цель, если только не иметь в виду очевидную цель – быть человеком. Не выжить, а именно быть. Камень становится камнем потому, что иначе не может. Человек становится человеком потому, что выбирает им быть. В этом противоречии – наличии требования к человеку и отсутствием ясной цели этого требования – заключается загадка этики, до сих пор терзающая наши лучшие умы. Зачем? Почему? Для чего? Этика не дает ответ. Но предлагает выбрать его самому. Не дает цель. Но намекает, что сама эта возможность – и есть цель. Никакой другой осязаемой, понятной и заманчивой цели – стабильного социального порядка, эффективного сотрудничества или царства божьего на земле – у этики нет и быть не может, поскольку такая цель противоречит самому принципу свободы. А потому никакое навязывание другим правильных целей или "истинной" морали недопустимо. Навязывая все это, человек вызывает ответное насилие и его бытие становится детерминировано, почти как у камня.
Поэтому задача на самом деле не найти этике рациональное обоснование, не открыть ее закономерную причину, не придумать ей ясную цель и практический смысл, а научиться следовать ей без этого всего. Это трудно, потому что разум – это понимание, а абстракция свободы совершенно, абсолютно непонятна. В результате разум то и дело тестирует ее необходимость и ее границы. И в этом ключе можно рассматривать всю историю общества – как историю практического и весьма кровавого выявления и ограничения способов навязывания своей воли. С самого момента появления коллектива-организма культурные нормы были ни чем иным, как правилами самоограничения, накладываемые человеком на самого себя (хотя и посредством других), с тем, чтобы сделать возможным взаимное сосуществование. Поиск границ того, что можно и чего нельзя – это одновременно поиск самоопределения, поиск того, что такое человек и что такое общество. И мы уже почти нашли ответ.
8 Терпимость и деликатность
У нетерпимости к нарушениям обьективной этики есть младшая сестренка – терпимость к чему-то иному, более субьективному. Все мы делим одну планету и она пока еще достаточно большая, чтобы удивлять нас своим разнообразием. Это разнообразие – вся остальная часть культуры, за вычетом ее универсального этического ядра – норм, ограничивающих взаимное насилие и единых для всех. Необьективная оболочка культуры содержит помимо прочего исторически сложившиеся обычаи и традиции, нормы навязанные силой слова и меча, а также эстетические порождения духа. Несмотря на общепринятое отождествление всего этого с моралью и нравственностью, это не более чем эстетика – в силу субьективности, преходящести и изменчивости. Одним нравится носить штаны на поясе, другим – на коленях. Одни предпочитают молиться глядя на восток, другие – на запад. Одни любят представителей своего пола, другие – никакого. Да мало ли что может прийти людям в голову? О вкусах не спорят. Если не считать того, что изза этих самых вкусов они только и убивают друг друга.
И вот тут приходит пора терпимости, эмоциональной сдержанности. Чужие вкусы могут раздражать. Чужие манеры – бесить. Чужая глупость – доводить до инфаркта. Люди вообще могут вызывать всякие эмоции. Иной раз, признаюсь друзья, мне тоже приходила в голову крамольная мысль взорвать эту планету. И хотя у меня было достаточно подобных мыслей, планета цела, что доказывает силу терпимости и самоограничения. Разумеется, сразу взрывать планету – это перебор. Большинство людей ограничивается тем, что пытается исправить чужой вкус, улучшить его и вообще, так сказать, сделать других культурнее и цивилизованнее. Иногда против их воли, что не может не огорчать. Особенно, когда при этом особо культурные обьединяются вокруг своих субьективных предпочтений против всех остальных – людей второго сорта. Но вкус – дело сугубо индивидуальное, даже если он связан не с предметами искусства, а с поведением людей. До тех пор, пока поведение одних не оборачивается насилием других, никому не должно быть до этого поведения никакого дела. Публичное пространство – область публичной этики, а личное никого не касается. Надо всегда помнить, что все эти люди – участники договора и требуют нейтральности и обьективности, которые без сдержанности и железных нервов, не удадутся.
Надо также помнить, что обьективная этика не требует и любить всех подряд. Терпимость – родственница самоограничения, а не вымученной любви. Этичный человек просто не мешает другим жить и радоваться жизни. Что относится и к обратной стороне терпимости – не к навязыванию своих норм, а к нарушению чужих. Чужие нормы можно нарушать многообразно. Можно по незнанию и чуть-чуть, а можно нарочито и вызывающе. Можно из благих побуждений, например "открыть глаза", а можно из не очень, например прославиться творческой оригинальностью или спровоцировать массовую резню. Этичный человек не станет испытывать терпимость других. Не потому что он хочет жить, а потому что нарушение норм – почти то же самое насилие, что и их навязывание. Почему "почти"? Потому что эстетических норм может быть бесконечно много. Их уже чересчур много. Практически невозможно ничего сделать не нарушив что-то где-то. И будет еще больше, потому что творчество – хоть художественное, хоть нормативное – часть человеческой природы. Соответственно, чем больше у человека художественное право творить, тем меньше – моральное право навязывать. В конце концов, самоограничение – ограничение себя, а не другого.
Тем важнее обьективная этика и отказ от всякого навязывания – норм, вкуса, любви или чего-то бы то ни было. Но признаемся себе – возможно ли это? Творческое самовыражение всегда направлено на других – перед кем еще самовыражаться? Беда, однако, в том, что посторонние, вообще говоря, совершенно не горят желанием наблюдать подобные представления. Некоторым творческим людям бывает мало целого неба для творчества, и поэтому мы должны тут четко сказать – нет! Самовыражение должно начинаться в личной сфере и продолжаться в публичную лишь по мере благожелательного восприятия его результатов. Пусть культурные нормы формируются как бы сами собой – следуя моде, слухам или просто случаю. И пусть люди бравируют своим вкусом и стараются переплюнуть друг друга в поисках идентичности, самовыражения или самоутверждения – но только в рамках того добровольного лично-коллективного пространства, которое их окружает. Ну, а что касается нас, посторонних – надо во всем видеть положительную сторону. Главное, чтобы новым нормам следовали по своему желанию. Эта добровольность – обьективная этика и не подлежит никакому компромиссу, несмотря на то, что она сама – некий компромисс. Этические механизмы опять направлены на поиск границы – в этот раз границы между обьективным и субьективным, между этикой и эстетикой, между личным и общественным, между терпимостью и терпением. Обьективная этика не только требует самоограничения от человека, но и, так сказать, сама ограничивает себя, свою нормативность.
Баланс ищется в случае взаимного культурного насилия опираясь также на деликатность – тактичность в устранении проблем. Это что-то типа зазора, допуска в свою сторону от границы – чтобы был запас прочности, пространство для маневра, резерв для компромисса. Так мне кажется, по крайней мере. Пока кто-то нарушает что-то по незнанию, всегда можно просветить человека и договориться. Когда кто-то умышленно действует на нервы, раз другой можно и проигнорировать, или можно выяснить причину эстетической агрессии и попытаться устранить ее. Если люди дошли до полной невменяемости и насильственно навязывают другим свое понимание прекрасного и безобразного, или смешного и грустного, или высокого и низкого, или вообще чего бы то ни было, надо обьяснить и доказать. Или помочь. Или еще как-то. Договор – самое лучшее средство. Ей богу не стоит сразу наказывать за то, что человек подтянул до пояса штаны и кинул мусор прямо в урну. И только если одни долго и упорно провоцируют других, находясь на заведомо недоговорных позициях, идущих вразрез со всем обьективным – например публично делают нечто, от чего тошнит, пора убива серьезно задуматься. Но будем надеяться до такого все же не дойдет. С животными мы уже как-то научились обращаться.