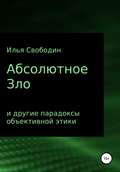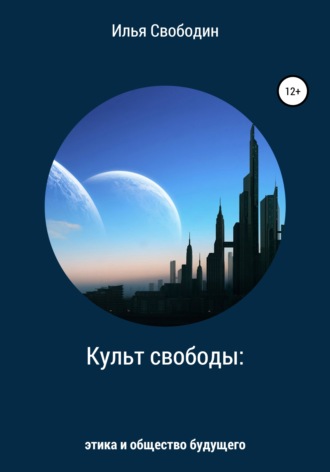
Илья Свободин
Культ свободы: этика и общество будущего
5 Конфликты морали и этики
– Насилие
Само сосуществование морали и этики в одном человеке приводит к их конфликтам, которые только усугубляются описанной противоречивостью морали. Различаясь в понимании добра, две сестры остаются верны себе и в понимании зла. Для этики, зло – распознанное и осознанное насилие, для морали – все, что причиняет ущерб близким. В этом источник уже знакомого нам конфликта "насильственная борьба – мирное просвещение". Этика ищет и требует не переходить черту, где должна остановиться мораль в своей ненависти к врагу, оставить поверженного, раскаявшегося и наказанного врага в покое и признать в нем абсолютно такого же человека – до тех пор, пока он не нарушит договор. Мораль жаждет конкретного, ощутимого добра, а значит – победы над злом, полной и безоговорочной. Для нее насилие не проблема. Было бы добро, ради которого оно необходимо.
Чрезмерное насилие к врагу – в конечном итоге следствие искажений морального поля, которые вызывают необходимость дополнительных жертв. Поэтому хоть она и конфликтует с моралью, этика на самом деле помогает ей, она устраняет насилие, искривляющее поле. Этический идеал – естественная форма морального поля, отражающая свободу человека. Никаких чрезмерных жертв и, соответственно, насилия к их виновникам, такое поле вызывать не должно.
Однако мораль способна на насилие и не только вследствие искривлений поля. Иногда, ради счастья близких необходимо уничтожить зло в них самих – будь то пагубные привычки, недостатки характера или неправильные желания. Этика, разумеется, противится этому как может. Правда сил тут у нее немного. В личных отношениях этика хоть и присутствует, но на заднем плане. О ней обычно вспоминают в моменты охлаждения отношений или в излишне конфликтных ситуациях, когда она приходит на помощь в виде твердой основы, на которую всегда можно опереться. Тут то и выясняется, что даже в семье правит бал не только любовь, но и семейная справедливость, требующая равного деления этой любви. И не только забота, но и право каждого на собственные вредные желания, свободные от заботливой опеки. Не говоря о праве на свободу от всякого "личного" насилия.
Подобное семейное или дружеское насилие, вызванное эгоизмом, когда любовью других пользуются словно оружием против них самих, всегда ощущается как перекос в отношениях. Аналогично, бывают ситуации, когда "трудно отказать" мало знакомому человеку, пользующемуся знакомством для собственной выгоды. Сама потребность в балансе личных отношений напоминает нам о том, что без этики, и лежащей в ее основе свободы, не может быть даже обыкновенной человеческой морали. И хотя конфликт в данном случае не между моралью и этикой, а скорее между эгоизмом и ими обоими, полезно упомянуть его дабы лучше понимать существо дела.
Описанная идиллия может создать превратное впечатление, что мораль и этика в конце концов поладят. Перечисленные конфликты, действительно, наиболее простые и в принципе решаемые, ведь без насилия вполне можно обойтись. Увы, они не единственные. Во-1-х, нельзя не вспомнить о принципиальном противоречии между моралью и этикой. Сама основа морали – жертва – неприемлема для этики, требующей равного учета своих и чужих интересов. А отсюда недалеко и до во-2-х.
– Когда побеждает мораль
Исток второго, более актуального морально-этического конфликта – сложность равного учета интересов, которая проявляется уже в самой морали, еще до всякой этики. В наше время, когда посторонние исчезают из поля морального зрения, конфликт интересов, за редким исключением публичных должностей, почти не ощущается – предпочтение близких в ущерб посторонним выглядит как-то очень естественно. Но если в помощи, расположении или благодеянии предпочитать своих естественно, то нанесение в этих целях ущерба другим – уже переход за этическую грань. Конечно, в чрезвычайных ситуациях требовать от людей равного отношения к близким и чужим независимо ни от чего – аморально. Однако в нормальной, обычной жизни это вполне возможно. Тем не менее мораль, равно как ценность №2, имеет явный приоритет над этикой и ценностью №3. Психология "вся жизнь – борьба" не чужда не только обычным гражданам и представителям власти, но и прочим публичным и деловым фигурам, к чему у нас еще будет повод вернуться. Правда и тут уже появилась робкая надежда – клановая, классовая, этническая и прочая групповая мораль уже повсеместно распознается и местами даже осуждается. Так что весь этот пережиток племенного альтруизма обязательно исчезнет из нашей жизни.
На мельницу племенной морали льет воду конформизм – в том случае, когда интересы коллектива приходят в противоречие с этикой. Коллектив в этом случае играет роль расширенной семьи и давление морали совпадает с естественным желанием не выделяться, найти там свое место и не потерять его. Еще один подобный суррогат семьи – победители, которых "не судят". Корни этой снисходительности растут из все той же психологии преклонения перед сильными и почитания известных, которая отождествляет их с близкими, достойными родственного альтруизма.
Важный источник конфликтов морали и этики – сложность конкретизации общего блага, что может вызвать пренебрежение договором и победу вопиющей субьективности. Мораль в данном случае питает эту субьективность – человек считает важным и приоритетным то, что нравится, любится и зовет к жертве лично его. Те же родные березки, к примеру. При этом его личный на самом деле интерес кажется ему высоко моральным – он же не для себя, для других, для детей! Правильность личной конкретизации ОБ в подобном случае "удостоверяется" не рыночным договором, а насилием к несогласным.
Особенно острым может быть конфликт и последующая победа морали если дело касается борьбы за свободу и справедливость, которая ставит под удар близких и зависимых. Например надо открыто выступить в защиту невиновного, поставить подпись и т.п., но в результате пострадает не только подписавший, но и вся его семья. На подобном конфликте основано понятие "коллективной ответственности". Обратная ситуация – если подписывающий делает в остальное время важное дело ради той же свободы, но своей подписью в защиту невиновного ставит это дело под удар. Тут спасение конкретного человека оказывается важнее дел во имя абстракций.
– Когда побеждает этика
Если моралисты опираются на жертвенную мораль в попытке решить проблемы общества, то идеологи пытаются решить эти проблемы несмотря на мораль. Вместо нее они предпочитают "научно-обоснованную" этику. Ожидаемо, успехи пропагандистов уступают успехам моралистов. Яркий, а может и единственный широко известный пример их успеха так впечатлил несознательных сограждан, что имя Великого Пионер-героя стало навсегда сочетаться не с верностью идеалам, а с предательством близких. Но возможно ли общество, где люди настолько этичны, что всегда стоят на стороне общего блага? Не останется ли необходимость, а лучше потребность, свидетельствовать в суде против родственников лишь утопической мечтой?
Однако некоторые признаки зарождающейся эквивалентности можно найти уже в наше время. В конце концов истинное общее благо интуитивно ощущается каждым из нас без всяких идеологов. Особенно хорошо оно ощущается в случае физического насилия, уже осознанного и отвергнутого общественным разумом. Например, если грабеж банка у кого-то еще может вызвать приступы праведного удовлетворения, особенно, если таковой был сделан с целью помощи несчастным, то уже убиение в процессе грабежа невинного банковского сторожа – точно ни у кого. И в этой связи, что можно сказать о крайних случаях, когда преступники настолько позорят своих родных, что те просто перестают считать их родными? Можно предположить, что степень неэтичности (т.е. в данном случае ужас физического насилия) пока необходимо принимать в расчет, когда мы хотим выяснить, что имеет приоритет – мораль или этика. И если эта черта найдена, что мешает нам помечтать о будущем, где она сместится в сторону морали до самого конца? Что покрывать даже самые мелкие проступки даже самых близких станет этически неприемлемо?
Так что неизбежная, хоть и крайне отдаленная победа этики над моралью – скорее всего дело времени. ОЭ лежит в основе поведения свободного человека, и хотя в личной сфере поверх этики наслаивается мораль, она не может полностью задавить ее своим весом – даже долг перед близкими не избегает вопросов оценки и выбора. Сама противоречивая мораль прилагает к этому руку. А значит, этику, которая требует справедливо и обьективно оценивать поступки всех без исключения, обойти не удастся.
– Иллюстрация
Уступая порочной страсти к рисункам, я решился опять прибегнуть к графике, дабы проиллюстрировать конфликт интересов (рис. 4.1). По аналогии с предыдущими рисунками, где вертикальная ось посвящена альтруизму/эгоизму, тут она его показывает в виде величины ущерба/выгоды близких. Горизонтальная показывает ущерб/выгоду посторонних. Графики соответствуют разным типам поведения, они изображают насколько интересами посторонних пренебрегают (или учитывают) в стремлении удовлетворить интересы близких.

В серой области располагаются моралисты и идеологи, требующие жертвовать всем ради посторонних. Графиков там нет, т.к. эти фантазии имеют мало общего с геометрией. Рассмотрим более реалистичные варианты. Обьективно этичное поведение описывается прямой А – интересы своих и чужих всегда точно совпадают. Излом ее в положение В означает предпочтение своих групповых интересов в отношении как выгод, так и потерь. Чем оно сильнее – тем круче ломается график. В конце концов ущерб другим людям становится возможен уже и ради выгоды своих. Тогда ломаная В переходит в положение С – это уже отьявленная групповая мораль. Чем луч С ближе к горизонтальной оси – тем поведение эгоистичней, даже криминальней.
– Чрезвычайные ситуации
Самый острый конфликт между моралью и этикой возникает в катастрофических ситуациях. Героическая мораль еще более субьективна и обычно пренебрегает любыми моральными учениями. (Человек, например, может помочь тому, кому в обычное время не подал бы и руки.) Воображаемое поведение изображено кривой D. Если возникает вопрос – спасать одного любимого или пятерых посторонних, мотивы приходят в жестокий конфликт, острота которого отражается градиентом перелома – до какого-то момента человек еще старается быть обьективным, но когда вопрос встает ребром, думать и считать уже некогда. Чем больше необходимая жертва, тем легче человек использует посторонних и пренебрегает их интересами.
Впрочем, в таких ситуациях этика едва ли уместна. Можно предположить, что если бы мы бездумно распространили ОЭ на катастрофические ситуация, она бы там так или иначе не сработала, ибо с ее точки зрения жизнь одного так же важна как и жизни миллиона. ОЭ не одобряет вред никому и никак. Поэтому, в катастрофических ситуациях о этике можно говорить только условно. С другой стороны, в чрезвычайных ситуациях уже и сама мораль подавляется инстинктами. Если просто в обычной ситуации долг – еще вопрос выбора, обсуждения и справедливости, то чем серьезней ситуация, тем меньше она оставляет человеку пространства для маневра.
Тогда например, если человек не может пожертвовать собой из страха, можно говорить о глубоком внутреннем конфликте. Но конфликт тут уже не между этикой и моралью, а между инстинктами и мы поэтому на нем не станем задерживаться.
6 Публичные отношения
– Формальность и поле
Мы уже столько времени обсуждаем обьективную этику, что боюсь, мне уже нечего добавить. Но еще больше боюсь, друзья, что это меня не остановит. Поэтому продолжим. По контрасту с личной сферой, хотелось бы еще раз подчеркнуть полное отсутствие флуктуаций каких-то моральных полей. Человек в публичных отношениях – источник не личных эмоций, а возможностей и пользы для других, которые он предоставляет на основе твердого соблюдения законных интересов собственной персоны, как бесконечно малой части бесконечно большого общества.
В отличие от иррациональной жертвы, интересы и польза, не говоря о эквивалентности обмена, требуют максимально точного расчета и оценки. Поэтому в публичной сфере правильно не только то, что мы чувствуем правильным, но то, что мы считаем правильным, что обсуждено, оценено и принято в качестве нормы. С точки зрения ценностей, публичная сфера насквозь экономична в том смысле, что расчет и оценка требуют не только норм, но и независимого ценностного эквивалента – денег. Обменные ценности измеряются им и приобретают количественные значения – цены, и чем они обьективнее, тем ближе идеал справедливого обмена. Строгая формальность процедуры измерения и обмена позволяет избавиться от случайности и субьективности – ценность становится возможно отследить, а отношения сбалансировать, чисто количественно. Цена превращается в формальную договорную норму, фиксирующую правильность любого экономического действия.
Но абстрагирование партнеров, проявляющееся в формальности, вовсе не означает равнодушия, а тем более враждебности! Напротив. Истинная, кристально-чистая формальность возможна только на основе абсолютного доверия, а то – на основе полной духовной общности и моральной эквивалентности. Вместо личного морального поля причудливо кривой формы (вспомним рис. 1.7) появляется одно общее на всех – идеально ровное и гладкое (АВ на рис. 1.13), а вместо изоляции и отчужденности, человек чувствует причастность к нему и ко всем остальным. Этого требует нейтральность. Этого требует эквивалентный обмен. Этого требует свобода – она одна на всех, она и внутри, и во вне. Личные проблемы постороннего не волнуют, но нарушение публичных формальных норм, общественное насилие – забота каждого, а значит максимальное абстрагирование от всего личного и материального невозможно без внутреннего единства, всеобщей этической взаимосвязи. Если разрывается эта этическая связь, люди отчуждаются, им становится безразлично вообще все коллективное и социальное, они превращаются в полных эгоистов и индивидуалистов. Они ожесточаются, становятся одиноки и умирают, бессмысленно борясь за свои животные потребности. Но свободный, этичный человек не одинок, он знает и чувствует, что вокруг него множество таких же, думающих и чувствующих так же – хоть и не знакомых лично. Примерно, как мы чувствуем друг друга, друзья мои.
Таким образом, превращение партнера в абстракцию означает превращение его не в пустое место, а в нравственную единицу, в часть единого этического поля, выраженного формальными нормами. Можно сказать, что абстракция человека – это его концентрированная нравственная сущность, его достоинство. У него нет врагов, никто не пытается его унизить, обмануть или как-то воспользоваться им. Все стремятся учесть его интересы. Справедливая цена (с ударением на первом слове) – это не просто калькуляция. Это возвышенно, душевно и достойно человека.
– Эмоции
Поэтому эмоции тоже не исчезают, просто их источник теперь иной.
Обмениваясь посредством денег, люди стремятся к балансу, который в идеале должен быть абсолютно точным. Равный обмен отражает моральное равенство и приносит не только пользу, но – почти как в личной сфере – радость, которая никак не связана с выгодой сделки. Эта мимолетная эмоция может породить ощущение персонализации экономического обмена. Однако, на мой взгляд, подобная радость сродни чувству общности, которое возникает, когда ощущаешь неожиданное единение с незнакомыми людьми. Разве не приятно бывает играть с соперником, который строго следует правилам? У такого даже выигрывать не хочется! Так и тут. Радость справедливого обмена – это радость ощущения себя человеком среди таких же людей, когда никто ни с кем не воюет и все счастливы тем, что вокруг – порядочные люди. Это радость свободы.
В наше время, когда публичная этика слаба, а насилие велико, большинство людей не придают значения этим ощущениям, предпочитая сосредотачиваться на радости от выгодной сделки. В условиях нынешнего рынка ощущению единения попросту неоткуда взяться. Вероятно, сама идея эквивалентности может показаться большинству современников чем-то чужеродным – таким же, как понятие частной собственности какому-нибудь пещерному альтруисту, попади он в современность.
Однако в глубине души она присутствует. При мелких, частных и равновеликих покупках (т.е. с равновеликими партнерами, например на блошиных рынках, в мелких магазинах) ощущение взаимовыгодности обмена более заметно. Характерно, что оно сохранилось и играет значительную роль в восточных ритуалах взаимного торга между покупателем и продавцом, пока еще не разрушенных бесчувственным эгоизмом западного рынка. Обе стороны в итоге покупки должны испытать удовольствие не только собственной выгоды, но и от видимой выгоды и радости партнера. Это показывает, что хотя учет выгоды абстрактного партнера пока недоступен человеку, в личных экономических отношениях подобное стремление вполне очевидно.
Обьективные цены формируются не безликими экономическими законами, но рассудком и интуицией, как частями этики договора. Люди всегда негодуют, если чувствуют что их "надули", навязали заведомо несправедливый, не взаимовыгодный обмен. Но точно так же, большинство людей испытывают дискомфорт, если сами по какой-то причине оказались в роли надувателей. Бывает, что мелкие торговцы поступаются выгодой, если осознают чрезмерную несправедливость. Бывает, продавцы меняют цены в зависимости от внешнего вида покупателя не только для того, чтобы сильнее его надуть, но и чтобы обмен был справедлив, пусть и субьективно. Многие люди не любят мелочиться выгадывая копейки, а некоторые торговаться, считая это унизительным. Мне кажется, в основе всех этих мотивов, как и отмеченной выше радости, лежит потребность в эквивалентности, сознание необходимости баланса. Публичный обмен тяготеет к справедливости, и разум ищет пути к ней.
7 Переходная зона
– Более знакомые
Личный обмен не переходит в публичный скачком. Возможно, когда-нибудь люди научатся точно видеть границу, но пока что между сферами есть переходная зона, где альтруистичное поведение смешивается с эгоистичным.
Так, знакомые оказывают друг другу мелкие услуги не требуя оплаты. Если услуга честно и сполна оплачена, отношения обычно завершаются, поэтому в личных отношениях ни деньги, ни оплата неуместны. В результате услуга, даже возмещенная равновеликой услугой, не исчезает в небытие, а остается в памяти как моральный долг. Поочередно возвращая друг другу этот долг, стороны лишь крепче привязываются друг к другу. Вырваться из этого круга достаточно трудно. Введение денег в расчет сразу показывает желание порвать личные отношения, перевести их в формальную плоскость, что обычно вызывает обиду. Использование денег намекает на поиск выгоды, а это неприемлемо среди друзей – например, дать другу ссуду под процент или уступить купленную вещь дороже. Однако для всего есть граница, которая в данном случае отделяет приемлемый размер услуги, от недопустимо крупной жертвы. Даже среди друзей чрезмерный размер помощи обязывает к поиску приемлемого вознаграждения, согласуемого со степенью близости в отношениях – "дружба дружбой, а денежки врозь". Эта трудно уловимая граница может привносить дополнительное напряжение. Отношения никогда не стоят на месте – люди становятся то ближе, то дальше, но взаимные неформальные обмены, если они оказываются в районе границы, вызывают необходимость поиска баланса и максимально равноценных компенсаций. Нетрудно догадаться, что упомянутая граница – то самое, что делит преимущественно личные отношения от преимущественно публичных, так сказать №2 от №1.
"Водоворот" услуг соблазнителен для тех, кто любит чувствовать себя морально выше. Оказывая без конца непрошенные услуги и отказываясь от благодарности, такие люди ставят других в моральную зависимость и наслаждаются своим положением, что рано или поздно приводит к охлаждению отношений и дает им новый повод порассуждать о неблагодарности, черствости и враждебном тонкой душе мире. Постановка другого в положение должника – изощренное моральное насилие. Человек жертвует не потому, что ждет ответных жертв. Если он рассчитывает на ответные жертвы, это навязывание и принуждение к более близким отношениям, чем того желает другой. А то и коррупция, лицемерие и подмена личных отношений выгодой – если получатель жертвы обладает некими желанными возможностями, которые впоследствии предполагается эксплуатировать.
– Менее знакомые
Услуга, оказанная незнакомыми или малознакомыми людьми, вызывает желание вернуть ее с тем, чтобы не ощущать себя обязанным. Что в перспективе, если рассматривать нормальные общественные условия, ведет к экономическим отношениям – продажа требует наценки, ссуда требует процента. Вблизи степень экономичности все еще умеренна, но чем дальше люди отстоят друг от друга, тем сильнее экономический аспект в отношениях. Если же услуга со стороны постороннего настолько большая, что не поддается денежной оценке, или не по силам должнику (например помощь в критической ситуации), человек чувствует себя обязанным навсегда и страдает от того, что не может равноценно отблагодарить. Этика требует абсолютного баланса. Долг, обязанность среди малознакомых вызывает внутренний протест, поскольку является признаком неравенства и зависимости. Зависимость естественна только между близкими. По этой причине также распространен отказ от подарка, когда его ценность переходит границу, не соответствующую близости отношений.
Помощь или подарок со стороны малознакомого человека есть шаг в личном направлении, шаг к завязыванию отношений, поэтому слишком прямой и скорый расчет также может вызвать неприятие и обиду. Сам расчет абсолютно необходим, но время расчета должно быть отодвинуто, чтобы уравновесить личный вклад человека – тот факт, что он сделал шаг навстречу, его моральный аванс. Таким образом, даже в самом факте откладывания расчета наблюдается необходимый баланс, которые только и может в дальнейшем вести к более близким отношениям. Отодвигая время расчета, должник как бы принимает аванс личного доверия, соглашается с тем, что теперь обе стороны не чужие друг другу. И когда он предлагает наконец расчет, первая сторона выражает сначала ритуальный отказ, подтверждающий, что расчет не требуется, но после некоторой заминки и настаивания дающего, однако, принимает его. Вся эта игра возможно кажется со стороны натянутой и нелепой, но она важна, т.к. призвана балансировать отношения вокруг неуловимой моральной черты.
Подобные тонкости не замечают эволюционисты и экономисты, когда утверждают, что благодарность и сочувствие – лишь шаги в равноценном рыночном обмене, скалькулированном за нас эволюцией и генами. Но как можно сравнивать благодарность человека к врачу, который спас его от смерти с удивительным рационализмом, проявляемым экономистами, когда они предполагают, что врач поступил бы абсолютно оправданно, если бы просто назначал цену за свои услуги в зависимости от степени опасности болезни? Холодное наживательство на безвыходной ситуации или принятие последующей неформальной благодарности – абсолютно разные вещи и разница – именно в личном участии и личном отношении.
Иногда люди путаются в характере отношений и бывают неприятно удивлены, если другая сторона рассматривала их иначе, а тем более, если при этом намеренно вводила в заблуждения, притворяясь в желании близости. Часто такое встречается в отношениях полов, когда одна из сторон вместо чаемых чувств обнаруживает банальный расчет.
Различные оттенки эквиморальности не исчерпываются изложенным ни в малейшей степени. Отдельной темой, например, являются благотворительные пожертвования, которые люди праведные – полагающиеся на чувство долга – предпочитают делать нелично, а люди эмоциональные прямо наоборот. Другой темой являются услуги, которые предназначены своей общине, например взнос в кассу взаимопомощи, и которые вознаграждаются уважением, авторитетом и вытекающими вполне реальными благами. Отношения между людьми могут изменяться в зависимости от социального домена или контекста в котором они находятся. Так друзья могут следовать формальностям, находясь на работе или исполняя какие-то другие публичные обязанности. А сотрудники, попав в частную обстановку, могут обменяться чем-то личным. Но как бы многообразны не были проявления морали и этики, их всегда можно отделить друг от друга, особенно если хорошенько поразмышлять.
– Совсем незнакомые
Если попытаться использовать подарки в качестве насилия, то получится что-то типа асимметричного обмена. Как ни странно выглядит подобный обмен, он оказывается возможен в иерархическом обществе, где одна сторона обладает огромными ресурсами, а другая смотрит на первую как на члена семьи. Тогда в одну сторону текут подарки, а в противоположную – чувство личной преданности и подобострастной любви. Раздача императорами хлеба вечно голодному плебсу – хороший исторический пример. В наше демократическое время к подобной "экономике подарков" сводится деятельность всякого правительства, желающего остаться у власти еще на один срок. Еще пример – деловая практика вполне рыночной корпорации, с рекламными целями раздающей образцы новых товаров или заманивающей купонами, баллами и прочими обещаниями будущих скидок.
Часто односторонние подарки являются не только причиной, но и следствием насилия. Я имею в виду подаяние. Вид несчастного человека – не слишком приятное зрелище, вызывающее сильные эмоции. Для эксплуатации их возникают целые отрасли по производству "несчастных", иногда к сожалению без кавычек – например, изуродованных взрослых и даже детей, чей вид способен разжалобить любое сердце. Поскольку полностью очистить публичную сферу от личных контактов вряд ли возможно, эмоциональное насилие, как и сопутствующие "подарки", регулируются только этикой. Разумеется, в этичном обществе никакое насилие подарками невозможно так же, как и сами подарки, как и жертвенные личные отношения, асимметричные или нет.