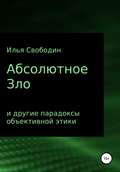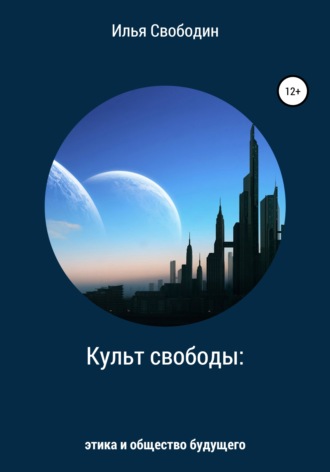
Илья Свободин
Культ свободы: этика и общество будущего
9 Эгоизм
Самоограничение помогает человеку избежать эксцессов эгоизма и альтруизма в отношениях с посторонними. Обьективная этика на картинке 1.13 выглядит как линия точного баланса, ибо и эгоизм, и альтруизм – всегда принуждение. Начнем с эгоизма.
Если не брать клинические случаи кровавых первобытных коллективов, то эгоизм – это обычная практика использования других в своих интересах. Более мягко – предпочтение своих интересов и пренебрежение чужими. В мире, где любое движение затрагивает всех, предпочтение своих интересов неизбежно становится эквивалентным принуждению других к уступкам, использованию их, созданию для них неудобств и проблем. Использование других ограничивает их возможности и это ограничение, если оно недобровольно, не что иное как насилие.
Но ведь оно так естественно! Как же иначе преследовать свою выгоду?
Да, такая точка зрения пока еще удивительна. Разве можно оказывать равное внимание себе и постороннему? Равную заботу? Одинаково учитывать свои и чужие интересы? Однако, верится, что можно. В публичной сфере человек безусловно преследует свои интересы. Но будучи обьективно этичным, он делает это так, что посторонние не страдают ни в процессе, ни в результате этого. Более того, они тоже получают выгоду! Если посторонние необходимы для сделки или затрагиваются ею, единственный способ сберечь их от любого давления – аккуратно рассмотреть и сбалансировать их интересы со своими. Говоря образно, "нулевой", или например "здоровый" эгоизм – это понимание нужд и учет выгоды других, признание их достоинства и уважение к ним, как к людям, а не занесение в гроссбух в качестве статистических единиц. Конечно, учесть чужую выгоду можно только с чужих слов, но важно, чтобы это было сделано максимально полно. Таким образом, учет взаимных интересов – это опять переговоры. И хотя каждая сторона движима при этом в основном своими интересами, переговоры – безусловно основанные на обьективных этических нормах – дают удачную возможность так их сбалансировать, чтобы найти общую пользу и тем разрешить противоречие эгоизма и этики, не полагаясь на моральный абсолют или откровение свыше.
На практике, честная сделка – всегда полностью прозрачная, приносящая не только практическую пользу, но и моральное удовлетворение. Нездоровый, чрезмерный, концентрированный эгоизм – это, напротив, перекос, давление, сокрытие информации, тайные умыслы, нечестное использование рыночного преимущества. Это односторонняя выгода, полученная в ущерб другим. Упаковка, в которую вложено больше труда, чем в сам товар, фальшивая реклама, полупустая тара, соблазнительные фразы и надписи, обманчивые цены и скидки – эгоизм продавцов. Дешевые, некачественные материалы и ингридиенты, ненадежный, но вычурный дизайн, плохая, но броская разработка и конструкция – эгоизм производителей. Мелкий шрифт, группировка услуг и навязывание сервисов – эгоизм обслуги. Унизительные условия работы, пренебрежение работниками, авторитарный стиль управления – эгоизм нанимателей. Про финансистов лучше вообще молчать. И конечно универсальный экономический эгоизм – рента, монополизм, сговор, манипуляция ценами и информацией. А его итог – введение потребителя, партнера или работника в заблуждение, сужение его свободы выбора, пренебрежение, отсутствие уважения, постановка его в худшее положение, в положение средства для достижения цели. Идеология эгоизма – успех любой ценой, волчья конкуренция, путь наверх через головы и трупы. Это экономическое насилие, даже если оно осуществляется в рамках государственных законов.
В наше время эгоизм не просто естествен, это чуть не единственный возможный образ жизни. Нулевой эгоизм не слишком выгоден и стало быть экономисты без труда докажут, что предельно этичный экономический агент нерационален. Но история и выборочная окружающая действительность подсказывают нам, что бывают честные производители, продавцы и даже агенты. Причем в нынешних условиях затеянной государствами экономической войны. Если же говорить о будущем свободном рынке – он в принципе невозможен без этики. Рынок требует доверия. Что вообще такое деньги, если не доверие? Правильно, насилие. Так что нынешняя вакханалия пузырей, спекуляции и мошенничества долго не протянет. Вместе с нынешними деньгами.
Сама "обьективность" экономических законов покоится на этике, ведь в семье и личных отношениях нет никакой экономики. Не будь этики в публичной сфере – не было бы и экономики, был бы голый эгоизм в виде разбоя и грабежа. Экономический закон возможен только если люди будут действовать строго бесстрастно, целеустремленно, рационально, законопослушно и т.д. Т.е. этот "закон" – лишь желанный способ поведения людей, а вовсе не внешняя принуждающая обьективная сила. Попытки обьяснить жадность, безответственность и другие виды экономического насилия обьективностью экономических законов куда менее убедительны, чем обьяснения воровства нуждой. Голод по крайней мере реален.
С точки зрения разума, а не экономистов, нулевой эгоизм полезен. Он означает способность осознанно и намеренно балансировать общие интересы, ощущать свою причастность к обществу и ответственность за его судьбу, чувствовать себя человеком, а не хищником. Нулевой эгоизм не означает жертву, упущенную выгоду. Ведь точно так же можно считать "жертвой" отказ от физического принуждения или от использования безвыходной ситуации другого. Да, физическое насилие сейчас рискованно, но как быть если упускаемая выгода настолько велика, что оправдывает риск? Нулевой эгоизм – это обьективная этическая норма, даже если она пока не является общепризнанной, практикуемой или даже осознаваемой.
Ученые также могут доказать, что бесчеловечная конкуренция и жесткие меры эффективны, что есть случаи когда любые упомянутые выше способы поведения экономически оправданы. Эффективность для убедительности ассоциируется с выгодой большинства или даже "всех". Жесткая конкуренция дает огромный общественный эффект, скажут они нам. Но это иллюзия. Сравнивать пользу и мораль вообще бессмысленно. Физическое принуждение еще эффективнее.
А уж как эффективно промывание мозгов! И популярно тоже. Впрочем, эгоизм не сводится только к экономической выгоде. Не обязательно промывать мозги, чтобы обмануть и что-то поиметь. Процесс промывки бывает приятен сам по себе. Иногда – чтобы показать свое интеллектуальное или моральное превосходство, иногда – показать свою власть или поруководить людьми, иногда – создать себе более комфортные условия существования нетерпимостью или неуважением к чужим нормам. Так, в последнем случае, эгоизм морального насилия, идеологической индоктринации и религиозного миссионерства заключается в манипуляции людьми, подчинении их своим потребностям и постановке на службу себе и своему коллективу. Или как добровольных жертвователей, или как участников, легитимизирующих идеологические институты и их деятельность, или как просто членов коллектива, укрепляющих его численную базу. Принуждение других бессмысленно, если оно не нацелено на эгоистичную пользу. За всяким насилием всегда стоит конкретный, хоть и не всегда материальный, эгоистичный интерес.
10 Альтруизм
Аналогично можно сказать, что альтруизм – насилие над своими законными интересами, потребностями и желаниями с целью продвижения чужих. Этим он отличается от этики. Этика принуждает только до точки баланса. Альтруизм – идет дальше. Он призывает жертвовать своими удобствами, помогать, содействовать. В экстремальных случаях – любить как самого себя и делиться последней рубашкой.
Но как же может существовать "нулевой" альтруизм? Куда девать природную доброту и заботу, которые просто рвутся наружу из души жителей земли?
И опять верится, что это возможно. Нулевой альтруизм – это дистанция в деловых отношениях, ровность, нейтральность, отказ от навязывания личных связей, предпочтений и панибратства. Как исполнение судейских обязанностей требует беспристрастности, точно так же и прочие отношения с посторонними людьми требуют уважения и ничего больше. Разве не унизительно помогать там, где не просят? Считать другого ниже? Оказывая непрошенную услугу, люди лишают других независимости, ставят их в положение должников. Только абсолютная независимость равнозначна взаимной свободе. Дистанция между людьми – атрибут не только деловых, но и любых публичных отношений. Дело не обязательно связано с обменом материальными ценностями, услугами и т.п. Признание в другом равносвободного, равноуважаемого и равнодостойного члена общества автоматически означает отказ от патернализма и жертвы ради него.
Конечно, если человек вызывает симпатию и другие личные чувства, отношения незаметно переходят в личную сферу, где граница свобод может меняться в произвольном направлении. К этому сводятся и вопросы помощи в беде. Помогать в беде надо. Но поскольку помочь всем невозможно, каждый помогает тем, кто рядом. Иными словами тем, с кем его связывает нечто большее, чем формальные отношения. Нейтралитет не допускает материальной или другой существенной помощи, поддержки, предпочтения. Хотя доброе слово, конечно, недорого стоит, но дорого ценится.
Следует остановиться на обожаемой записными моралистами ситуации спасения. Надо ли спасать постороннего? Не означает ли такой альтруизм чрезмерного насилия? Разумеется означает… хотя не знаю, надо подумать. А что если человек желает покончить с собой? Или провоцирует? Или еще что? Кто ж его знает, постороннего-то? Впрочем, какое значение может иметь мое мнение на этот счет? Обьективная этика говорит, что если спасаемый – абсолютно чужой человек и, например, находится на другом краю земли, то можно не напрягаться. Если близко – все зависит от того, какие эмоции его положение вызывает у субьекта. Я думаю, у большинства людей отчаянное положение постороннего вызовет желание помочь. Но требовать от прохожего рисковать жизнью или чем-то ценным – неэтично. Не только потому, что не все способны на это, но и потому, что для человека вполне естественно ценить свою жизнь выше жизни чужого. Однако, если можно помочь не подвергая себя опасности, мораль безусловно требует помочь.
Но почему? Не опровергает ли этот факт все длинные предыдущие рассуждения? Увы, похоже опровергает… шутка. Конечно нет. Отвлекаясь от того, насколько обьективно требование спасать абсолютно чужого человека, ответ в том, что свобода и все прочее обьективное, что вытекает из нее, возможны только в ситуации отсутствия чрезвычайных сил. Стихийное бедствие, нищета, война – все это приводит к тому, что баланс отношений нарушается. Мы фактически оказываемся в ситуации детерминизма. Зона свободы сужается, расширяется зона личных отношений и социальных инстинктов. Люди, пытающиеся с выгодой торговать в условиях военных действий вызывают недоумение. Наживающиеся в условиях катастрофы – ненависть. Точно так же в обществе, где отсутствуют элементарные условия для рынка, где люди голодают, говорить о свободе нелепо – они будут воровать и грабить. Интересно сравнить с животными. Известно, что животные в засуху идут к водопою чтобы напиться и не нападают друг на друга. У людей все наоборот. Люди, в полном соответствии со своей отрицающей животную эволюцию природой, в нормальное время свободны, а в критическое возвращаются к своим первобытным инстинктам. Этика публичных отношений требует не только высокого уровня развития общества, но и благоприятных внешних условий. Неординарные ситуации, друзья мои, вызывают к жизни неординарные моральные механизмы. И требуют неординарных книжек.
Допустим с войной, катастрофами и бедствиями все ясно, но как быть в единичном и обыденном случае? Ведь такие ситуации возникают постоянно. Более того, такие ситуации – чуть ли не норма в нынешних экономических условиях. Человек, оказавшийся в критической ситуации несвободен, но посторонние не обязаны ему помогать. Мало ли людей оказывается по разным причинам в таких ситуациях. Если у человека беда, ему помогают знакомые, близкие, те кто рядом. Только в кругу своих место для альтруизма, доброты и заботы. Требовать помощи от чужих – чрезвычайное дело и находится на границе аморальности. Банкрот не пойдет в банк просить заем на льготных условиях, потому что у него особая нужда. Можно лишь предлагать что-то полезное в обмен, можно еще как-то искать баланс. Но и другие не должны пользоваться ситуацией к своей выгоде. Использование безвыходного положения, с обеих сторон – насилие.
Жестоко? Да, друзья мои, свобода – жестокая вещь. Хуже того, она еще и аморальна. Но как же быть с ключевым вопросом любой моральной системы – хорошего и плохого? Абстракция обьективного добра конечно хороша теоретически, но разве не обязан человек помогать тем, кто конкретно нуждается в помощи? Разве не в этом сама суть морали и всего хорошего? Морали – может и в этом. А обьективной этики – нет. Эта последняя никому конкретных благ не приносит. Человек должен помогать, но только в зависимости от его расстояния до нуждающегося – как социального, так и просто физического. Да и то, если так подсказывает ему мораль и воспитание, а не закон, проповедь или общественное мнение. Обьективная этика относится к самому большому – бесконечному, если быть точным – расстоянию между людьми. Помогать абстрактному нуждающемуся, неизвестно кому, неизвестно почему и неизвестно зачем, не требуется. Это бессмысленно, вредно и обьективно просто невозможно. Кроме того, публичная этика формальна, что исключает помощь по определению – как личный, эмоционально окрашенный, спонтанный порыв чувств.
Но ведь в глубине души человек хочет быть хорошим? А альтруизм неотрывен он всего хорошего! Тут опять путаница морали и этики. Конфуз. Обьективная этика связана только с неличными отношениями, с опосредованным взаимным влиянием и давлением, она не требует от человека быть добрым, заботливым, щедрым, терпеливым или каким-то еще "положительным". Она не указывает ему путь к семейному счастью, нравственному очищению, духовному совершенству или личностному росту. Это все – его личное дело. Похвальные качества характера и добродетельное поведение исторически ассоциировались с высокой моралью. Однако мы не можем сказать какие качества хорошие, а какие нет. У нас нет никакого обьективного критерия для этого. А потому нет и не может быть никакого идеала добродетельного человека, равно как и "этики добродетели", принуждающей к поклонению таковому. Свобода означает, что пока он никому не мешает, человек волен сам выбирать свои цели и воспитывать для их достижения любые качества. Отсутствие четкого критерия добродетели приводило к великому многообразию философских подходов к морали в зависимости от личных вкусов философов. Надо ли быть скромным, умеренным, храбрым, трудолюбивым, предприимчивым, аккуратным, бережливым? Вероятно. Но лишь постольку, поскольку это затрагивает других и приводит к чужим горестям или радостям. Что в случае персональных качеств, очевидно, ограничивается личными отношениями и к публичной этике никакого отношения не имеет.
Что касается альтруизма, то обьективная этика не видит в нем ничего хорошего, как и в любом мотиве, приводящем к насилию.
11 Справедливость
– Что это такое?
Нахождению черты созвучно понятие "восстановление справедливости". Последняя, таким образом оказывается сродни некому балансу. Если вы не читали предыдущий текст, друзья мои, то наверное спрашиваете себя – какой такой баланс? Да тот же самый, что и со свободой. Как мы говорили когда-то, любое действие вызывает противодействие и свобода (а также справедливость) – это не столько отсутствие насилия как явления, сколько баланс в противодействующих силах, возникающих при действии или бездействии. Точка равновесия и есть неустойчивое состояние свободы (а также справедливости). То, что мы называем насилием (а также несправедливостью) – это отклонение от баланса, преимущество одной стороны за счет другой. Нарушение баланса увеличивает "свободу" инициатора насилия за счет сужения возможностей другого.
Похоже, свобода и справедливость – синонимы? Есть ли разница между ними? Конечно. Свобода возникает в ситуации отсутствия насилия вообще, когда все до единой силы уравновешены. Свобода это обобщенное понятие состояния, вытекающего из этой ситуации – есть полный всесторонний баланс, а насилия как бы нет. Причем эта гипотетическая ситуация в принципе очевидно недостижима и существует только как обьективная цель. Справедливость, с другой стороны, имеет дело с конкретным насилием – или с конкретным случаем, или с конкретным его видом. Это более узкое понятие, описывающее ситуацию баланса двух ясных, разнонаправленных сил, и баланс этот, по крайней мере на практике, вполне достижим, т.е. справедливость в жизни время от времени торжествует. Например, преступник понес заслуженное наказание, награда нашла героя, а бедные получили образование за счет богатых. Когда же говорят о несправедливости вообще, о несправедливости общества, жизни или судьбы, то очевидно обобщают и суммируют все конкретные типы несправедливостей. И в таком случае справедливость "вообще" – это в сущности, та же свобода и даже больше, потому что включает в себя вообще все возможные виды сил – не только общественные и природные, постоянно вносящие в жизнь несправедливость, которую людям хочется исправить, но и придуманные и воображаемые.
Поскольку устранение несправедливости – обязательно шаг к свободе, справедливость – не что иное, как ее практическая составляющая, а само стремление к справедливости – частное проявление более общего стремления к свободе.
– Системность и рассудочность
В то же время несправедливость отличается и от случайных нарушений баланса. Несправедливость как факт или как явление – это не просто разовое отклонение от баланса, а в значительной мере систематическое, обусловленное постоянными факторами или целенаправленными действиями. Несправедливость прежде всего характеризует саму ситуацию, как допускающую насилие в принципе – разовая несправедливость несет обещание ее будущего повторения. Например, какой-либо одиночный несправедливый поступок – это на самом деле неадекватное использование своей власти или возможностей, и стало быть указывает на то, что власть, и несвобода, лежит в его основе. То же самое и какой-либо несправедливый закон – это правило, позволяющее систематическое непропорциональное насилие. Поэтому количество всевозможных несправедливостей определяют качество общества – справедливость есть характеристика всяческих коллективных институтов, структур, процедур.
Степень системности зависит от масштаба коллектива. Если несправедливость случилась между друзьями – это одно, если в офисе – другое, если на уровне всего общества – третье. Последний случай, следуя традиции, можно выделить, потому что в такой ситуации велика вероятность, что систематические нарушения баланса приобретают чрезмерный характер – острый и широкий. Тогда можно говорить о "социальной" несправедливости – ситуация настолько безнадежна, что пора менять всю систему, а не ограничиваться местными примочками. Они бесполезны, потому что добиться справедливости в рамках системы становится невозможно.
Для движения к свободе и создания долговременного баланса всевозможных сил только интуиции и других чувств недостаточно – социальная реальность слишком сложна и требует постоянного анализа. Необходима активная работа рассудка по выявлению причин несправедливости и поиску путей ее устранения, которая инициируется, когда сужение свободы вызывает ощущение (или осознание) несправедливости. Таким образом, "чувство" справедливости – эмоционально-рассудочный механизм балансирующий насилие и фиксирующий состояние равновесия. Чем баланс точнее – тем поступок или закон справедливее. Справедливость может рассматриваться как частный случай обьективной этики для ситуаций систематического насилия. Но, разумеется, никак не наоборот, поскольку свобода – не частный случай детерминизма.
Люди редко повторяют действия, которые вызывают муки совести, но охотно пользуются несправедливыми ситуациями к собственной выгоде. Причина как раз в том, что источником мук совести являются персональные действия, а несправедливостей – как правило не зависящие от личности условия, которые требуют предварительного понимания и общей, согласованной с другими оценки. Потому муки совести мы чувствуем, а несправедливость – еще и осознаем. Осознание требует изменить условия так, чтобы несправедливость больше не повторялась, чтобы нормы общества стали совершеннее. Чувство удовлетворенной справедливости во многом базируется на том, что случившееся послужит уроком на будущее.
– Виды справедливости
В зависимости от того, как осознается и достигается баланс, различают и виды справедливости.
Насилие – обыденный факт жизни общества. Сюда входит и ограничение возможностей в результате отсутствия полезных связей, и дележ ресурсов, и риски изза недостатков в общественной безопасности. Понятно, что если кому-то достается чего-то меньше, значит другим – больше. Баланс требует распределения насилия (по традиции понимаемого наизнанку, т.е. как распределение возможностей) соответственно справедливым критериям – например, положению, заслугам, деяниям или просто факту наличия людей. Это распределение может быть получено в результате явного или неявного договора. Последняя форма справедливости – стихийная – возникает исторически, словно сама собой, и на самом деле основана на глубинном интуитивном ощущении справедливости, проявляющемся исподволь. Примерно так, как мы видели ее возникновение в предыдущем письме, когда рассматривали трансформацию иерархии. Первая – процедурная справедливость – может, в свою очередь, возникнуть как результат формализации обычаев, например, торговое или цеховое право, или всевозможные кодексы чести, или третейское прецедентное право, а может – как законы, постулируемые актами законодательной власти, т.е. позитивное право. Можно, конечно, возразить – что справедливого в таком праве? Но это уж надо спросить тех, кто считает его справедливым.
Чтобы лучше уяснить эти соображения, я попробовал свести их в табличку (рис. 2.1). Оказалось, что виды справедливости можно упорядочить в своеобразные ступени прогресса, направления которого отмечены стрелками. Получилось два направления. Первое – формализация, стрелка вверх. Неформальные понятия о справедливости (нижний ряд) определяют сущность построенных на их основе формальных систем права (верхний). Так, традиции лежат в основе всех видов сословного права, идеологии рождают идеи для демократического законодательства, а истинная справедливость является фундаментом настоящего социального договора. Прогресс тут в том, что сам факт формализации – это движение от несвободы к свободе, потому что любое ограничение насилия нормами – шаг к договору. Но и степень формализации норм может отличаться – и не только широтой охвата сторон жизни. Например, процедура предполагает относительную стабильность. Если формальные нормы пересматриваются слишком часто, хоть и в рамках процедуры – само понятие нормы теряет смысл. Аналогично, степени существуют и в рамках стихийной, неформальной справедливости. Пока одни нормы смутно проявляются в головах у ограниченного круга людей, другие уже являются общепринятыми, хоть и пока неписанными. Прогресс в этом направлении идет, таким образом, снизу вверх – от интуитивного ощущения справедливости – через ее осознание и попытки формализации – к четкой, ясной и стабильной процедуре, ее реализующей.

Второе направление прогресса справедливости – движение слева направо, от жесткой иерархии через политическое равенство к свободному обществу сочетающему равенство возможностей с неравенством заслуг – довольно очевидно. Лучше всего, когда такое движение своевременно оформлено процедурными нормами. Иначе шаги этого движения могут вылиться в анархию или революционное насилие. Не лучшей альтернативой является моральный конфуз, когда интуитивная справедливость стремится уравнять все вокруг не учитывая реальности, подменяя собой договор и анализ. На этом направлении мы пока что застряли в трясине идеологий, выражающих современные, прогрессивные, гуманные и другие модные понятия о справедливом. Наши потомки, я думаю, увидят и другую справедливость.
– Относительность справедливости
Историческая приемлемость норм справедливости означает, что в отличие например от совести, справедливость относительна. Компас совести замечает любое отклонение и любое принуждение, компас справедливости – только отклонение от общепринятого уровня насилия. Если все подвергаются насилию привычно, или пропорционально, или еще как-то "справедливо" – т.е. насколько у рассудка хватает фантазии оправдаться – это терпимо. Это хорошо видно из таблички – справедливость даже способна оправдывать иерархию, особенно если она грамотно обоснована. Например, при нынешнем эгалитаризме считается вполне нормальным, что есть богатые, получающие свои привилегии по наследству, ибо передавать экономические блага детям естественно, дети – это святое. Для эгалитаризма также вполне приемлемо существование звезд, дневная зарплата которых больше зарплаты их поклонников за год. Ибо они заслужили – они развлекают поклонников и вносят краски радости в их серую жизнь. Разумеется, совесть со всем этим не мирится и мучает ее обладателей (совести, не зарплаты).
Однако, относительность справедливости не ограничивает ее моральную силу. Причина в том, что не существует равного, справедливого уровня насилия для всех. Кто-то всегда оказывается в выигрыше – потому что кто-то же должен осуществлять это насилие, откуда-то же оно берется? Эта невозможность навсегда зафиксировать относительную справедливость позволяет ей в конечном итоге вести дело к полной свободе.
Относительность наглядно проявляется в катастрофических и любых иных неординарных ситуациях, когда отклонение от устоявшегося баланса вызывается внешними, не зависящими ни от кого причинами. Например, угроза эпидемии или, наоборот, открытие подземного месторождения манны небесной. Как отказ от лечения, так и ускоренное выкачивание манны в личных целях ставят всех остальных в худшее положение, нарушают баланс свобод и, следовательно, являются формой насилия. Справедливость в такой ситуации распределила бы внешнее насилие равномерно, но без восстановления утерянной свободы.
А что будет, если человек манну изобрел и наслаждается ею в одиночестве? Исходя из того, что я вижу в жизни, сначала все считают его исключительное положение вполне справедливым. Однако по прошествии некоторого времени, или при чрезмерном характере его исключительности, окружающие начинают глухо роптать. Они хотят справедливости, что означает – их положение начало ухудшаться. Они больше не считают, что изобретатель заслуживает своих благ. Относительный компас справедливости потихоньку переориентируется в сторону абсолютности. Приемлемость уступает место ущемленности. Запас морального терпения не бесконечен и рано или поздно потребует восстановления баланса.
– Восстановление баланса
Если несправедливость случилась вопиющая, разум требует ее безотлагательно исправить. Для этого необходимо ответное насилие, восстанавливающее баланс. Восстановление справедливости осуществляется точно отмеренным насилием и замер происходит с привлечением как рассудка, так и моральных чувств. Оценке и коррекции подлежит и нанесенный ущерб, и сам факт нарушения нормы (второе, собственно, и есть наказание). Естественно, что чрезмерный перекос в другую сторону – благодеяние, помощь или подвиг – так же вызывает как желание, так и необходимость отдать долг и опять восстановить равновесие. Правда, не все люди пока осознали, что навязывание чувства благодарности – тоже насилие, но об этом мы подумаем позже. Вообще, само древнее представление о справедливости: "каждому – по заслугам" ("каждому-свое", "кесарю-кесарево" и т.д.) – это и есть исторически окрашенное выражение баланса действия и противодействия. Даже принцип "не делай другому хуже" уже неявно предполагает его наличие.
Но как ОЭ может оправдывать насилие к посторонним, даже справедливое? Разве этика не противостоит ему, не озабочена прежде всего самоограничением? Абсолютно. Этика не одобряет насилие ни в каком виде. Но как же тогда восстановить справедливость? Добровольно, самим виновным – возмещением ущерба, принесением извинений, раскаянием, самобичеванием и иными действиями по наказанию себя, вплоть до наложения каких-то дополнительных взысканий – короче, "насилием к себе". Далее, может потребоваться исправить условия, сделавшие несправедливость возможной, для чего надо привлечь внимание к ее факту и обосновать необходимость исправления. Если же без ответного насилия действительно не обойтись, то вероятно дело в том, что кто-то нарушает договор умышленно – а значит отказывается в нем участвовать. Эту ситуацию ОЭ не покрывает – она подпадает под действие морали, жертвенной или героической, ведь выходящий из договора одновременно выходит из публичной сферы! Тем более что преступник, даже пытаясь нанести ущерб всем, наносит его конкретным лицам. Именно им теперь надлежит оценить необходимость и степень наказания – в конце концов, злоумышленники тоже бывают разные. Вот почему наказание – дело личное, этика лишь удостоверяет факт несправедливости, в том числе путем обсуждения и соглашения, а публичная сфера остается свободной как от насилия, так и от любых институтов его организующих, включая институт наказания.
Но что, если человек не хочет лишних проблем, беспокойства и вообще – он любит мир, дружбу, хочет всем нравиться и не хочет показаться привередливым? Обязывает ли его этика поднимать шум, привлекать внимание и т.д.? Может, проще оставить все как есть, особенно если несправедливость пустяковая? К сожалению в данном случае ОЭ не так снисходительна. Мы знаем, что она не любит не только эгоизм, но и альтруизм, а в данном случае мы как раз с ним и сталкиваемся. Все прощать можно только дорогому человеку. Посторонний, а вернее все они, поскольку все они одинаковые, должен быть поставлен в известность и призван к выполнению договора. И потому, кстати, любое нарушение договора касается всех одинаково, а не только того, кто оказался затронут лично. Соответственно, уклонение от восстановления справедливости можно рассматривать как нарушение норм этики и пособничество. ОЭ и снисходительность, а тем паче равнодушие, несовместимы.