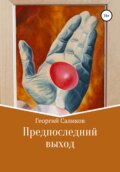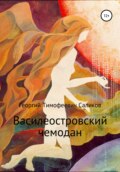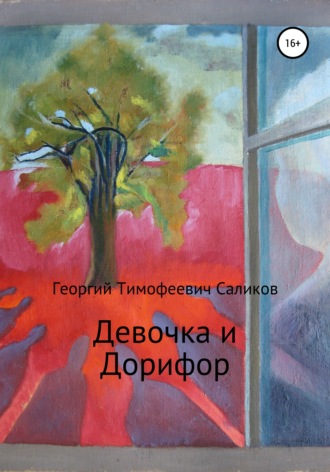
Георгий Тимофеевич Саликов
Девочка и Дорифор
– Отлично, – согласился Дорифор. – Кстати, литература тоже готова ступить в свой письменный исихазм. И где-то ступила, но автор никогда не будет известным. Подобно вашему художнику. Ха-ха… да. Да, но мы забыли о живописи и художнике в иносказательном смысле. Аллегорическом. Художник у вас аллегорически зовётся «Неизвестным», а картина – «биографией». О заказчиках пока повременим.
– Угу. Нам интересно именно это полотно – биография. Чья-нибудь. Скажем, вполне добропорядочного отца семейства или вольнолюбивого бомжа. Кто его изначально предъявил, мы не знаем. Никогда не следует докапываться до начала. Не докопаешься, а силы израсходуешь. Но, принимая высказанное здесь достаточно терпимое условие, заметим: встревать в картину чужой жизни и наносить на неё нестираемые мазки – весьма соблазнительное искусство. Мало кто способен брать себя в руки и не поддаваться этому неформально установленному соблазну. А у большинства – талантов не занимать. Всякий, кто занимается подобным творчеством, не просто развлекается, он заодно тянется получить именно апофеоз этого вида искусства, может быть, не ведая о том. Ему же необходимо выложиться до конца. Иначе и браться не следует. До конца легче дойти, чем до начала, и всяк туда стремится. Его ведь что-то подстёгивает на утверждение именно себя в непосильных трудах. Иначе это не творец. А тот, интересующий нас Неизвестный Художник, специализирующийся на биографиях людей, пусть, собирательный, как вы сказали, он делает исключительно то же. Он как все. Или все как он. Мало того, ему наскучило там-сям подмазывать, он уже действительно давно разделился в себе на тьму тем собственных клонов, засучил рукава и принялся писать. Угадаете, что? А собственный «Чёрный квадрат». Его, да, его. Везде. Поскольку любое искусство непременно стремится создать нечто апофеозное. Если высказываться до конца, так, значит, высказываться до апофеоза. И подвиг совершить заодно. «Самоотрицание». Вы же о том проговорили довольно прозрачно, заодно и не без парадокса. Вы назвали это афоризмом. Я с вами согласилась, но не думаю, что любое самоотрицание ведёт к подвижничеству. В нашем случае имеет место сотворение пустоты. А оно, мне кажется, навряд ли является подвигом. Хотя, хм. И подвиги не обязательно имеют один лишь положительный смысл. А заказчик… вам-то лучше знать о заказчиках. Не гнушаетесь же ими ради хлеба насущного.
Дорифор, по-видимому, собрался подтвердить очередную непреложную истину собеседницы о существовании и о природе Неизвестного художника, но только вздохнул. Он сделал короткий вдох и долгий выдох. В общем, и соглашаться не очень хотелось. Кому охота осознавать себя маленьким чёртиком, бестолково встревающим в чужую судьбу со тщедушным творческим замыслом? В том-то и дело, что замыслом. Ибо творить – не способен. Но, подталкивать людей на подвиги от искусства, – излюбленное занятие господина Инкогнито. А Дорифору – подчиняться воле многих таких же, извините, творцов —не с руки. Приятного мало. Впрочем, кто-кто, а наш античный герой, похоже, давно сбросил зависимость от окружающих его всяких людей, – благодетелей и злоумышленников, приносящих и отбирающих, восхваляющих и хулящих, таких и сяких. Даже голос без явного источника, тот голос, помните, – он потерял источник себя, однако это не мешало ему назойливо твердить слова «милый, мой милый», – даже такое явление природы не слишком его задевает.
Фотиния снова подошла к столу и села на круглый фортепьянный стульчик рядом с Дорифором, лицом к окну.
– Нет, вы неправы, – сказала она.
Дорифор опять захотел согласиться, но промолчал.
– Насчёт «квадрата» я бы с вами не вполне согласилась, – продолжила Фотиния. – Антиикона, образ ничего, это, может быть, и точно определено. А есть ли в том деянии подвижничество через самоотрицание. Нет. Наоборот. Сочинитель «квадрата» создаёт небытие. Если Бог, – из небытия, точнее, из ничего создал весь мир, все образы и нас с вами, то авангардист из авангардистов в искусстве создал само ничего. Перевернул искусство задом наперёд. Иными словами, принял решение стать противником творчества. И стал им. Как Люцифер. Он пришёл к ничему, то есть, к доначальнй предпосылке для творчества, и ему-то, этому ничто, придал образ. В том и есть смысл апофеоза: конец, завершение – непременно обращается в доначальное состояние, в ничто. Нет здесь самоотрицания, нет и подвижничества. Напротив, мы видим наитвердейшее утверждение себя равным Богу, то есть, противником Ему, иначе говоря, сатаной.
Дорифору на сей раз всё расхотелось: и соглашаться, и возражать. Промолчал и по этому поводу. Фата Моргана, как-никак. Ей, по-видимому, понятнее мир ничего.
На некоторое время соседи стали похожими на изваяния. Они застыли в неподвижности. Он и она замерли отдельно друг от друга. И по этой отдельности, не шевелящимся взглядом и во власти безмолвия каждый выискивал впереди себя нечто сакрального содержания. То ли Образ, непосредственно возникающий из картин Даля, то ли никому не известного Художника, занятого идеей создания апофеоза лишь ему принадлежащей живописи и прочего искусства на земле, чтобы придать всякому произведению пока ещё не сполна испытанное человечеством своевольное начало…
Глава 15. Продолжение исповеди Луговинова
На многолюдной улице Луговинов никого не видел. Шёл небрежно, заваливался из стороны в сторону, сдерживал ход, разгонял его, даже останавливал и внезапно разворачивал в противоположный конец. И ни с кем из прохожих не столкнулся.
Всюду вокруг учёного, заведующего престижным институтом, тёрлись овцы. А в руках он держал большие ножницы. И примеривал их к туловищам овец. Вроде бы можно постричь, а можно и заколоть. Вопрос лишь в том, что предпочтительнее: одеться или напитаться? Предположения о даровании свободы выбора судьбы, – не возникало. Институт и он лично, – слились в его сознании воедино уже давно, и он к этому привык. Сотрудники – ладно, они вроде как части единого организма, который и одевается, и питается. А аспиранты-соискатели? Они, конечно же, – внешний материал, и к институтскому телу не причастны. Они и есть овцы.
И не стригу я овец-аспирантов, не стригу. Я их закалываю. Ритуально закалываю, на виду, торжественно пылая очами, под восторженные крики толпы, именуемой коллективом, – «слава науке!». И по всем устоям укладываю на алтарь их сакральной учёности. Учёность – превыше всего. Ради неё пожертвовать человеческим существом – праздник души. Эдакий профессиональный жрец из меня получился, а я о том и знать не знал. Призвание-то каково! И на жертвенном очаге я выпекал из них учёные степени для блага вверенного мне передового института. Степени печь – неважно на чём, главное, чтобы пеклись хорошо. Но лучше – на алтаре. Это ж весьма возвышенно, даже благоговейно. И они замечательно пеклись-выпекались. Мастерски. На высочайшем уровне. Экстра-класс. Вместо бывшего человека, из его праха вырастала будущая учёная степень, а институт получал добавочный куш. Чем больше, тем лучше. Всем хорошо. Одним словом, так или иначе, но человек с моей помощью напрочь исчезал ради всеобщего торжества. Вообще-то, говоря по-честному, особо стараться мне и не приходилось. Он уже и без того состоялся пропащим, коли с готовностью отказывался от собственных идеек, а то и полновесных идей, обладающих о-го-го каким потенциалом. Почему с готовностью и почему отказывались? Виной тому – покорность. Или доверчивость. Или то и другое. Словом, сидела в нём – судьбой уготованная предопределённость. Причём без моего участия. А я лишь пользовался этим предрасположением к жертвенности.
Но не только, не только. Не я один. Ещё кто-то претендовал на этот соблазнительный жертвенный промысел. Крутился тут незаметно и выискивал маломальскую возможность закинуть на подмостки пару-другую замечательных людей, которые сами определили себя в соискатели учёного счастья на костре. Да, не я один таким предприимчивым оказался, но кто-то ещё тому способствовал. Думаю, сопричастная мне душа. И не просто сопричастная, а будто вложенная в меня. Не знаю, кто она. Всего-навсего догадываюсь о её существовании. Догадываюсь. Ах, да нет же, опять за своё! Опять агнцы кругом да жрецы! Что за пристрастие такое к неуместной высокопарности? Нет этого ничего! И никогда не было.
Овцы исчезли, и теперь перед академиком Луговиновым возникло войско. Армия. Да, армия тут. Обычная, в поту и в пыли. Аспиранты становились чем-то вроде солдат науки. Приказ начальника – закон для подчинённого. Выходит, случился не жрецом, а полководцем. Дурным. Но эти полки, ради победы над чем они выдвинуты? Ради желанного триумфа. Хм, действительно. Чего же ещё надобно человеку?! Человеческие жертвы, такие, сякие, пятые, десятые – разбросаны по свету исключительно во имя какого-нибудь подозрительного триумфа. А где он? Что он? И в чём состоит его необходимость, скажем, для меня? Ах, да, вот он, триумф – престижная премия! И всё? Только-то? А в смысле необходимости? Мелковато, мелковато…
На этот раз Антон Вельяминович ничего не высказал вслух.
Глава 16. Ещё застолье
От картошки шёл прозрачный пар. По соседству размещались порезанные холодные овощи, испуская свежие соки. Хлебные ломтики рядом с собой просыпали несколько крошек на стол. Пряная зелень красовалась пышным снопом. А металл вилок нетерпеливо ожидал ко всему тому острого и жадного прикосновения.
– Такое у нас красивое застолье, – сказала девочка, доставая две плоские тарелки, и хихикнула в нос.
– Красота, – откликнулся папа, приседая на табуретку.
Простота еды обычно вдохновляет на производство гибких мыслей. Папа точно в сию пору их производил на практике, обжигая пальцы картошкой.
– Вилка же есть, – напомнила ему дочка о столовом приборе.
– Угу, угу, – поддакивал папа, продолжая рукой макать цельную картофелину в тарелку с лужицей подсолнечного масла, сдобренного солью. Он взял другой рукой вилку и подложил под край тарелки, чтоб образовался уклон, и масло не растекалось бы по всему дну, а скапливалось в нужном месте и создавало вкупе с солью кашицу нужной консистенции.
Девочка снова хихикнула в нос.
Папа тоже хихикнул.
– Ладно, ладно, это ведь ты из хорошей семьи, а я – из рабоче-крестьянской.
Дочка покивала головой. Эту папину шутку она слышала неоднократно, и с давних пор.
– А ещё мне снился брат, – добавил папа, доставая очередную картофелину и попеременно переставляя пальцы, её держащие. Старался не обжечься. У него продолжали созревать гибкие, почти универсальные мысли, но словами обзаводиться не спешили.
– Он тоже из рабоче-крестьянской семьи? – поинтересовалась дочка почти серьёзным тоном.
– Из крестьянской, да. Кажется, из животноводческой.
– Но я не знаю ни одного дядьки с твоей стороны. Ни родного, ни двоюродного. И не помню деревни с родственниками. Маминых, да, целых трое. Они, один за другим, гостили у нас подолгу на правах членов семьи. Тех помню. А твоих пока не видать. Наверное, ты его стесняешься. А? Небось, деревня-мужик?
– Да. Пастух. По дальним лугам скитался. Но теперь нечаянно объявился. И действительно, он чего-то во мне стесняет. Неловко мне сделалось от нежданного появления.
– Почему же объявился? – посмеялась дочка, – ты же сказал, приснился он тебе, а не приявился.
– Верно. Явь чем-то отличается от сна.
– Проснуться нельзя, да?
– Зато уснуть можно, ха-ха-ха.
– Ха-ха-ха, – согласилась дочка.
Касьян Иннокентьевич, тем не менее, перестав жонглировать горячей картофелиной, погрузился в мысли. Вчера он до крови натёр щиколотки от задников туфель. А сегодня подложил под пятки слоёные картонки, чтоб задники не доставали до свежих ран. В силу того, стал выше на полсантиметра. И такой пустячёк заставил сделать открытие. «Всякий человек непременно полагает себя крупнее, чем воплощён природой», – подумал он, ощущая новенький рост, – «хочет полагать, и верит мнению тому безоглядно. Вот я стал выше себя на высоту слоёных картонок. Но не дорасту я даже до средней величины людского окружения, сколь бы высокими каблуками не пользовался. Не зря Господь наградил меня столь небольшим физическим ростом. Он помог мне понять, что человек, надуваясь и разрастаясь чем бы то ни было, остаётся прежним Божьим созданием. Остаётся он в точности тем, стародавним существом, однажды созданным Господом по Его усмотрению». И тут же Даль обратил наше внимание на то, что не только Данта помнит наизусть целыми кусками, но и других поэтов-мыслителей, потому что, погладив безволосую голову, он припомнил весьма уместный отрывок из Гёте, собственного перевода, где Мефистофель говорит Фаусту:
Ты до конца пребудешь тем, кто есть.
Парик надень ты с миллионами кудрей
И стельки вставь ты толщиною до локтей, —
По-прежнему останешься, как есть.
«Но желание возвыситься, оно ж моё личное, Бог такое в меня не вкладывал», – продолжил вразумительное размышление Касьян Иннокентьевич. – «И если мне до остервенения надо возвыситься над окружением, то я поднимусь, поднимусь явно для себя и явно для других. Например, возьму да надену ходули. Смешно? Смешно. И неудобно». Даль погрузился в мысли поглубже и увидел огромное число народу. Население вдруг единовременно пожелало возвыситься и кинулось обзаводиться ходулями. Все имеющиеся в наличии ходульные магазины мгновенно опустели. Но тут же нашлись ловкие дельцы. Стали создаваться на окраинах городов массовые производства ходулей на любой вкус. Реклама заполонила улицы, метро, эфир. Менеджеры многочисленные развелись, выстроились новые супермаркеты. Наука заработала в полную силу! Институты, образование! Вот уже тебе новые технологии, позволяющие увеличить их высоту. Нате вам, господа, извольте потрудиться и обратить ваше драгоценное внимание на другие технологии, обещающие продолжать их рост практически до бесконечности. Изменяется городской транспорт, изменяется строительное искусство, изменяются первейшие и вторичные потребности, изменяются манеры поведения людей между собой. Народ взахлёб говорит исключительно лишь о технологических новшествах и научных открытиях в области увеличения длины ходулей при повышении сверхпрочности материалов и сверхызысканности конструкций. А также – снижения цен. Цивилизация подчиняется ходулям, и более ничего её не заботит. Ведь надо же сотворять новое окружение исключительно для удобства проживания в условиях их ношения. Городская среда, интерьеры зданий, – стали ничуть не похожими на то, к чему человечество то того привыкло. Весь мир, оказывается, давно встал на ходули и прочно к ним привык. Они стали образом их жизни. Смешно и нелепо, а надо.
– Надо ли? – папа вслух произвёл сомнение. И тут же ощутил боль в пальцах от ожогов о картофелину. Переложил её в другую руку, но та почувствовала чуть ли ни прохладу. Корнеплод, значит, заметно подостыл. Оказывается, ощущение боли несколько запоздало. Боль, по-видимому, была раньше, а почувствовал он её только сейчас. Из-за глубокого отвлечения от причины. Художник и мыслитель отметил про себя это любопытное обстоятельство. Но в связи с чем отметил, прояснить не мог. Или не стал.
– Надо, папа, – настояла дочка, провожая глазами путь картофелины в папиных руках, – есть обязательно надо. И даже в том случае, когда это бывает слишком неудобно. А для кого-то нелепо и смешно.
– Ну и мудрая ты у меня. А я ведь даже и не подумал, что есть простой ответ, – Касьян Иннокентьевич целиком задвинул картофелину в рот.
Значит, случаются-таки у Касьяна Иннокентьевича запаздывания в реакции на ощущения. То на негодность долгих и многих трудов в контексте многомерного пространства и широкого охвата времени, то просто на обыкновенный ожог о картошку.
А нам уже надоело обещать о припоминании случаев, где явственно проглядывают невостребованные страницы жизнеописания Даля, когда он был ещё то ли Почвиным, то ли Почкиным, где отчётливо прорисованы давно былые случаи, для него более чем неприятные. Надоело брать на себя никем не налагаемое на нас обязательство и не выполнять его. Не будем. Само всплывёт, когда захочет. А мы, когда подоспеет тот случай, лишь подсадим «изобразителя» на заранее подготовленный спасательный плотик.
Кисть руки осталась у нас висеть внизу, и мы только губы плотно запустили внутрь.
Глава 17. Новенький «Peugeot»
– Тут что-то произошло? – спросил учёный Луговинов у одного из прохожих на гранитной набережной Фонтанки.
– Да. Иномарка свалилась. Бабы рулили. Баба за рулём – оно понятно – беда. Но они спаслись. Выплыли. А машина – куку.
Антон Вельяминович глянул на поверхность воды, где появлялись отдельные крупные пузыри и цепочки мелких пузырьков. Потом оглядел прохожего. Подробно оглядел. И даже ввёл того в смущение.
– Нет, – сказал он, – спаслись не все.
– Это видно по мне? – прохожий, забыв о смущении, тщательно оглядел на себе всё, поддающееся обозрению собственными глазами. Ничего особенного. Обыкновенный прохожий.
– Да. Вы не внушаете мне доверия, – Антон Вельяминович произвёл интонацию точного знания дела.
– Позвольте, но я и не навязывался на роль вашего доверенного лица. Вы спросили, я ответил. Что видел, то и ответил, – прохожий пожал плечами и двинулся прежним прохожим путём, редко покачивая головой.
– Зря вы взяли на себя непроверенную ответственность, – заявил ему вслед Луговинов, не меняя интонации, – человек не всё способен видеть.
«Кто-то на дне есть, – соображал про себя Антон Вельяминович, – лучше назвать: что-то». Он явно ощущал истинность данного соображения. Это ощущение происходило от места, что посередине между лбом и грудью и между обоими плечами. Рождался лёгкий трепет, и отдавало холодом. «Спасти его уже нельзя, но помощь вызвать необходимо», – подумал он и мысленно стал искать мобильник на себе. Затем вспомнил и стукнул себя по лбу костяшкой среднего пальца. «Эге, в чемоданчике лежит. И зачем я его туда сунул? Да ещё угораздило оставить у Дорика. Совсем рассеялся».
– Там есть человек, – Луговинов громко крикнул остальным прохожим, указывая на воду в реке, – там есть.
Никто не обратил на него внимания.
Луговинов махнул рукой и пустился к дому приятеля.
Когда отошёл далеко, то внезапно обернулся. На месте неизвестного ему происшествия появился автокран и кучка людей вокруг него. Они вяло засуетились.
«Быстро», – отметил про себя Антон Вельяминович и, постояв, постояв, стал возвращаться обратно. Проделав несколько шагов, он снова остановился. Близко подходить почему-то не хотелось. И отсюда вполне удобно разглядывать будущее действие.
Но кран, похоже, бездействовал. Суета застопорилась. Вообще-то Луговинов не нуждался в подтверждении догадки или ощущения правды. Он мог спокойно удалиться от скорбного места и думать о собственных печалях. Но принялся ждать.
А вот нашлись и аквалангисты. Дела завертелись поживее.
«Оперативно работают», – одними губами произнёс Антон Вельяминович. Поделиться этим тонким впечатлением от необычайного происшествия не с кем, поскольку более ни одного прохожего поблизости не оказалось. Но он пристрастно повертел головой вокруг.
Поверженную машину поднимали за тупой зад. Вода вытекала из окна передней левой дверцы. Оттуда же вывалилось дымчатое стекло, а затем и свесилась чья-то рука. Луговинов стал вспоминать недавнее ощущение при беседе с прохожим. Это когда близ верхней части тела что-то затряслось и охладило. Его заинтересовала природа того ощущения. Новое ли оно для него или подобное случалось в прежние времена? Бывало ли и раньше похожее чувство?
– Было, – сказал вслух научный исследователь, несмотря на отсутствие очевидного собеседника, – бывало, определённо бывало.
И действительно. Мы, конечно, плохо знаем, когда у него эти интересные ощущения появились впервые, но сегодня случались дважды. Это когда услышал о городе Пльзень, и когда подтвердилось имя Йозеф. Тогда и случались. Очень похоже. А ещё когда? Пока ничего конкретного не припоминалось и самим героем. Но Луговинов утверждался в некоем открытии: странное ощущение для него не ново. Когда оно давало о себе знать? При каких обстоятельствах? А первый раз? Что повлияло на то в первый раз? Угу. Точно. Впервые оно появилось после всесожжения мёртворождённых идей аспирантов. На дачке. Утром. Было, было. Да, испытал он тогда похожее состояние и глубоко переживал, не понимая природы этого явления, и оттого переживалось ему ещё сильнее. И только теперь, наконец-то, исчерпывающим объяснением смысла подобных чувств оказались два случая сегодня. Подряд.
– Получается, будто я ощущаю мёртвое, – снова подумал учёный человек вслух.
«Мёртвое», – уже рефреном продолжалось у него в голове. Вроде назойливого звонка телефона.
«Мобильник», – заключилась ассоциативная мысль, и Антон Вельяминович продолжил возвращаться в дом, где давно живёт пожилой мужчина, похожий на Дорифора, и где недавно появилась соседка-баскетболистка, имя которой похоже на Фату Моргану.
Глава 18. Звонки
Оба изваяния всколыхнулись, когда в прихожей раздался звонок.
– Ещё гости, – Дорифор поморщился, – каким бы названием не обладал нынешний день, я бы назвал его посещельником.
Он встал и пошёл открывать. Но та уже распахнулась, и в ней возник Антон Вельяминович Луговинов.
– Что-то вы дверь не запираете, – упрекнул присутствующих успешный учёный.
Тут же в комнате соседки, из чемоданчика раздался телефонный зуммер на мелодию бетховенского «Сурка» в чрезвычайно ускоренном темпе.
Антон Вельяминович незамедлительно выказал радость. По-видимому, звук был ему чуть ли ни родным.
– О! За ним-то я и прискакал.
Фотиния вышла в коридор и продвинулась навстречу Антону Вельяминовичу, держа в руках музыкальный чемоданчик в открытым виде, наподобие подноса. Она торжественно подала его хозяину. Луговинов вынул оттуда «мобильник» и долго слушал в нём чьи-то слова, заткнув другой рукой другое ухо. Наверное, по привычке толковать на улице. Затем опустил медленно обе руки.
– Надо собираться в твой Виртухец, – изрёк он так-же медленно и на одной ноте, косо поглядывая на Дорифора.
– У-гу, – подтвердил Дорифор на той же ноте. А затем промолвил музыкально, сверху вниз: – только и всего.
– Виртухец? – переспросила Фата Моргана, – что это?
– Королевство таинственного Драума, где-то за тяжёлыми волнами Балтийского моря. Не слышали о таковом? А в нём и Виртухец. Ну, что-то наподобие вашей Лысой Горы, – ответил Дорифор и подмигнул Антону.
Тот хмыкнул, качнул головой, взял чемоданчик, захлопнул, сунул подмышку, развернулся и вышел, будто улетучился.
Телефонный позывной звук произвёл в нём созвучие и на другого рода звонок. Мысль об открытом странном таланте распознавать мёртвое среди живых не переставала терзать рассудок.
Дома академик Луговинов стал копаться среди листочков старых записных книжек. В новые записные книжки обычно переписывались из старых те номера телефонов, владельцы которых считались полезными в дальнейшем. Остальные обновлению не подлежали за ненадобностью. Или из-за лености.
Когда Антон Вельяминович без особых затей перелистывал мелкие странички, не вникая в имена и цифры, а лишь припоминая давние или ближние времена их активной жизни, то, кроме освежения общей памяти, новеньких чувств не испытывал. Но при случайной задержке на одном из разворотов глаза сами зажмурились от внезапного проявления страха. «Прочту имя, а там… – он закатил вверх зажмуренные глаза, – ох, ужасы всякие начнутся». Луговинов захлопнул книжку и сунул в корзину для мусора. Туда впихнулись и остальные блокнотики, отжившие своё. Затем подошёл к старинному креслу-качалке в венском стиле и качнул его коленкой. Особо долго оно не качалось, так, раза три-четыре. Он снова подтолкнул кресло тем же коленом. Произошло воспоминание о деде, прежнем владельце мебели в старинном венском стиле, и попутно с тем знакомое ощущение разлилось в привычном для него пространстве. «Вот и хорошо, – подумал Луговинов и уселся в глубину кресла, – вот и хорошо. Здесь-то нет ничего ужасного. И подсказывать не надо». Он поджал ноги, и качалка мгновенно застыла, укрепив центр тяжести в законном месте.
Антону Вельяминовичу не смотрелось в сторону корзины для мусора. Взгляд сам туда тянулся, но и голова сама отворачивалась. Невозможно смотреть в том направлении. Подолгу. Напряжение настолько сковало его, что ему даже чуть-чуть вздремнулось. Неожиданно. Секунд семь-восемь. Будто замедленно моргнул, а веки ненадолго слиплись. Во сне привиделась комната приятеля и добротная изразцовая печка. «Я обычно мусор туда запихиваю. Да поджигаю, когда набивается», – говорил приятель.
Луговинов, снова неожиданно для себя, заострил внешние ощущения, размежевав ресницы. И подоспело спокойствие. «Ты, брат, как будто нервничаешь», – проговорил мысленно и поднялся, – «смешно». А книжки записные вытащил обратно и положил в шкафчик, отметив, что мусором они пока не стали. Жаль их. И не успели сгореть: в отличие от недавно приснившейся комнаты, печки тут нет, и никогда не было. Но, из-за нечаянного возникновения темы о мусоре, у него вышло развитие вообще данного мотива по существу, и почти в сакральном значении. Мусорная тема начала обрастать вариациями.
«Мусор. Казалось бы, ясно, что это, – думал Антон, – но подождите, подождите. Он – вещество, которое выбрасывается. В общем-то, оно так. Но почему от него вдруг отказываются? По-видимому, потеряло оно актуальность. Ненужное оно. Кому? Тому, кто это вдруг обнаружил. А когда? Ведь в другой час много чего им считалось потребным или казалось необходимым, и мусором это добро никто не предполагал ни называть, ни считать. А лишь надобность пропала – сразу на свалку. Но вдруг снова понадобится? А возвращать-то со свалки стыдно. Нет. Мусор не обязательно то, что ненужно. Мусор мешает. Ага. Допустим. Но опять же, когда мешает, а когда и не мешает, а то даже и помогает. Нет, и помехи тоже ни при чём. Смысл мусора в другом. Смысл. Надо искать собственно смысл. Тогда и всё встанет на место. Видимо, мусор – это избыточность. Да. Избыточность. Теперь уже точно. Вот что делает поиск смысла. Именно избыточность никогда более не понадобится, поскольку попросту лишняя. Излишек. Попался, дружок. Спрашивается, а зачем тогда плодить заведомо лишнее? Излишек. Притом – везде. А. Ну, понятно. Его можно продать. В этом и есть смысл. Плодить избыточность на продажу. Мусор продавать, сие даже забавно. Твоё избыточное, вообще излишнее, другому – недостаёт. Ему и продай. Интересно. Значит, повсюду в нашей удобной человеческой цивилизации приключается торговать мусором? Это если мусором является избыточность. Экая оказия. Да. Мусором торгуем. И радуемся, когда получаем выгоду. Создаём мусорную экономику. Экономика вообще из мусора возникла. Родилась. Афродита – из пены морской, а экономика – из мусора. Лишнее становится ценным. В экономике ценностью твоих дел оказывается то, чего для тебя лично никакой надобности не составит никогда. Понимаешь? То, что никогда и ни при каких обстоятельствах для тебя не потребуется, эта никчёмность представляется тебе же весьма ценной. То, чего тебе непотребно, даёт прибыль. Жестокая конкуренция по производству всего бесполезного – прочно завладела умами на всех рынках бела света. Пошло-поехало. Да. Занятная мысль. Мусор – движитель прогресса. А прогресс – гонка мусора. Вот тебе и весь смысл. Забавный вывод. И довольно на том».
Антон Вельяминович снова достал книжки. Разные с виду. И размером, и цветом. И степенью изношенности. Он положил их на стол в рядок. Осторожно. Положил и отошёл подальше.
«Внутри них есть ответ на твой главный вопрос», – он медленно произнёс эти слова про себя и тут же повторил вслух:
– В записях есть ответ на твой главный вопрос. Если в ненужных тебе книжках, вместо имён мертвецы, то…
Он продолжил прежнюю тему с новыми вариациями:
– Если, конечно, ты считаешь тот вопрос нелишним. Если он сам не является для тебя избыточным. Так будет вернее. Избыточным. Вот вам и иной взгляд на избыточность. Ох, неужели тебе недостаточно тех многочисленных вопросов, на которые ты уже ответил? И хорошо ответил. По крайней мере, недурно оценили твои дела в комитете высочайших наград. Зачем тебе изобилие вопросов? Избыточность зачем? Это же мусор. Ты ведь уже так давеча определил. Мусор – они, лишние вопросы. Потому и лишние. От лихого. От лукавого. А. Забыл. Мусор – на продажу. Сбыть его, и дело с концом. Кому? Тому, кто неспособен ни задать подобного вопроса, ни ответить на него? А где покупатели интереснейших лишних вопросов? Нету. Никому не нужна обуза. Бывает не только главный вопрос, бывает, мысль найдёт и вопрос, получше, поглавнее. Обуза – она ведь тоже мусор. Её всегда хочется вынести. И чем скорее, тем лучше. Просто выкинуть, даже не сбывать. Главный ответ на главный вопрос – обуза. Главная обуза. Не надо её. Не надо мне главных ответов, не надо главной ответственности. Действительно. Её-то уж, ответственность, точно никто не купит. И даже не поднимет. Так-то. Выкидывайте обузу, господа! Всякую. Но особенно её, дубинистую ответственность! Выбрасывайте, если вы случайно не догадались, кому её подобает выгодно сбыть. Видать-то, наконец, и нашлось тебе объяснение природы мусора по-настоящему. У-ху-ху. И снова неожиданно. На главный вопрос ты ответа не получил, потому что не нужен он. Или избыточен. Пока. Или надолго? Но зато разгадал загадку об истинной природе мусора. Обуза, она и есть мусор.
Луговинов глянул в сторону книжек, где скрывался ответ на главный вопрос, и перестал говорить вслух. Но мысль продолжала изливаться. «Ну? Значит, – мусор? Буквенные знаки – мусор? И люди, имена которых там записаны – тоже мусор? И главный вопрос – мусор, потому что он и есть главная обуза? Да. Да. Да. Оказывается, легко избавиться и от главного вопроса и от ясного ответа на него». Антон Вельяминович покашлял в кулак и затем потеребил, как мы только что заметили, не слишком волевой подбородок.
Но спасения от навязчивой тревоги, тоже, по-видимому, сорному приобретению, конечно же, не произвелось, несмотря на утвердительное поддакивание себе. Мысленно освобождение вроде бы сотворилось, а живого воплощения воли не вышло. И спокойствия не наступило. По-прежнему во внутренний мир Антона Вельяминовича продолжал проникать потаённый страх. Страх – перед новоявленным, но обязательным и внезапным проявлением ощущения мёртвого. В любой момент. Эта жуть немилосердно щемила сердце и беспощадно мутила сознание.
А на белом свете существует один славный и испытанный способ не думать о мусоре вообще. Этот способ – увлечься. Неважно, чем. Наилучший приёмчик. Увлекательное происшествие – оно замкнуто внутри себя, оно вообще не предполагает ничего другого, рядом происходящего. Тем более, когда предпосылки вот, на ладони. Был же звонок. Прехорошенький звоночек! Как обозвал это место насмешливый Дорофей Иванович? Виртухец? Да, надо немедленно подаваться туда. В Виртухец, в Виртухец, в Виртухец! В ласковую прохладу милейших рощ, тени которых укрывают несметные кладези, ожидающие новых открывателей. И виза многократная в кармане. И неотложных дел вроде бы нет. Ну, неотложных дел в природе вообще не бывает. Взял, да и уехал.