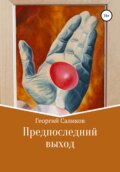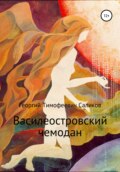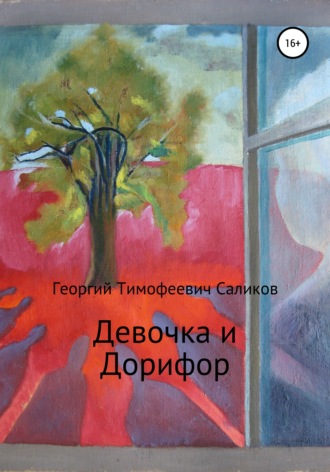
Георгий Тимофеевич Саликов
Девочка и Дорифор
Тебя нет, женщина моя бесценная.
Ты – воздух, облаком растаянна вдали.
А всё вокруг, – копеечки разменные.
И те – на высохшем фонтанном дне…
«Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй»… – тотчас и без перерыва стал повторять бывший художник Даль. Про себя, и вслух. Долго.
За этим занятием и застала Она своего Касьяна.
Прощание обернулось невероятной встречей! Вправду ли Господь услышал мольбу? Миловал. Но это свидание облеклось и новорожденными ненормальностями. Поглядите. Ведь странная весьма приключилась тут встреча, поистине фантастическая, должно быть, встреча миров.
– Ты меня, наверное, не помнишь.
Даль глядел на Неё. Узнавал. Изображение, подобно отпечатку на фотобумаге в проявителе, постепенно становилось очевидным: Она плавно водила головой с боку на бок, будто про себя слушая очаровательную музыку или видя перед собой все прошедшие и будущие красоты мира. Её светлое лицо, почти белое, с матовыми щеками и слегка поблёскивающим лбом, обрамлено пышным покрывалом каштановых волос, мелко-мелко завитых в легчайшие пружинки. Тонкие губы чуть насмешливо изгибались, приобретая затем чрезвычайно серьёзное выражение, и вскоре исчезали, когда она вбирала их внутрь, будто скрывая что-то важное и боясь проболтаться. Глаза, наподобие очертания слив, искрились уголками и зрачками, одновременно смеялись и печалились. И голос, немного низковатый для этого хрупкого существа, что-то доносил до поражённого слуха…
– Я та твоя девочка из детского возраста, на которой ты срочно собирался жениться, не дожидаясь взрослости. Я твоя жена из детства.
Даль кивал головой. Да, в том известном перечне завлекательных историй нашего художника, будто с одинаковой сюжетной канвой, но где каждая из них ничем и ни с чем не схожа да неповторима, – ей не было места, поскольку «в ту пору потенциально не могло произойти страшных последствий». Да. Но если эта девочка и не входила в десяток или одиннадцать замечательных историй, одну из которых он нам поведал, однако и она, в общем-то, не совсем покинула бороздок его памяти. Скрывалась в глубинах. Столь надёжно скрывалась, что ни разу не посмела выйти и веским присутствием перетянуть застывшие качели его изнурительных чувств.
– Забыл, – заявляла она с убедительностью. – Забыл. А я помнила тебя всегда. И теперь, – она подняла голову и потрепала поблёскивающий подбородок. Затем отвернулась от Даля и вымолвила, будто обращаясь к невзначай пробегающему тут совершенно стороннему слушателю:
– И семьи ни с кем не заводила. Ни счастливой, ни неудачной. Ни стандартной, ни уникальной. Замуж ведь не за кого выходить. Все давно выросли, и у всех образовались последствия.
Повернула обратно светящееся лицо, коротко посмеялась, глянула Далю в глаза, широко отворив свои, и довела до конца этот немногословный монолог:
– Я осталась до сих пор одна ещё и потому, что не ждала именно твоего чудесного возвращения в наше тоже чудесное обоюдное детство. Знала, ведь исчез ты из моего вида на веки вечные. Вот и не ждала. Поэтому и не за кого было выходить. Правда, есть поговорка: «лучше поздно, чем никогда»…
Даль зажмурился и вновь открыл глаза. Да, это действительно была Она. Та, кто своим образом обживается в земной женщине. Тем образом, который он замечал во всех проявлениях бытия и запечатлевал в каждой из написанных им картин. Именно Она и никто более. И Её он сумел распознать ещё тогда, в те времена, в коих не бывает «страшных последствий». Перед ним стояло единственное само в себе существо всех миров обитания человеческого воображения. Он глянул на Неё, а в душе его, в мыслях, и где-то ещё в областях сознания, не поддающихся описанию, прошли упругие волны сгустившейся памяти и выбросили на берег очевидности простейшее озарение. Там, в Ней в бездонной глубине женской сущности – на мгновение будто отразились непостижимо меж собой и лицо «жены из детства» и лицо его «нетронутой жены». И вот, иные женщины, его покинувшие, даже не успев с ним сойтись, подключились туда же непохожими друг на друга отражениями, и будто посмеивались оттуда: ласково и доверительно. Они замещались меж собой, выглядывали одна из-за другой, сливались и разбегались, чтоб слиться вновь. Его душа, мысли и неподдающиеся описанию области сознания открыли шлюзы в каскаде хранилищ памяти и приняли эту игру естества. И в тот миг, когда это немыслимое переплетение отражений женщин Даля проявилось одна в одной до переполненности, тут же и ушли они куда-то. Удалились, оставаясь лишь обыкновенным содержанием памяти его. «Все мы – прекрасные дочери Каина, остальное за нас придумывают сумасшедшие мужчины вроде тебя», – повисли в пустующем пространстве слова бывшей жены обыкновенной. Тут и знаменитое обетование в кроне дерева, чуть тронутое временем, чтобы подсказать о себе, но почти неизменное, – будто бы помахало рукой и тоже убыло за ненадобностью вслед за ушедшими женщинами. Тихо и безлюдно вокруг. Никаких тебе отражений. Лишь одно застывшее ожидание. А в нём остаётся трепетная Она и не покидает совместного пребывания. Одна. Ясная – до пронзительности. Окружение, оказавшееся чистым от всего, тоже проявилось предельной отчетливостью, всё и вся пронизывающей. И здесь же явилось обыкновенное человеческое происшествие: Она, будто другая, но Та самая, самая-самая, вообще самая прежняя, и Касьян, будто возвращённый в начало, – оба крепко обнялись. Вот их вновь начатые жизни. «Лучше поздно, чем никогда». И нестерпимую боль – как рукой сняло.
Что же произошло? Касьян глубоко-глубоко впал в себя, в полноту сущности, и оттуда извлёк простейшую истину, искрами источающую самое главное. Ведь когда он обнаруживал очередное жжение в груди от острой влюблённости, случающейся во все прошедшие годы, сердце обжигалось не самим тем, желаемым и единственным, необходимым для прямого ощущения личной жизни и жизни вообще. Нет. Жгло лишь его отражение, возникающее на том или ином человеческом создании. Отражения это. Отражения. Отсветы. Солнечные зайчики. Но ведь солнечными зайчиками и флот неприятельский можно сжечь, мы знаем это из истории. Велика сила отражения. Велика. А постоянная радуга света не обжигающего, не солнечного вовсе, а первозданного, эта радуга, испускающая свечение для того, чтобы человек отыскал в потёмках себя и ощущение жизни как таковой, – вот она. И явилась именно здесь неспроста. Здесь. Впрочем, вполне можно допустить её присутствие и на других клочках пространства, и вообще всегда. А заметил он её только здесь и только теперь.
А поодаль действительно пробегал какой-то совершенно сторонний слушатель. «Ох-с-с-с! – воскликнул он, – позабыли-с. Была ж, была. До начала была, и она же стала после конца. Надо же, позабыли-с. Ах, беда, беда-с. Экий прокол. Не просто прокол, а насквозь-с. Мы ж этак напрочь повергнуты, низринуты-с. Власть наша вмиг оказалась разрушенной до основания… да куда там, – она оказалась ещё дальше, глубже, под основание-с, и ещё дальше, – до самой преисподней-с, нет, ещё дальше, – под неё. Да уже ею и схоронилась-с. Катастрофа несусветная-с. И ничегошеньки не поделать нам. Даже не катастрофа и не беда. Это пропасть какая-то. Ну, художник! Правда, теперь бывший! Рановатенько, видать, отпустили мы его в независимость от нас. Ну, уготовилось вроде ему оригинальное местечко-с в словесной картинке-с бессмертного произведения одного из человеческих гениев-с. Там, в предбаннике ада нашего-с. Вроде бы удачно определили ему это место художественным способом-с. И он будто бы согласился с определением. Сам-с. А мы поспешно решили, что дело с концом, и пора, мол, позабыть о нём вовсе-с. А тут, ну, никаким сверхчеловеческим умом непредвиденное-с. Ведь не зря говорят, что есть места во всеобщем бытии-с, где сам чёрт ничего не разберёт-с. И бывший художник («изобразитель»), он и очутился в этом забавном местечке-с. В неразборчивом-с. Поди, пойми теперь! Ох, самое, небось, лучшее дельце упустили. Самое-самое. Ай-ай-ай-с. Ай-ай… нетушки… нетушки, нетушки, это не мы позабыли, не мы. Это Господь нам нарочно память отшиб. Он! Отнял законную забаву. Отнял! Ох-с-с-с! Ох-с-с-с! Ох-с-с-с!». И только шелест от стороннего слушателя прошёл по траве инфразвуком.
Расспрашивать они друг друга не стали. Похоже, вообще предпочитали молчать. Правильно. Зачем добывать ненужные знания друг о друге? Сидели на траве в полной тишине. А мы? Нам-то чего ждать? Нам что, надо видеть, когда они действительно окажутся в едином и тесном пространстве? Но где? В прошлом? В будущем? В небывалом? В неразборчивом? Нет, господа, в тех диковинных местах нет вовсе никакого пространства: ни тесного, ни открытого. Там, там и там живёт лишь безнадёжность, и она сплавлена в непроницаемое вещество, ставшее твёрже абсолютно твёрдого тела. Ни там, ни там и ни там – нет вероятности что-либо переменить или подстроить по нашему хотению. Ничего невозможно переиначить ни по чьему хотению человеческому, – ни в прошлом ни в будущем, а тем более, в небывалом. И ещё мы знаем кое-что: встречаться не означает сближаться. Даль навсегда изгнан. Изгнан с земли. Он – скиталец. И если вдруг прекратит скитания, тут же, без помех будет изловлен и снова сослан, и ни куда-нибудь, а вообще в неволю. Так что не станем ничем обольщаться. Даже если бы слишком захотелось этой нашей парочке остаться вдвоём, наедине и без страшных последствий, этого бы не произошло никогда. Раньше не произошло, потому что разбежались они, преследуя какие-то не столь необходимые цели, теперь, – потому что их сразу же разлучат чужие для них обстоятельства.
– Пошли, – сказала Она.
– Пошли, – сказал Даль.
И они поднялись, изготовившись идти в противоположные стороны.
– Подожди, – Она взглянула ему в глаза невероятно широко, словно открывая главную тайну, одной лишь Ей ведомую на этой земле, где иногда случается Её пришествие. – Подожди.
Наверное, в том-то и дело, что иногда. Чрезвычайно редко. Потому и взгляд настолько необычен, что описывать оный необходимо тоже с применением странностей, не совсем обычными словами. А мы поторопились в предыдущих строках, и слишком тупо объяснили смысл точно такого же взгляда, проистекающего из очей женской души, принявшей на постоянное жительство непознанную суть.
– Подожди, – сказал лишь Её взгляд вечности. А сама Она тут же решительно отступила прочь от живописца, который по обыкновению жертвует любимыми предметами бытия на холстах, и только для того, чтобы, не отдавая себе отчёта, всюду, из полученного пепелища слагать Её образ.
Он тоже отступил. И быстро зашагал прочь.
Каждый, уже с дальней стороны взглянул на то дерево. Оно едва-едва покачивало ветвями, будто производило болезненное и тягостное дыхание. Блестящие листочки в кроне мелко подрагивали, подобно ресницам, пытающимся не дать пролиться горьким слезам…
Оба они исчезли за пределы нашего повествования.
Вот Касьян Иннокентьевич и стал окончательно недосягаемым для сыщиков да преследователей.
Сторонний слушатель сказал «хм-с» и удалился вовсе в небытие.
Между прочим, сотворённый нами прыжок туда-сюда во времени – завершился под воздействием чего-то, подобного гравитационному полю. Об этом у нас, кажется, было особенное оповещение. А теперь, как мы и обещали, давайте опять окунёмся приблизительно в те дни, когда приключилось Далю удрать от милиции на трамвае. Ну, спустя почти месячишко. Около того. И, попав туда к сему условленному часу, мы видим оставленных нами действующих лиц, нежданно осиротевших и начинающих привыкать к сиротству, застаём их снова на прежних местах, то есть в квартире с окнами, источающими особый свет из фасада дома в окружающее пространство. Они, по-видимому, сопротивлялись новому положению и ждали возвращения отца и бывшего мужа, то есть нашего художника, а правильнее сказать, изобразителя. Но, видать, ожидание в сей же час и сложило все обязательства.
– Виза моя заканчивается завтра, – говорит старшая из них, – надо уезжать.
– Смешно, – сказала младшая.
– От чего смешно?
– От слова. Смешное слово: виза. Похоже на визг.
– Смешное, несмешное, но я успела и тебе изготовить нужную бумажку. Пока на три месяца, а потом видно будет.
– А мне зачем?
– Чтоб въехать за границу, вот зачем. И жить. Разрешение на то надо иметь.
– А папа свободно въезжает. Ловят его везде, но поймать не могут. И не поймают.
– Но для него и границ-то нет. Насколько я помню, никогда и не было.
– А мы с тобой, значит, люди весьма ограниченные, до безобразия ограничены, и смешим друг друга этим дурацким словом. Будто взяли человека, да со всех сторон обложили рамой. Будто он – картина какая-нибудь, и не папина, а такая, законченная. А он, человек, мы знаем, он ведь и не картина вовсе, да если и картина, то уж постоянно незаконченная. Потому что он всегда сам себе автор и всегда с разными задумками. А этого нормального человека почему-то уже сунули в раму. Смешно.
– Смешно, – сказала мама, не окунаясь в мудрствования дочки, и отвела взор вбок, – смешнее не бывает. Собиралась ведь заехать в эту злосчастную Баварию, только чтоб скоренько дела поправить да окончательно перебраться домой. Сюда.
– Правда?
– Я ведь покончила с заграничными приключениями, о которых обещала рассказать, но не рассказала, и не буду. Не стоят они того. Вспоминать их не надо. Я их вычеркнула и сожгла, чтоб не засорять ничьё повествование. Покончила и приехала сюда, чтоб оказаться прежней женой твоего отца. Было поначалу страшно. Ох, страшно. Я не помню, чтоб когда-нибудь в жизни происходили подобные волнения. И надежда была. Светлая. Даже предвосхищениями ублажалась. Заранее знала о решении твоего отца, без раздумий окунуться в наше начало. Он ведь не Отелло.
– Перебирайся, мама, перебирайся. Папа всегда очень тепло о тебе рассказывал, будто и не совершала ты всяких пакостей.
– Нет. Я чувствую. Отец твой теперь уже никогда не выбьется из дальних странствий.
– Когда-нибудь выбьется и переберётся.
– «Когда-нибудь», оно всегда в будущем… а до будущего невозможно достать.
– Мама! И ты ведь становишься у нас философом.
Та отмахнулась обеими руками, но призадумалась над сказанными словами. А девочка мигом сменила тему разговора.
– Мама, – сказала она несколько с огоньком, – а на дуэли они из-за тебя дрались? Небось, приятно, когда за тебя кто-нибудь жизнь отдаёт.
– Был у нас шуточный разговор о дуэли накануне. Похожий на театральный.
– Но шутка оказалась правдой?
– Угу. Правдой. Но совсем другой. Не из-за меня, и не дуэль, и уж, конечно же, не удовольствие.
– Но из-за кого тогда умер твой заграничный ухажёр?
– Отец твой написал записку о причине дуэли и отдал противнику. Милиция потом нашла её. Я прочитала. Милиционер заставил. Обо мне в бумажке не было ни слова. Совсем о другом. Не поняла я той причины. Слишком далека она от жизни.
– Жалко.
– Кого?
– Папу. Это ведь его ты не поняла.
– Я пойду в кассу забирать броню, – с горечью произнесла мама и, с минутку постояв, поглядывая на дочь, вышла.
Глава 44. Возвращение
Один, значит, неизвестный и таинственный художник взял, да создал портрет, или, по его меткому выражению, набросок судьбы учёного Луговинова. Предопределил ли он сим поступком судьбу или ничтожно банальным манером сглазил, нам уже неинтересно. Это лишь примета есть насчёт сглаза или предвосхищения. Но приметы не являются неизбежностью. Им следовать нет неотвратимой нужды. Тем более, подчиняться. Никогда. Силы у них нет, чтоб заставить. В конце концов, даже замечать их не обязательно. А что касается выбора жертвы – в нём вообще тот неизвестный не замешан. Нет у него полномочий. Потому что, как и у примет, кишка у него тонка. Сила сама выбирает, с кем ей будет сподручней. Вот и портретисту или набросочнику не дано чиркать по лицу судьбы, подрисовывать усики да рожки, замазывать её всю и, тем более, назначать ей авторское качество.
Антон Вельяминович Луговинов – существо, которому не стало места в земном будущем. И не по воле художественного воображения какого-то, между нами говоря, прощелыги и бездарности. Просто не стало. Легко и непринуждённо само собой обошлось. Оно, существо наше, надо полагать, затянулось, знаете, затянулось подобно живой ране после прикосновения целителя. Оно действительно было чьей-то раной, и вот уже благополучно затянулось. Зажило. И не тот неизвестный художник Фаты Морганы, а по нам – истый прощелыга и бездарность, по-своему устроил или постановил. Не его на то компетенция. Он даже не удержал учёного в объятьях соучастия. Луговинов сам выбрал, с кем должен соучаствовать. Сам. И присоединился к начальному импульсу появления. Попросту вернулся. Совершил круговое возвращение из долгого блуждания. Но становиться жертвой никогда не думал. Боже упаси. Вернулся туда, в пространство рождения. Потому-то и родное оно. А данное место возвращения – земного будущего не имеет. И не оттого не имеет, будто оно такое болезненное или вовсе гиблое. Оно, по всей видимости, или нам это показалось, просто не умещается на земле.
И Бог тоже просто принял возвращение Антона Вельяминовича. Просто принял простое возвращение. Луговинов стал Им востребованным неотложно по случаю возвращения. Именно так, немудрёно Антон Вельяминович Луговинов оказался вдруг востребованным на небесах. Вдруг. Всего лишь в силу лёгкого размышления о том, с кем соучаствовать. Когда-то он без особого договора с неизвестным источником черноты, и без подписи кровью достиг желаемого результата в этой жизни. Может быть, именно в тот момент Антон Вельяминович, не ведая последствий, без умысла и непреднамеренно, случайно дал устное позволение написать его портрет этому совершенно неизвестному автору, прощелыге и бездарности. Как говорится, отмахнулся, пиши, мол, чёрт с тобой. Ну, не портрет. Набросок. Тот автор и написал. Каляку-маляку. Мало ли чего он пишет и сочиняет, ухмыляясь и гогоча, вскидывая ноги выше головы и потряхивая ими так, что калоши слетают. В том изображении нет осмысленно подкинутого случая и намерения. Меж почти неразличимых штрихов и пятен – лишь игра без особых затей и последствий. Ну, поиграли, и будет. А теперь игры окончены. Подошла пора возвращаться к самой жизни.
Братья собирались со всех концов земли.
– А ты, брат, откуда явился?
Тот оглядывается назад и показывает рукой путь.
– А ты?
Брат пожимает плечами.
– Все мы оттуда, – говорит ещё один брат.
Глава 45. Образ
Рисовальное дело и прочее плоскостное изобразительное искусство тем значимо для нас, что оно не предназначено для изображения лежащих на поверхности предметов. Оно лишь использует изображение знакомых вещей для проникновения в мир образов иного качества, где есть место и сверхземному. Изображаемые вещи служат проводниками или даже неким средством для художественного проникновения. Бывает, конечно, искусство, которое не ставит перед собой описываемой нами задачи. Бывает, скажем, высокое салонное искусство, бывает искусство чисто виртуозное. Бывает и мистификация. Но мы толкуем об искусстве, что не отображает ничего очевидно существующего и не преобразовывает действительность и даже не превращает в существа иные, а именно создаёт невиданный ранее никем образ. Через преодоление общепринятых предметов. Конечно, созданный художником иной образ – тоже не слишком абсолютно небывалый. Он – давно существующий, превосходно существующий. Это если мы касаемся образа сверхземного. А мы о нём и заявляем. Существование сверхземного мира невозможно опровергнуть. Его можно только не видеть. Вместе с тем, есть и вполне очевидные знаки, через которые он показывается вокруг нас. Им несть числа. Однако для возможности уловить и понять их – требуется особое умение. Но бывает, что сверхземной мир будто бы создан художником вновь. Он – художественное открытие, сколь неординарное, столь и чудесное. Художник, сам того не осознавая, пользуется этими редко видимыми знаками. Кстати, сверхземной, именно сверхземной мир будет более точным для нашего размышления, чем принятый всеми неземной. Неземной, он и райский, и адский. А сверхземной это, попросту хотя бы не внутрьземной. Его знаки невидимо, а то и совершенно очевидно пронизывают наше обычное пространство, а мы – либо просто наблюдаем их да наблюдаем без особого внимания, будто насквозь, либо глядим, но почти не замечаем, либо пытаемся сознательно сосредоточить на них наше особое внимание, если удаётся увидеть. Порой мы стараемся их использовать для выражения собственного восприятия того, что они на себе несут. В силу какого-то умения. Осознанно и неосознанно. Чаще – неосознанно. Здесь-то и начинается искусство, о котором идёт речь. В искусстве ищется путь преодоления земного, нащупывается порог, отделяющий землю от иного пространства, того, что сверх неё. Искусство отыскивает для того необходимые знаки. И находит. В результате изысканной работы производится нечто, имеющее отношение к вечности. Отношение. Но не более него, потому что художественное произведение далеко не вечно. Оно, как-никак, – вещь, и вещью пребывает среди нас. Получается, что погружение художника в творческий процесс – опасная из-за несусветности игра в вечность. Роль. Опять игра. Человек любит играть. Кто-то относится к этой игре весьма серьёзно, как подобает обстоятельному игроку, а кто-то – не то, чтобы легкомысленно, а, скорее, без определённой оценки сотворённых дел. Или, наоборот, целиком и полностью осознаёт течение творчества состоянием не игры вовсе, а чуть ли ни молитвы, через которую есть возможность коснуться вечности. Коснуться, но не войти в неё. Есть игра, а есть молитва. Здесь различие состояния души художника весьма значимое.
По-видимому, плоскостное искусство наиболее доступно подобному преодолению, которое мы тут описали, оно сподручней, чем, скажем, любое искусство объёмное, поскольку в нём есть наиболее широкая возможность использования символов и знаков. И явно не претендует на индивидуальную вечность. Оно в чистом виде проводник. Или окно.
Плоскостное изображение не обойдёшь вокруг, а ощупывание не произведёт нужных дополнительных ощущений. Оно позволяет в себя только погружаться, то есть взглядом находить способ создавать третье декартовское измерение, то есть объёмное пространство, и заодно, премного иных, больших измерений, насколько это допускает авторское мастерство и наше воображение. Это и есть главное достоинство плоскостного искусства. Оно заставляет зрителя преодолевать всякую предметность, поскольку на холсте изначально отсутствуют реальные предметы, которые можно потрогать и испытать на ощупь. Оно заставляет проникать в пространство. Порождается цепочка преодоления любого количества земных пространственных измерений, пока не появится беззаботный выход зрению прямо в пространство свехземное. То есть достигается та цель, которую и ставит перед собой искусство. Правда, не всякое, и мы об этом, кажется, наговорились.
Бывает и отвлечённое изображение. Отвлечённое, вроде бы никакое, но завораживающее. Хотя, отвлечённость – тоже попытка что-то преодолеть. Преодолеть предметность. Но та не заставляет углубляться в образ. Наоборот, отвлекает от него, уводит в игровое состояние само по себе. Здесь нет игры во что-то или с чем-то. Здесь игра ради игры. Искусство отвлечения тоже полезно для общества, поскольку оно, по крайней мере, отвлекает от повседневного земного. От обывательщины. Отвлекает, уводит. Но уводит в никуда. Хотя, пожалуй, и это полезно. Оно помогает человеку обрести что-нибудь ему свойственное, исключительно соответствующее вечному желанию. В конце концов, стоит проделать первый шаг, отвести, а там уж сам человек находит пути, куда уйти и двигаться дальше. Тут демократия и права человека. Отвлечение – хорошая вещь. Но оно полумерно. В нём нет незримого для нас пространства сверхземного. В нём и присутствия пространства нет. Уйти, не значит выйти.
Преодолеть вещь и отвлечься от неё – просто, но создать через неё образ иной, этой вещи не принадлежащий, тут как раз и необходим особый труд. Но такое достижимо при условии глубочайшего нахождения себя в истинном человеческом образе. Ведь человек, имея тело, трёхмерное земное тело, иного очевидного образа собой и не представляет. Правда, он сам по себе уже красив. Только вот что интересно: истинный человеческий образ – красивому телу не принадлежит. Он проявляется единожды или много раз, но на момент именно преодоления тела, преодоления объёмного, трёхмерного состояния. Чтобы стать по-настоящему человеческим образом, необходимо преодолеть застилающую глаза привычную телесность. Неужто живое человеческое тело только и способно исключительно к языческому проявлению себя? Хм, Фата Моргана. Чудно это. А ведь всякий человек – ваятель своего тела, одухотворитель его. Тут-то и возникает вопрос вопросов: что является “методикой” преодоления объёмного, трёхмерного состояния? Что это за новоиспечённое искусство – преодоление собственного тела для выхода в сверхземной мир? И где ему научиться? Или истинный образ человека по существу проявляется лишь с отдачей этого тела в жертву? Но где найти способ жертвования? Ну, об уничтожении нет речи, потому что оно бессмысленно: само тело при этом исчезает подобно театральному спектаклю, оставляя память по себе. Да, но мы забыли. Ведь художник Даль однажды высказался по поводу нашего теперешнего вопроса. “Жертвовать – не означает уничтожать”.
Любые образы создаются и передаются беспричинно. Не только в искусстве, но и в обычной жизни – тоже. Вон какой, например, образ нетронутой жены создал художник Даль без использования красок и плоскости. А главное – без участия любых обстоятельств. В обычной жизни создал, не в художественной. Образы создаются творчеством. А творчество – беспричинно. Учёный Луговинов заподозрил, будто создаёт образ апокалипсического чудовища. Бывшая жена Даля завершила создание образов и Даля, и Луговинова с необычайной лёгкостью. В повести Дорифора слепой человек создавал в воображении живописные образы, а глухонемой человек представлял образы музыкальные. Причём невероятно ёмкие, столь многозначительные, которые не способны создавать ни жгуче зрячие художники, ни музыканты, обладающие обострённым слухом. А девочка создаёт образ симпатии в лице живого Дорифора. И тоже без участия обстоятельств. Она же до сих пор не подозревает, что и рисует именно его.
Глава 46. Девочка и Дорифор
Папины картины оставались непочатыми. По-прежнему одеты они в роскошные рамы. На полу. Прислонены к стенам парами, лицом к лицу. Девочка, предвкушая заново поглядеть на родные для неё изображения, разняла одну из этих пар и выставила оба полотна, лицами на себя. Внезапный вид сплошной черноты попросту и обыкновенно поверг её в испуг. Она аж до предела поджала губы внутрь. И подспудно в ней возникло и разом выросло ощущение, будто произошло вынужденное проникновение в какую-то чужую тайну. Однако ничего понятного ей не открывалось в той природе потаенности, невесть кем преподанной. Слишком здесь чужое что-то. Исключительно постороннее. А оно только на то и способно, чтоб ошарашить, поразить ум человека и отравить его сердце. Оттого испуг развился в чисто физическое состояние жара. Она сообщила картинам прежнее положение и, вся пылая, шагнула к другой связке. Боязливо оттянув на себя подрамник, увидела на обеих картинах ту же черноту. И снова губы внутрь, и – очередная волна жара, сменяющаяся холодом. «Ну, ну, хотя бы где-нибудь сохранились прежние изображения, всю жизнь глядевшие на меня со стен»! – Она кинулась уже спешно отгибать остальные створки подрамников, одни за другими. И, скованно стоящие лицом к лицу холсты, будто подчиняясь лишь им известному сговору, явили одну и ту же глухую и тяжёлую непроницаемость. Тяжесть царствовала повсюду. И, явленное нежданным порывом ощущение чужой тайны, столь же сквозило беспроглядностью внутри сознания девочки. Оно продолжало в ней разгораться и разрастаться. Одновременно девочка самыми отдалёнными краями нового ощущения постигала… ну, язык, что ли, новое средство общения умов, пока неуловимое. То был язык ничем и ничуть не приоткрываемой скрытости, куда она попалась не по своей воле. Картины, что ли, переговаривались на том языке? Где-то, вдалеке от сознания, более осязался, чем слышался исходящий от них некий шёпот, доносивший до содрогающегося от жара и холода тела – скорее потерянный, чем снисканный смысл произошедших метаморфоз на холстах. Но он касался только её обнажённых чувств, ничуть не пробиваясь в укутанный рассудок.
Вернулась мама и, мельком взглянув на неподвижную фигуру девочки, собрала в один маленький чемодан кой-какие привезённые ею вещички, бессистемно рассеянные по квартире. Потом принялась выбирать отовсюду вещи для дочки, по её мнению, самые необходимые, и нервно сложила их в другой чемодан, побольше.
– Так, – сказала женщина, застегнув этот второй чемодан, и сфокусировала продолжительный взгляд на бесконечности где-то сбоку и чуть-чуть вверху. – А теперь, милочка, поедем в Мюнхен. Поездом. Будет пересадка в Варшаве, но ничего, погуляем.
– Нет, мамочка, я останусь, – девочка проговорила на прерывистом вдохе. Затем выдохнула, и на остатке выдоха сказала полушёпотом: – я здесь поживу, по бессрочной визе, мне разрешили, – она стояла к матери спиной, не обнаруживая для внешнего наблюдателя особого состояния разгорячённого лица, а за ним, и трепета души.
– Здесь, в этой квартире? – мамин голос прозвучал с оттенками наигранной небрежности, а взгляд воротился из бесконечности к ближнему окружению. Странная интонация дочери её не удивила. Ведь происходит прощание.
– Угу. В ней, – девочка опять глубоко вздохнула, но поровнее, – в этой замечательной комнате с тремя замечательными окнами.
– И с картинами наизнанку?
– Угу. Изнанка бывает иногда интереснее потерянного лица.
– Хм. Одна собираешься жить?
– Угу. Нет. Не одна. С ожиданиями.
– Будешь ждать возвращения отца?
– Угу. Буду.
– Ты думаешь, он вернётся?
– Вернётся. Я знаю. Это очень трудно. Такого даже не бывает. Поэтому как раз и вернётся. Он подоспеет, когда уже никто и надеяться не будет, и расчистит картины, – девочка вдохновилась уверенностью, и голос её обрёл твёрдость.
– А, их, оказывается, надо ещё и расчищать. От чего?
– От копоти жертвенного всесожжения.
– Эка! Ты уже становишься мастером аллегории, – мама не стала допытываться о глубоком смысле услышанного из уст дочери, но поддалась её тону. – Он сам поработает? – спросила она с деланной таинственностью.
– Ему помогут.
– Кто?
– Кого попросит.