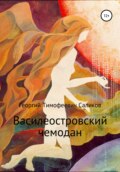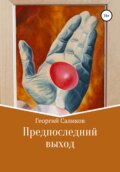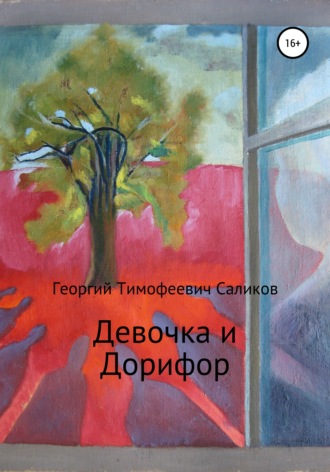
Георгий Тимофеевич Саликов
Девочка и Дорифор
– Папа, но ты же рассказывал мне об отражении, о печати, – сказала она, устанавливая поднос на столе. – Забыл? Говорил, что надо научиться видеть эти отражения и печати. Когда научишься, тогда и увидишь белый свет по-настоящему. Ну, говорил же?
– Угу. Но я не говорил, что уже достиг того.
– А об этом говорить не надо. Об этом труды твои говорят. Объяснили же тебе – о том сами картины твои говорят.
– Вот. И ещё тебе в придачу, – Дорифор чему-то обрадовался, – они сейчас доконают гениального изобразителя. Всё. Не получится, не выйдет у нашего живописца никогда и ничего в течение необъятного будущего. Кончился художник Даль. Хорошо, альбом успели выпустить. Дайте-ка его сюда, – он вынул альбом из скрещенных рук Фотинии. – Пусть порадуется просвещённое человечество, когда увидит истинно настоящую живопись и узнает в ней тебя, пропащего. Хорошо что, без тебя, без твоего разрешения выпустили замечательную штукенцию. Ты ведь теперь круглое ничто. Конченый человек. Конченый, то есть обыкновенный, заурядный, без творческой неизлечимой болезни. А ведь сторонился, чурался, вообще уши затыкал, когда речь о рамах шла, а? Я, говорит, не хочу быть законченным. А теперь каюк.
Даль молчал и кивал головой бочком. А девочка бочком кривила рот. Фотиния боком повернулась к оратору.
– Но ты же лекцию Луговинова не прочитал, – вдруг напомнил Касьяну человек древнегреческой внешности, будто и не наговорил ему разных пакостей, – лучше бы прочитать. Давай, давай, а то мы отвлекли тебя страшными разговорчиками. Надо, надо прочитать, для более полноценного знакомства с грядущим гостем. Где бумажки-то?
После появления приезжей дамы из-за границы, и тоже с подносом, все принялись расставлять и переставлять на столе столовые приборы, пустые и заполненные ёмкости различной величины и вместимости, бутылочки и графинчики.
Девочка ловко раскладывала столовое серебро и столовый хрусталь, одновременно выстреливая взглядом во все части фигуры Фаты Морганы, расставляющей столовый фарфор с изящной замедленностью. Ощущение неприязни к ней беспричинно возрастало в юном сердце, и ничем не скрывалось на деталях лица. Приезжая дама из-за границы, не выдавая усталости, устанавливала готовые закуски. Дорифор, соответственно проворно, распоряжался бутылками. Тётя Люба приводила всю выставку в должный вид законченной композиции, руководствуясь дизайнерской интуицией, и время от времени откидывая спину, прищуривая взгляд и укладывая рот в трубочку, чтоб удостовериться в удивительной складности содеянного.
Художник Даль, Касьян Иннокентьевич разогнул бумажные листы, которые дал ему Дорик, и надел очки.
Глава 24. Виртухец
«Дамы и господа!
Мир настолько многообразен, что само это многообразие несёт в себе таинственность. А любая научная теория – плод синтеза случайно возникшей свежей идеи и накопленной горстки отрывочных знаний из множества обиталищ форм и характеров состояний, переплетённых во Вселенной, видимой и невидимой. Отрывочные знания. Да, знания только и могут быть отрывочными по одной простой причине: они оторваны от Бога. И символом отрывочного знания являются так называемые элементарные частицы. Частица уже сама по себе означает оторванность. Оторванность от пространства. Того пространства, которое и есть весь материальный мир в совокупности. Пространство цельное и оно находится в состоянии некоего внутреннего трепета, порождающего нечто, называемое ныне дуализмом его проявления в виде квантованной структуры. Да пусть там будет ещё и триолизм, и даже квартолизм. Но ведь это не является проявлением собственно пространства. Это результат исчисления ума. Сам инструмент исчисления основан на частях. Таким образом, и любое исчисление предполагает части. Нельзя исчислить того, что не имеет частей. Исчислением не разгадываются тайны природы, они лишь по-своему объясняются. Им человек мыслящий способен лишь фальсифицировать Божий мир, способен заменять его тем, что называет он теориями и моделями. Заменить чем-то исчисленным, моделью…
Но я не буду говорить ни о науке и ни о том, какие горизонты она способна перешагнуть. Я скажу о человеке, о человеке, занимающемся наукой. О человеке, называемым в обществе учёным. Я скажу о том, что перешагивает сей человек. Он, хотя и постоянно отлучается в отдалённые или углублённые миры, пребывая в тисках собственных трудов, но он погружён в общее пространство и в общую жизнь общества, природы, Вселенной… Да. Мы работаем не в башне из слоновой кости, не в комнате, обитой пробкой, ни в капсуле, подвешенной среди небытия. Мы живые люди. А главное – мы наделены бессмертной душой. Я бы даже сказал, что мы, скорее, души, наделённые живым телом. Мы, люди-души, и мы всё-таки не оторваны от Бога. И это обстоятельство налагает на нас прямую ответственность. Ибо ответственность – прерогатива души.
Так что же перешагивает учёный человек? Каждый из нас творит, изобретает. И пусть убедительно выстраиваются небывалые теории или технические совершенства. Пусть они даже очень хороши и чрезвычайно полезны для общества, для людей. Пусть. Но те мы, которые способны создавать, мы не просто выстраиваем новые теории или технические достижения. Мы, попутно с тем, формируем таинственный для нас образ, пока непостигаемый нашим умом. Мы настойчиво строим тот образ, не ведая о том. Через наши новые теории и технические новации мы очерчиваем в упор не замечаемые нами детали того могущественного и действенного образа, которого будто не видим. Но мы его выращиваем и культивируем.
Для чего жива наука? Наверное, чтоб жизнь людей стала уверенней, чтоб зависимости от природы поубавить. Чтоб лучше жить. Просто, наконец, и это главное, интересно устройство мира. Но которого мира? Чьего? Подлинный ли мир мы изучаем или искусную подделку? И наш ли тот мир или чужой? В конце концов, действительно ли мы изучаем то, что изучаем, а не умом создаём его из ничего, и не ведаем о том?
Создавая новые, небывалые умственные построения, и ещё создавая умную и много чего умеющую технику, мы в тот же час, не сознавая того, незримо формируем неподвластные нам черты образа именно того мира, о котором был задан вопрос. Какого? Скорее всего, чьего-то, у которого есть хозяин, и с определённой целью подброшенного нам в качестве жизненно необходимого. Поэтому и неподвластного. Более того, – единственно верного. Значит, можно и чувствовать себя в нём уверенно. Кто-то из нас привносит в него почти незаметную частичку новой черты, кто-то приставляет целую их ошеломительную совокупность. И мы опять-таки не знаем, чей мир мы опекаем, трудясь без устали. Мы не знаем о той незаметной смежной деятельности создания образа, который боготворим. Не ведаем, что творим и чему поклоняемся. И вносим в него лепту за лептой, штришок за штришком, а то и ничтожные частички его черт. Но частички черт способны складываться в крупные черты, те в узлы и далее, и далее. Черты складываются и складываются. Образ вызревает. Каков он?
Но позволим себе задать другие вопросы и попытаемся на них ответить.
Что есть апокалипсический зверь?
Это существо, не имеющее в себе образа и подобия Бога. Вот основная черта. Зверь, вообще любой зверь, не имеет образа и подобия Бога. Не имел, и не будет иметь.
Что есть апокалипсический знак зверя на людях?
Знак зверя на людях – безвозвратная потеря образа Божия, знак отсутствия его, знак окончательного и бесповоротного ухода их от Бога. Оторванности. Причём добровольной. Эти люди, имеющие знак зверя, уже никогда не придут к Богу. Никогда. Потому что они, по сути, утратили Его образ и подобие. Они взамен приобрели другой образ, благодаря которому имеют определённые льготы на существование. Они попросту обнажили в себе действительный образ обычного зверя, стряхнув с себя, в общем-то, никому не заметную одежду Божественного дыхания. Будто обузу, словно стеснение свалили с плеч. Кстати, о пресловутом числе. 666, – это лишь символическая полнота покупательной способности. Ведь известно, что царю Соломону приносили 666 талантов золота в год, – полноту покупательной способности именно царской. И полнота жизни человеческой при царствовании зверя определяется именно этой полнотой, и никакой иной. Однако заметьте: покупать, продавать, – это не Божественная среда. Божественным бывает обязательно дар, причём, безвозмездный, и нет там места покупке-продаже. И душу Богу человек дарит, а не продаёт.
И, наконец, главный вопрос: что за образ выстраивается в новых теориях и технических шедеврах, частицу которого создаёт каждый из нас маленьким штришком?
Кратко обратимся к иной сфере создания образов, к искусству.
Когда художник пишет картину, у него тоже происходит построение нового, невиданного до того предмета, но зачастую всем знакомого в нашем природном окружении. Да, изображённые предметы на картине нам знакомы. Но их показ всякий раз необычен. Предмет показывается художником вовсе не ради него. Через тот предмет создаётся небывалый иной образ. Новый образ. Но не предмета, нарисованного там, а чего-то другого, спрятанного от глаз. Чего? По-видимому, и в нём, в искусстве создаются всякие черты образа уже предуготовленного для нас мира, мелкие и крупные. Какого образа? Дело в том, что человек, став художником, без объяснения причин, заранее находится во вполне определённом мире, непохожем ни на один из прочих миров. Он сам себя определяет в созданное собой пространство. И вполне ответственно. Он с уверенностью знает, где находится. В отличие от учёного. И ведает нам, в силу таланта о том мире, в который себя погрузил. Каждый художник ответственен за те черты образа, которые создаёт и о которых ведает нам. Художник знает об этой чрезвычайной ответственности за каждый штришок, иначе это не художник. Это и есть главное, при создании образов в искусстве: ответственность за создание образа. Наверное, наибольшая ответственность создаётся у иконописца. Он касается образа святости и ведает нам о нём.
Беда иконописцу, если ошибся и попал не туда, не в тот мир. Тогда ничем ему не оправдаться.
Возвращаясь к науке, мы скажем – она тоже обременена ответственностью. Она сквозь всю историю существования несёт никем не снятый груз ответственности. Это безопасность жизни людей. Есть ли учёный, не ответственный за безопасность жизни людей? Такого учёного нет. На ответственности и зиждется основа опубликованных изобретений.
Но этого же мало. Это убогая и однобокая ответственность. Она не ведает главного: в какой мир увлекает людей наука? в мир так называемого разоблачения Божественной тайны? в мир объяснения того, что пронизано таинственностью? А не является ли это явным покушением на тот настоящий мир, который она якобы изучает? Объяснённый мир вместо насущного мира – здесь разве не наблюдается покушение? Ведь любое объяснение – уже фальсификация, подлог, замена. И во имя чего? Кто заказчик?
Зададим ещё раз жёсткий вопрос: в построении чьего образа чьего мира мы принимаем участие? И не стряхнули ли мы случайно с себя одежды Божественного дыхания? Не имеем ли мы уже знака зверя на себе?
Пусть, кто захочет, призадумается над этим вопросом и попытается ответить на него, прежде чем учинит очередной поход в неведомые края науки. Нельзя ошибиться в выборе. Надо хотя бы спросить у себя: а не принимаешь ли ты участие в построении черт образа апокалипсического зверя? Просто спросить.
Теперь я спрашиваю у себя. Этот вопрос я задаю себе. И начинаю с основного: цель, смысл цели. Ради чего производилась моя работа? Ответ настолько прост, насколько и ужасен: создание новой теории, которая опровергает многие имеющиеся. Причём они, опровергнутые, напрямую используются для её создания, они – главный материал, и главный капитал. Они же и отдаются на заклание. Что означает подобная цель? Одно означает – соперничество с Создателем и более ничего. Я ведь не ставлю себе цель разгадать Божий замысел в создании мира. Я понимаю, что подобная цель может родиться только у человека больного. Моя сфера интересов заключает именно само создание, пусть умозрительное, но создание мира. Я выстраиваю его конструкцию, до того не существовавшую. Создаю конструкцию мира и обретаю себя в нём. А если я автор теории мироздания, то кем я именуюсь? разве не соперником Господу? Причём, не жалким ли соперником? Ведь построенное моим умом мироздание неспособно стать даже близким к божественному просто по определению. И далее спрошу: черты какого образа я подспудно создаю при, казалось бы, грандиозном строительстве научного познания? И на этот вопрос ответ потрясающе прост в безысходности: не Бога. Там нет места Его образу. Но там проступает образ Соперника Его. И нам известно, кто впервые решился на соперничество Богу, став за это царём тьмы.
Возможно, столь долго и мучительно выстраивая выстраданную конечную модель всеобщего взаимодействия во Вселенной, мы получим модель, которую справедливо бы назвать моделью «Вселенского падения Люцифера». Как-то так. А затем мы обнаружим, что это лишь частный случай иной модели, которую не менее справедливо можно наречь моделью «Божьей воли».
Вот, при этом случае могу я вполне спокойно объяснить первопричину того образа мира, который создан мной параллельно моей теории. Первопричина – Бог, – скажу я. Он – создатель всего. А вот замысел модели того мира – мой. Модели мира, не образа. Я создаю лишь модель мира, а не сам мир, и не образ его. Нет, простите, это раньше я такими делами занимался, это до того, как увидел, наконец, нечто действительно чего-то стоящее, и не чего-то, а настоящей жизни. Ведь многие и до меня пытались попросту сводить известную науке механику наблюдаемых взаимодействий видимого мира. И я тоже пытался стать главным изобретателем, и одновременно главным механиком изобретённой модели мира. Я мог бы свалить на Бога изобретение, пришедшее мне в голову, и заявить: главный изобретатель вовсе не я, а Бог. Это Он уже давно всё придумал, а я взял, да подглядел. Не разгадал, нет. Подглядел. А из того, что мне приглянулось, я слепил ту модель. И я бы отвёл себе скромную роль главного механика. Можно было бы оставаться довольным ролью, да уйти со сцены. Но возникает ещё вопрос: кем же приходится мне выглядеть при таком суждении? Я полагаю, быть предметом осмеяния – это слишком мягкое наказание. Но теперь, когда я увидел, что ни механика, ни системы, вообще ничего машинное не имеет никакого отношения к Божьему творению, что всё это, – лишь соблазнительные орудия вполне определённого познания мира, тогда же и спонтанно вызрела совершенно иная теория, построенная исключительно на волеизъявляемых соотношениях Божественного разнообразия. Да, разнообразие – основа тварного бытия, а, стало быть, ни о какой механике не может быть и речи. Любая частичка бытия неповторима, то есть, и ни один так называемый фотон не должен повторять другой. Они лишь подобны, как листья на одном дереве, как песчинки одного места. И это является условием их существования. Таково условие дано и для макромира, и микромира. Да, казалось бы, описать эти композиционные соотношения ничем невозможно, поскольку описанию поддаются лишь системы и механизмы, но отнюдь не композиционные построения. Их можно только увидеть. Но можно описать увиденное. И тогда получится ещё один образ. Образ образа. Его я и создал.
Но я надеюсь на малое оправдание моей постановке цели и созданию мной тоже черт и тоже неизвестного образа. Да, я не знаю, чей образ я проявил. И есть две стороны оправдания. Одна сторона состоит в том, что я никогда не помышлял стать соперником Богу, я помышлял стать и стал соперником многим моим предшественникам и отчасти современникам, не более. И не создаю засекреченного от себя же образа, ни апокалипсического, ни просто правдивого, из-за нехватки должного дара. Не обзавёлся такой заманчивой заботой. Другая сторона состоит в том, что я, человек – сам являюсь образом и подобием Бога. Потому я и делаю то же, что Он, – создаю миры. Не в натуре. Лишь в жалких теориях, кажущихся грандиозными и переворачивающими представление о том же мире. Но принимает ли такие и им подобные оправдания Бог, я не знаю, поэтому способен ими только утешить себя.
И премия, которой удостоена моя персона, по-видимому, является вещественным знаком упомянутого утешения. Ибо ничего не делается без воли Божьей»…
Глава 25. Сюрприз
Луговинов появился в квартире подобно прошлому разу, когда возвратился за «мобильником», то есть без обременения звонить. Одним словом, дверь снова оказалась незапертой и даже слегка приоткрытой.
– О, честная компания! – он повертел головой туда-сюда, разглядывая народ подле праздничного стола.
– О, и ты приехала, – обратился лауреат к бывшей жене Даля, – как ты догадалась о моём приходе именно сюда? Сюрприз?
– Она у меня любит делать сюрпризы, – снова сказал последний гость и снова повертел головой туда-сюда.
Народ пока не произнёс ни слова. Кивал головой. Одна лишь девочка успела бросить робкое «здрась» и вопросительно взглянула на матушку, затем на отца.
Мать быстро-быстро двигала яблоками глаз, в связи с чем не смогла поймать вопроса во взгляде дочки, а папа слегка заузил глаза, вдруг переполнившиеся насмешливым светом.
– В общем, приветствую вас, господа, – Луговинов блистательным обличием выказывал настолько ярко сверкающее довольство, что Касьян Иннокентьевич и его дочка, независимо друг от друга и подавляя в себе никчёмный конфуз, перемежёванный с недоумением и насмешкой, тут же догадались, кто пришёл.
Но, тоже сияющий, только роскошной сединой, человек, похожий на Дорифора, исполняя обязанности хозяина, упреждающе поднял руку в сторону вошедшего и принялся знакомить между собой народ и знаменитого гостя.
– Это Луговинов нас посетил, – воскликнул он, – виновник, так сказать, нашей встречи, не буду оглашать повода. Неформальной. Однако чин определённой формальности провести необходимо. А именно, церемонию знакомств, – он торжественно возвеличил голос и взглянул каждому в глаза, выдерживая паузу, подобно драматическому актёру на театральной сцене во время выдающегося спектакля.
– Этот человек, рядом со мной, Даль, совершенно случайный художник Даль, – не оставляя торжественности, продолжил он знакомство и посмотрел в глаза Луговинову.
Последовала новая театральная пауза.
– А это дочка совершенно случайного художника, и надежда наша, тоже будущий художник, но основательный, – он указал кивком головы в сторону девочки и продолжительно сощурил один глаз.
– Эта очаровательная женщина, Люба, закоренелый завсегдатай наших посиделок, опять же художник, и чисто по рождению, та, которая добилась немалых успехов на полях изобразительного искусства и разговорного жанра, – он высоко поднял подбородок и оглядел присутствующих по кругу.
– Это…
– Остальных я знаю и они со мной знакомы, – Престижный лауреат остановил актёра, играющего роль античного героя, – не старайся. Окончена твоя формальность.
Он с подчёркнутостью подробно оглядел убранство комнаты и с восхищением постановил:
– Шик. Дорик, ты действительно, мастер на все руки. А главное, стол теперь в идеальном порядке. И лавочки новенькие.
Дорик тем временем взглянул на Луговинова, развёл руки, а затем краем взгляда задел гостью Касьяна. Та растерянности не испытывала, но и уверенности тоже не приобрела. Сюрприз её шокировал, но до бессознательного состояния не довёл. Она только попеременно опускала голову и поднимала. Глаза её теперь сделались будто стеклянными и неподвижными.
Даль коротко посмотрел на бывшую жену, покривил рот с боку на бок и отвёл взгляд в сторону, примерно туда, где сидела дочка, но мимо неё.
Девочка поочередно смотрела на постоянного и неизменного отца, на вновь обретённую, но временную мать, на знаменитого, но ей незнакомого Луговинова. Удивления она не скрывала. Даже вдруг в ней образовался порыв немедленного бегства с этого почти семейного собрания, поскольку приятного для себя тут заметно поубавилось. Поднялась и подалась корпусом вперёд. Но тут же остановила тот порыв, когда встретила потускневший взгляд отца. Наверное, вовремя одумалась и сразу же сознательно проявила солидарность с папой. Конечно же, она его поддержит хотя бы простым присутствием, спасёт от внезапного одиночества. Потом, по-видимому, чтоб заметно не мельтешить, подошла к матери.
– Расскажу, дочка, обязательно расскажу, – прошептала та, опуская голову, – сегодня же вечером. А сейчас – не я главная в данной честной компании. Потерпи, дочка, – и горестно вздохнула.
Тётю Любу тоже что-то всколыхнуло, непомерно взволновало. Она резко повернула голову относительно остального тела, на манер египетских рисунков. Повернула не для рассматривания чего-то внезапно ею увиденного, а чисто импульсивно, и прикрыла глаза.
Снова взял слово Луговинов. Он не заметил возникшего в посидельческой среде то ли смущения, то ли волнения.
– Об одном хочу я вас попросить: не говорить обо мне в роли победителя. И вообще, ни о премии, ни о науке, прочь всю мишуру. Сам рассказывать о том не буду и вас прошу не спрашивать.
Народ оправился от последствий неожиданности таких-сяких деталей знакомства и хихикнул, дав понять, что не намерен указанной темы ни поднимать, ни задевать. Наиболее уравновешенной оказалась девочка. Она и спросила:
– А тот король, который хорошие премии вручает, по-настоящему похож на короля?
– Ну, – Луговинов почему-то перестал улыбаться, – на короля своей страны он скорее похож, чем не похож. А вообще, если на улице встретить, то навряд ли кто заставит вас перед ним снять шляпу.
– Понятно, – протянула девочка, – и королева у них такая же. Я по телевизору видела, – и она, прищурившись, посмотрела на самую высокую тут женщину, – у нас есть получше.
Луговинов одобрительно кивнул головой и подтвердил, что наши, разумеется, всегда лучше.
Другие гости посмеялись. Фотиния нехитро улыбнулась, но уловила насмешливость девочки в свой адрес. Разговор пока не мог принять непринуждённого вида и более того, вовсе не завязывался, несмотря на активность девочки.
– А можно мне спросить? – Фотиния слегка привстала.
Дорифор, будучи хозяином, принял вопрос на себя и сказал, подчеркнув первый слог:
– Наши, которые лучше, тоже чем-то интересуются. Пожалуйте.
– Спасибо. Скажите, коли о науках и подвигах мы не собираемся говорить, а о погоде и не нужно…
– Да, да, – перебил её лауреат, – над всей Анзехецией идут проливные дожди.
– Дожди, да, – Фотиния замялась, – Анзехеция, как вы элегантно выразились, похоже, простирается в тех же краях, где и ваш Виртухец, это у вас названия загадочные, а места, вполне известные, и там дожди, а над нами, конечно же, ясное небо. Но я вот что хотела спросить: о чём вы чаще думаете в те часы или минуты, когда наука ваша уходит на задний план?
– Такой вопрос из уст женщины, конечно же, провокационный, – Антон Вельяминович обвёл взглядом всю компанию. – Скрывать нечего, конечно же, приходят на ум земные радости. Вам бы надобно услышать подробности?
– Нет, на откровенность вас никто не вызывает. Земные радости понятны. Просто любопытно, много ли вы тратили времени на источник вашего вдохновения, в котором, как известно, велика доля радости и неземной?
Луговинов слегка стушевался и даже пожал плечами.
– Источник вдохновения? – поразмыслил он. – Трудно определить его истинное нахождение. И вдохновение ли оно? Если вы имеете в виду помощника, то и тут не скажешь, кто он. Порой, правда, бывает необходимость в нём. Но, знаете, чаще беспрепятственно ошибаешься и пускаешься за помощью непременно не туда, куда следовало бы. И вообще, подлинного сподвижника не замечаешь, не знаешь, более того, не ведаешь цели, с которой он к тебе подвизался. Вдохновение? Нет. В этом вопросе легко заблудиться.
Возникла пауза. И никто не нарушал её длительности.
Самое время, чтобы поесть и попить. Гости, не сговариваясь, бойко поддались чревоугодию. Молчание тому способствовало.
Дорифор поглядывал на то место в потолке, где раньше успел разглядеть свежие трещинки. И ему вдруг пришла в голову искорка мысли, которой добивался ещё тогда, сидя за пачкой бумаги и делая на щеке вулкан. Тогда, когда обещал себе ту пачку исписать почти мгновенно. Но потом похоронил мысль под событиями иного рода, а пачку бумаги – под инородными вещами. Впрочем, нельзя заподозрить, будто он добивался в тот раз прихода именно этой мысли, посетившей его теперь и этой формы её изложения, которую он вдруг вознамерился озвучить прилюдно. Нет. Ведь последующее тогда секундное видение во время ходьбы по комнате и вращения на пятке – улетучилось. Безвозвратно. Он тотчас же отметил про себя возвращение важной мысли в несколько призрачном варианте, и тут же всего-навсего небольшая игра образов пришла на ум. Она касалась основной, но пока не возделанной нивы неизведанного творчества, касалась косвенно и довольно издалека.
Тем временем, Луговинов, ощущая на себе всю вину заявленного торжества, не побоялся банальности и штампов, поднял бокал и сказал:
– Выпьем же, за прекрасных дам! Наших.
Народ воспринял его слова с большой радостью, тем более что заждался вообще какого-нибудь тоста, а этот первый тост оказался пока что несколько удачным. Затем быстренько закусил и устремил взгляд на тамаду.
– Дорик, теперь ты обозначь нашу церемонию интересным словом, – сказал Касьян, перед тем равнодушно и несколько предвзято разделив радость присутствующих по поводу традиционного тоста Луговинова.
– А хотите, я поначалу вам расскажу одну интересную историю? – воспрянул духом постоянный обитатель гостеприимного помещения, опуская взгляд с потолка, на котором тот оставался во время опрокидывания стопки за прекрасных дам и во время закусывания. Эта история, точнее, повесть, мне кажется, вполне уместна именно прямо сейчас. Мне кажется. – Он имел в виду затеянную в голове игру образов на отдалённую тему всегда ускользающей главной мысли.
– Я хочу, – обрадовалась девочка, – мне нравятся истории, взятые с потолка, – и тут же погрузила голову в шею, оглядывая взрослых.
Взрослые помолчали. В знак согласия.
Дорифор понял настроение присутствующих, вследствие чего и приступил к рассказу.
Глава 26. Повесть о слепом музыканте и глухонемой художнице.
В одном селе, где-то в тёплых краях (где в ближайшей округе обычно по склонам холмов растёт золотой виноград, а издалека доносится рокот морского прибоя), в том селе жил мальчик. Он был слепым от рождения. Ничего не видел. Он даже из рассказов родственников не мог понять, что означает, например, изумление или даже страх перед внезапным ярким светом. Подставляя полуденному солнцу бледное лицо с открытыми глазами, он ощущал от него только тепло. Особое, конечно, тепло, не то, что создаёт жаркий воздух, или прикосновение руки, или пар от горячей пищи. Каждое тепло досконально отличительно для него, в том числе и солнечное тепло. Но ощущение света он имел необыкновенное, непохожее на то, что видят зрячие люди. Лунная ночь вызывала в нём настроение ожидания. Солнечный день бодрил, свет пламени наводил на размышления. Электрическая лампочка заставляла быть равнодушным. И цвет различал необыкновенно. Синее море погружало в поэтические раздумья, а синее небо раскрывало ощущение надежды. Зелень деревьев отражалась покоем, а серость асфальта угнетала нетерпением. И всякое из тех настроений порождало определённую мелодию, которую при желании можно воспроизвести пением или на музыкальном инструменте.
Ещё в одном селе, где-то на севере (где в окрестных лесах не менее обычно растут меж сосен густые поросли серебристого мха и туда иногда заглядывают с неба сполохи северного сияния), в том селе жила девочка. Она была глухонемая. Тоже от рождения. И у неё не существовало решительно никакого понятия об изумлении или страхе, например, другого рода: она даже не могла себе представить, скажем, жуткого грохота или треска. Но звуки различала тоже иначе, нежели человек, обладающий слухом. Журчание ручья придавало цвету воды живительный оттенок. Пение птиц обогащало яркостью листву деревьев, а шум ветра – матовостью. И всякий прочий звук придавал предмету, его испускающему, особую видимую черту.
Идёт время, а они растут. Юноша по-прежнему не способен видеть. Девушка не ведает о слухе. Зато у обоих развиваются и успешно созревают разные дарования. Юноша уже обладает абсолютным слухом и умет играть на любом инструменте, случаем подкинутым ему в руки. Он делает это с большой любовью в течение дня, от его зарождения до замирания, и всё получается у него превосходно. Девушка имеет острое зрение и чуткие пальцы. Она любит рисовать карандашами, углем, мелками, писать различными красками, ещё вышивать и ткать гобелены. И любая работа выходит из её рук видом совершенным и великолепным.
Однажды они повстречались, и тоже в деревне, ещё в другой, где-то в среднерусских лесах (там обычно растёт берёзка и осина и протекает широкая река, огибая лёгкие возвышенности). У этих молодых людей в том селе жили родственники. Возможно, их родители привезли туда. Отдохнуть. Кого от жаркого лета, кого от холодной зимы. Это ими предполагалось. А в действительности они там остались надолго, потому что родители их, по вине случая, окончили в той деревне земной век. Выдался лесной пожар, и несколько человек не смогли выйти из огненного окружения на одной из возвышенностей почти рядом с рекой. Так жестокая природа привнесла в жизнь деревни страшную трагедию, но и ею же – свела наших молодых людей особенно тесно. Хм, они и раньше, как говорится, пересекались друг с другом, деревня-то маленькая, все обо всех знают. Незнакомых людей нет. Но то были обыкновенные встречи, мимолётные. А тут что-то произошло особенное. Их словно бы вновь познакомили другие молодые люди, которые умели одновременно и видеть, и слышать. Играючи познакомили, может быть, и с попросту шутливым умыслом. Ладони юноши и девушки сошлись в рукопожатии, и оказалось, что они хорошо умеют узнавать друг друга чистым осязанием. А ещё, от юноши исходил запах высушенного дерева и тонкого металла, от девушки пахло льном и мёдом. Они сразу узнали и запомнили друг друга ничем не застланным обонянием.
Они стали часто встречаться сознательно. Без игроков-посредников. Юноша изо дня в день спешил ощутить изменения в тепле её рук и насладиться игрой запахов, исходящих от неё. И ещё жаждал слышать трепет её дыхания, шорох волос на ветру, и всякое движение её гибкого тела. Девушке нравилась упругость его пальцев, неизменность обстоятельных запахов музыкальных инструментов, а главное – ей хотелось чаще видеть то неисчерпаемое вдохновение на его лице. А лучше – созерцать его постоянно.