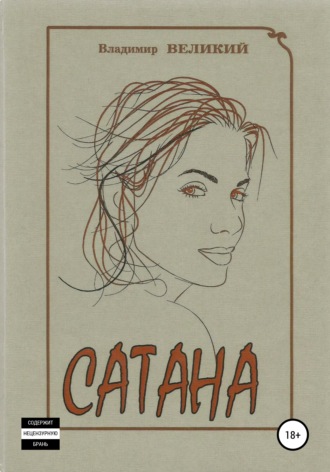
Владимир Великий
Сатана
В эту ночь, когда она увидела ведро с семенами подсолнечника, Елизавета не спала. Она не скрывала в себе радости, что подвозчик уделил ей такое внимание, подарив целое ведро семячек. И не только поэтому она не спала, а если и засыпала, то тот час же просыпалась. Уж больно она боялась за эти подсолнухи, которые были украдены новеньким ради Елизаветы. Она понимала, что за ведро этих небольших по размерам семячек Степанов может угодить на несколько лет в тюрьму. Она боялась и соседей, которые могли проинформировать соотвествующие органы просто из-за зависти, или просто так, для порядка.
Время шло. Каких-либо подвижек в взаимоотношениях Кузьмы и Елизаветы не было. Даже и после того, как Елизавета получила от Кузьмы целое ведро семячек, они вели себя так, как будто и не знали друг друга. Все было так, как и раньше. При встрече друг с другом они говорили за весь день только два слова. «Здравствуйте» – утром, когда начиналась работа, и «До свидания» – вечером, когда заканчивался трудовой день.
Все для Кузьмы и для Елизаветы «разрешилось» в конце июня, в пору сенокосную. Кротиха в этот день была задействована на заготовке сена. Работа была не столько тяжелая, а сколько нудная. В этот день, как назло, установилась очень жаркая погода. Стояло абсолютное безветрие. Парило. Люди, работающие в бригадах, как Бога ждали хромого Степанова с водой, который подвозил холодную воду из водонапорной башни в деревянных бочках. К обеду погода очень резко изменилась. Порывистый ветер сей миг нагнал стаи туч, которые прямо на глазах у работающих в поле, обложили небо темно-синим одеялом. Неожиданно блеснула молния во весь горизонт и раздался оглушительный треск… Дождь продолжался порядка получаса. Ни о какой-либо дальнейшей заготовке сена говорить не приходилось. Косари, копнильщики, стогометатели дружно разбежались в разные стороны, выбирая для поездки домой трактор с прицепной тележкой или пароконные брички.
Приготовилась «штурмовать» тележку с гусеничным трактором и Елизавета Крот. И как раз в этот момент почему-то у нее екнуло сердце. Внутренний голос не то в шутку, не то всерьез спросил женщину:
– Елизавета, ты почему потеряла своего Петра? Он ведь тебя так долго ждал и тоже хочет ехать на этой телеге домой…
На какое-то мгновение женщине стало не по себе. Всем своим сознанием, каждой частицей своего тела она понимла то, что Петр уже очень давно пропал без вести, вполне возможно, даже и погиб. Не зная почему, Кротиха повернула свою голову влево, в сторону длинного, березового околка, который селяне окрестных деревень называли «Тюменским». Повернув голову налево, Елизавета на какой-то миг остолбенела. Неподалеку от опушки леса на поляне Кузьма Степанов собирал полевую землянику. Лошади, запряженные в бричку, мирно щипали траву.
Незаметно для всех, словно завороженная, Елизавета быстро шмыгнула в близлежащий кустарник и легла на землю. Кусты стали хорошим укрытием для женщины, тем более, она была в зеленом платье и в зеленой кофте. «Беглянку» никто в тележке не ожидал. Никто ее и не разыскивал. Через две-три минуты трактор затарахтел. Под веселый гвалт и смех селян тележка неспеша покатилась в сторону деревни. Дождавшись, когда трактор, тянувший тележку, скрылся за лесами, Елизавета встала с земли, отряхнулась и быстро пошла в сторону «Тюменского» околка.
Через несколько секунд она уже более четко видела мужчину в черной, замасленной кепке, которая скрывала его седые волосы. Тот, кто собирал красные, как кровь, земляные ягоды, оторвал на какой-то миг свой взгляд от них и посмотрел в сторону кустов, откуда только что отъехал трактор с прицепной тележкой. Неожиданно для себя «ягодник» в метрах трехсот, а может и больше, увидел женщину, которая уверенно шла в его сторону. Кузьма не мог ошибиться. Это была Елизавета Крот. Какая-то неведомая сила подняла Степанова и заставила его бежать так, как он когда-то в молодости бегал в школе на всевозможных спортивных соревнованиях. На какой-то миг фронтовик, он же командир танка, он же сержант Степанов забыл про постоянно ноющую боль в левой ноге, про те железные осколки, которые остались в груди у него и по сей час.
Сейчас же он бежал, как влюбленный школьник, как пацан, навстречу этой еще недостаточно знакомой, но почему-то такой нужной и близкой ему женщине. Пара лошадей, пасущихся на поляне, иногда бросала ленивые взгляды на бегущих навстречу друг другу мужчине и женщине. Затем лошади лениво опускали свои морды в пахнующую земляникой траву и продолжали ее щипать. Вполне возможно, все это видели и Степанов с Кротихой. Однако им сейчас было не до лошадей. Каждый из бегущих понимал то, что через несколько шагов, через несколько секунд, они прикоснутся руками, губами, своим телом друг к другу и окажутся в мире сладостных чувств и ощущений. И все это вместе будет называться Любовью, без которой невозможно счастье тех, кто жил и живет на этой земле.
Через несколько мгновений женщина и мужчина сомкнулись в объятиях. Елизавета не узнавала себя в себе. Непонятные для нее какие-то не то зеленые, не то розовые огоньки застилали ее глаза. Она почему-то до сих пор не могла отдышаться. Крепко обняв незнакомого и очень близкого мужчину, она нежным и тихим голосом повторяла такие почему-то близкие и в то же время давно забытые для нее слова:
– Петя, Петюша, это ты, мой дорогой… Я так тебя очень долго ждала… Как я по тебе скучала…
Через какое-то время эта же женщина почему-то также любовно и вдохновенно говорила:
– Степан, Степанушка, ты, мой любимый и дорогой. Я так по тебе все эти ночи скучала и думала о тебе, мой дорогой…
Кузьма, обнимающий худые плечи женщины, не поправлял содержание слов, сказанных Елизаветой. Мужчина прекрасно понимал всю боль и страдания, которые перенесла эта женщина-немка. Степанов, гладя шершавой ладонью, которая пахла земляникой вперемежку с запахом тракторного топлива, седые волосы Елизаветы, прекрасно понимал ее состояние. Он и сам за свои годы жизни испил до дна ни одну чашу горя и несчастья. Это прошлое заставляло мужчину сильнее целовать сухие губы женщины. Он и она на какое-то время прерывали свои страстные поцелуи и начинали смотреть друг другу в лицо, как бы силясь по глубоким морщин чуть-чуть больше узнать о жизни друг друга. В это время они ничего не говорили. Мужчина и женщина просто-напросто смотрели друг другу в глаза и наслаждались их теплотой.
Через несколько мгновений их губы вновь и вновь сливались в единое целое… Затем они оказались в пучине любви, любви чистой и прекрасной. Каждый из них старался через такое продолжительное время взять эту любовь с избытком, надеясь возвратить себе то счастье, которое так безжалостно у каждого из них отобрала война.
В деревню Елизавета с Кузьмой приехали поздно вечером. Лошади лениво тянули повозку по деревенской улице. Кое-где лениво тявкали собаки, разбуженные громким пофыркиванием парой лошадей. Спящим обитателям деревни были безразличны те, кто ехал в эту летнюю ночь на повозке. Седой русский мужчина и седая женщина-немка, сидящие в ней, ничего друг другу не говорили. Они, плотно прижавшись друг к другу своими телами, лишь изредка тяжело вздыхали. Также изредка их губы сливались в единое целое…
Кузьма Степанов зашел за пустым ведром к Елизавете Крот через неделю после того незабываемого летнего вечера на поляне у «Тюменского» околка. На следующий год, пятого марта у Елизаветы родилась девочка. Назвала она ее Евой, в честь матери Петра Крота. Кое у кого из «партейных» было предложение назвать новорожденную Сталиной, но Кротиха и Степанов эту идею не поддержали. У селян ни у кого не было сомнения в том, кто является отцом девочки. Да и Елизваета с Кузьмой ни от кого не скрывали своей запоздалой любви. Они были счастливы свой любовью, своим ребенком. Ева росла спокойной девочкой. Наверное, она чувствовала спокойную и равномерную жизнь своих родителей. Через месяц после появления Евы на свет, в избушку Кротихи перешел жить и Степанов. Мужчина оказался неплохим плотником. К осени избушка немки преобразилась. Кузьма перестелил пол в избе, обновил крышу, сделал наличники для двух окон. Многое было сделано им и во дворе.
В избушке значительно стало больше света и тепла. С каждым днем росло взаимопонимание и между русским мужчиной и российской немкой. Все у них, как им казалось, было. Однако чем лучше они жили, тем тревожнее становилось у каждого на сердце… Причиной этому было состояние здоровья Кузьмы Степанова. Танкисту не давали спокойно жить и работать старые фронтовые раны. День и ночь ныла нога. Донимали мужчину и острые боли вокруг сердца. Степанов все больше и больше уединялся в себе, отдавался мыслям, которые были подвластны ему, и только ему. Он довольно часто воспроизводил в своей памяти тот бой под Берлином, когда безусый мальчишка-немец произвел зловещий выстрел по советскому танку из фауст-патрона. Какое-то чудо спасло сержанта от смерти. До великой Победы оставалось всего два дня. Потом были тяжелые месяцы пребывания Кузьмы в госпиталях. Настоящим испытанием на прочность его здоровья и силы мужества явилось несколько сложнейших операций.
Раньше Степанов жил в Белоруссии, жил вместе с родителями. Любимой девушки перед уходом на фронт он не оставил, еще не успел никого полюбить. Да и врага-то он увидел впервые и почувствовал не на передовой, а в своей деревне. Немцы стремительно продвигались вперед, рвались к Москве. Горящую хату, в которой находились родители молодого парня, немецкий танк протаранил вдоль и поперек несколько раз. Единственному сыну просто случайно повезло. Он в это время со своим школьным товарищем был в лесу. Молодой Степанов ушел в партизаны. Потом была передовая. Сын беспощадно мстил немцам за смерть своих родителей.
Елизавета, лежа в постели с Кузьмой, знала то, что ее любимый человек не спит и сама не спала. Она, порою, хотела как-то сгладить боли и страдания любящего ее человека и часто осыпала поцелуями изранненое тело мужчины. На какое-то время они засыпали вместе. Иногда женщина просыпалась и чувствовала то, что Кузьма опять страдает от боли. Перед Новым годом Степанов слег в больницу, через неделю у него ампутировали левую ногу. Попытки врачей вытащить осколки из груди фронтовика оказались неудачными. Во время операции Степанов скончался, не выдержало сердце…
Хоронила Елизавета Кузьму Степанова в первый день вновь наступившего нового года. Выкопать яму для покойника помогли односельчане. Еще долго стояла Елизавета перед свеже насыпанной горкой сибирской земли вперемежку со снегом. Женщина стояла и плакала. Ее слезы, как ей казалось, насквозь проходили через тонкий слой земли и согревали Кузьму, гроб с которым совсем недавно и навечно опустили в холодную яму. Плачущая женщина так и до конца не понимала, кто для нее был этот русский, муж или просто кто-то другой. Как таковой регистрации брака у них не было. Елизавета не делала также и метрики для своей маленькой Евы. Уж больно она боялась, не зная почему, записать в свидетельстве о рождении отцом своей дочери фамилию русского мужчины. Не хотела она писать отцом Евы и Петра, зная то, что это есть заведомая ложь. Немка не хотела чернить светлую память о родителях своего мужа, да и о нем самом.
Петр Крот в Гольдштайн вернулся в августе 1953 года, после смерти вождя народов. Пришел пешком с разъезда, пришел днем. День был на удивление солнечным. На пути к избушке Елизаветы никто из прохожих его не узнавал. Никого не узнавал и Петр. Однако незнакомые для пришельца люди, поравнявшись с ним, произносили короткое «Здравствуйте». В ответ на это путник кивал головой. Среди его приветствующих, мужчина не находил знакомых голосов или лиц. Ведь прошло одиннадцать лет после того, как он кричал из колонны односельчан своей любимой Елизавете:
– Если сын родится, назови его Иваном, а ежели дочь, то, нареки Евой… Ты, поняла меня, Елизаветушка!…
Эти слова он всегда носил в своей памяти и в своем сердце. Избу свою Петр Крот узнал не сразу.
– Да ведь это и вполне правильно… Ведь столько лет прошло, сколько воды утекло… Да и деревня ведь какая стала!, – думал про себя путник и улыбался. Предстоящая встреча с женой и с дочерью или сыном мужчину успокаивала.
Елизавета в этот день не работала. За все лето у нее не было ни одного выходного. Долго и нудно она выпрашивала у бригадира и этот отгул. Уж больно стирки у нее накопилоось, да и по дому была уйма работы. Маленькая дочь Ева в это время играла с соседской девочкой за огородом под присмотром бабки-соседки.
Кротиха, прибрав в избе, стала готовиться к стирке на улице. На плите в большой кастрюле закипала вода. Сама она тем временем штопала платье маленькой дочурки. Внезапно входную дверь избы кто-то без всякого стука открыл. Женщина невольно приподняла голову и перед собою увидела незнакомого мужчину. На вид ему было где-то под пятьдесят, не менее и не более. Незнакомец был высокого роста, слегка сгорбленный. Чувствовалось то, что у него что-то было не в порядке с поясницей, а, может, и со всей спиной. Лицо вошедшего было худое, покрытое густой седой щетиной, нос был прямой. На левой стороне лица были следы не то от шрамов, не то следы от чьих-то укусов. На какой-то миг хозяйке стало жалко этого лысого мужчину.
Хозяйка при виде незнакомого человека, быстро отложила в сторону платье, отодвинула на край стола коробку с нитками и иголками. Затем она встала, и держась одной рукой за краешек стола, а другой поправляя локоны седых волос на голове, тихо и спокойно спросила у вошедшего:
– Зачем пожаловали? Кто Вас послал за мною, наверное, опять бригадир?
Не дождавшись ответа от вошедшего, женщина начала подкладывать дрова в печь. Затем, закрыв при помощи полена металлическую дверь печи, она вновь повернулась к вошедшему и вновь повторила свой вопрос. Пришелец опять продолжал молчать.
Петр сразу же узнал свою Лизоньку. У него защемило сердце от того, что вся ее голова была седой. Две глубокие морщины над переносицей разделяли красивое лицо женщины на две половины. Мужчина к удивлению хозяйки все время почему-то молчал и очень пристально смотрел на нее.
Молчала и Елизвавета, изредко бросая взгляд на мужчину, который был одет почему-то не по-летнему. На нем была довольно поношенная куртка, кирзовые сапоги. Незнакомец, повернувшись боком в сторону питьевого бачка, который стоял рядом возле двери, после некоторого раздумья тихо спросил хозяйку:
– А у тебя, хозяюшка, можно воды напиться?… А то, что-то у меня в горле пересохло…
И затем, не дождавшись ответа хозяйки, мужчина снял ковш с гвоздя на стене и зачерпнул воду. Елизавета заметила то, как сильно дрожала рука незнакомца, когда он подносил ковш к своим губам. Пришелец пил воду очень жадными глотками. Из его глаз текли слезы. Кротихе на какое-то время было даже жалко видеть этого странника, который жадно утолял свою жажду. Одновременно ей было очень противно слышать и видеть, как он не то клокотал, не то стучал зубами о края металлического ковша.
Мужчина, напившись воды, дрожащей рукой стал медленно вешать ковш на стену. Еще не успел он это сделать, как хозяйка, внимательно разглядывая правую руку пришельца, заметила то, что у лысого на правой руке не было полмизинца. Такая «примета» была у Петра, который делая паз в бревне при строительстве избы, непонятно как, отрубил себе половину маленького пальца. На какую-то долю секунды Елизавета вновь посмотрела на сухую, изнеможденную руку мужчины и не знала, что думать. Да и думать-то уже ей было не надо. Пришелец с вещмешком за плечами тихо и спокойно произнес:
– Ты, что хозяюшка, не узнаешь меня? Елизаветушка… Это ведь я, Петр Крот, Крот я… Твой муж…
Услышав этот голос, который когда-то ей был до боли в сердце знакомый, Елизавета на какой-то миг потеряла рассудок. Голова ее невольно стала кружиться, по всему телу выступили капельки пота.
Через какие-то мгновения пришелец и хозяйка дома обнялись, расцеловались. Елизавета быстро накрыла неожиданному гостю и воскресшему мужу на стол. Она и сама не знала того, как ей поступать и что говорить дальше этому очень близкому и в то же время очень далекому человеку. Изредка бросая взгляды на Петра, женщина не могла не видеть его сияющих глаз. Через одиннадцать лет они снова наполнились счастьем. Лысому мужчине казалось то, что все вернулось назад и опять его жизнь с этой женщиной наполнится тем же, чем она была наполнена тогда, когда он уходил в трудовую армию.
С невероятно тяжелым чувством Елизавета села за «праздничный» стол, хотя руки непроизвольно делали все необходимое для угощения пришельца. Женщина сама вытащила бумажную пробку из бутылки с самогонкой, потом наполнила ею до краев два больших граненых стакана. Не зная почему, хозяйка поставила их в центр стола и пристально посмотрела в глаза Петру. Эти глаза, как и раньше, были карими. Сейчас они были только немного светлее и чуть-чуть колючими. Глядя в эти глаза, она знала о том, что Петр, ее муж ждет ответа на свой наказ, которой он просил исполнить свою жену в тот холодный день 1942 года.
Жена Петра Крота об этом наказе никогда и нигде не забывала. Даже за столь длительное отсутствие мужа, Кротиха иногда допускала мысль о том, что еще и вполне возможно когда-то и придет это время, время ответа. И оно пришло сегодня, в этот поистине чудесный, теплый день. Сегодня суд Совести для нее наступил, а может и даже суд Любви. И не только для нее.
Со слезами на глазах Елизавета рассказала своему мужу все и вся, что было и что произошло, и почему это произошло за все эти долгие годы. Рассказала все без утайки, как на исповеди у Бога. Петр ничего не спрашивал у плачущей жены. Он все время молчал и молчал. Закончив свою «исповедь», Кротиха еще раз взглянула в глаза своего или бывшего мужа. Она без ошибки поняла то, что в этих глазах больше нет места для Елизаветы, не говоря уже о месте в его сердце или в его душе.
Известие о непорядочности жены мгновенно пропахало очень глубокую борозду в сердце Петра. Для него самого только сейчас стало ясным, что Елизаветушка, светлый образ которой он носил все эти годы, умерла для него, умерла навсегда. Крот не впал в панику и не стал махать кулаками, дабы приструнить свою «непутевую» бабу.
Лесоповалы, каторжные условия работы в шахтах, голод, холод, научили его ценить эту жизнь, особенно тогда, когда тебе уже и только за тридцать лет… Петр, сидя за столом, и осмысливая исповедь хозяйки дома, все терзался одним и тем же вопросом: «А стоит ли рассказывать этой, уже чужой женщине о том, что он пренес за все эти годы? Ведь все это перенесли тысячи и тысячи людей, которые оказались, как и он, в далеко нелегких условиях страшной войны». Тем более, Крот достоверно не только знал, но и чувствовал каждый день, каждый час приближение своей смерти. Тяжелая болезнь, как наследство спецлагерей, давала о себе знать. Да и поистине трагическая жизнь хозяйки, все ею сказанное нанесло такую рану в сердце мужчины, которая, как он считал, не заживет и до его кончины.
И все-таки Петр Крот решил рассказать о пережитом именно своей жене, той любимой женщине, любовь которой согревала его все эти годы, давала надежду на выживание. Исповедь своего мужа, но и одновременно, и чужого мужчины, теперь слушала и Елизавета. В отличие от Петра она почему-то все время плакала и плакала. Женщина никогда не думала о том, что рассказанный «товарищу» анекдот о вожде народов, может так круто изменить жизнь трудармейца Петра Крота. И не только его, но и ее, Елизаветы, жены этого трудармейца, которая жила в Сибири в глухой деревушке с таким прекрасным названием Золотой камень. Одиннадцать лет неимоверно тяжелой жизни Петра «уместились» в где-то двадцатиминутный его монолог.
После тяжелых совместных объяснений мужчина и женщина какое-то время молчали. Наверное, каждый после своей исповеди перед собой и Богом намечал очередные жизненные вехи. К сожалению, а может и к радости, каждый из сидящих исключал друг друга из совместного будущего. Теперь каждый думал только о себе и только о своем. Никто из молчащих не стремился доказывать свою правоту. Никто из них не думал оправдываться друг перед другом. Никто из них не просил и не требовал делать это от другого.
Оба они были взрослыми людьми и прекрасно понимали, что их любовь была сожжена войной. Одновременно каждый из них понимал, что они вместе и каждый в отдельности выдержали суд человеческой чести. Побежденных и победителей среди них не было. Приговор для обоих вынесла сама жизнь. Переделывать или переписывать историю собственной жизни ни Петру, ни Елизавете было не подвластно.
После некоторого раздумья Петр встал из-за стола, повернулся лицом к Елизавете и крепко пожал ей руку. Затем он развернулся и быстро вышел вон. Елизавета больше никогда и нигде в своей жизни не видела и не слышала о Петре Кроте, своем муже. Да и для односельчан трудармеец Петр Крот пропал без вести навсегда. Еще долго стояли на столе два граненых стакана с самогонкой, наполненных Елизаветой в тот незабываемый августовский день 1953 года. Она очень часто смотрела на них и плакала. Женщина ласково гладила руками стекло мутного цвета, надеясь увидеть в нем отражение своего любимого мужа. Озорной девочке Еве было не до маминых проблем и забот… Через год вдова Ева Крот переехала в село Водяное, которое находилось в Калининском районе Ктомской области. Это было порядком около ста пятидесяти километров от немецкой деревни с прекрасным названием Золотой камень.
Водяное для маленькой Евы Крот было родиной и той единственной деревней, какую она только знала. О других она ничего не знала, как и не знала ничего о своем отце. Только в четвертом классе Ева по-серьезному спросила свою мать об отце. Да и повод был для этого. Учительница попросила своих учеников на очередном классном часе рассказать о своих родителях. Мать очень тщательно готовила свою дочь к этой беседе. Елизавета подробно рассказала дочери о своей совхозной группе коров, перечислила все их клички, даже рассказала о том, сколько молока дает каждая из них. Девочка старательно все это записывала в свою ученическую тетрадь. Об отце своей дочери Кротиха ничего не сказала, а только сдерживая слезы, промолвила:
– Твой отец, Ева, погиб. Ты поняла, он погиб. И об этом ты с гордостью можешь сказать своей учительнице… И еще… Если твой учительнице нужна информация о твоем отце, то пусть она лучше спросит меня. Ты поняла меня, моя доченька?…
Этим и все закончилось. Учительница почему-то больше об отце Евы не спрашивала ни ее мать , ни саму школьницу. Одноклассников девочки судьба ее отца также мало интересовала. К тому же, в классе более половины школьников не имели одного из родителей. Ева училась средне, не очень хорошо, но и не очень плохо. Бывало, приносила и двойки. Мать не хотела иметь проблемы со своей дочерью в школе. И поэтому, даже несмотря на нехватку времени, Кротиха всегда старалась помогать своему единственному ребенку делать домашние задания. Елизавета все время пропадала на ферме. Она рано уходила из дома и поздно приходила. Ева, понимая состояние матери и ее тяжелый труд, старалась учиться более прилежно.
О том, что ее мать немка, девочка узнала только тогда, когда перешла в пятый класс. Для раскрытия тайны опять была причина. В пятом классе дети начали изучать новый предмет «Немецкий язык». В день первого сентября Ева, как и все пятиклассники, получила новый учебник. В самом начале урока, только что прибывшая из районного центра молоденькая учительница Лидия Васильевна рассказала о правилах пользования учебником. Затем она взяла класссный журнал и стала знакомиться с учениками. Дошла очередь и до Евы Крот. Зачитав фамилию Евы, учительница подняла голову и сняв очки, не то полушутя, не то на полном серьезе, спросила у прилежно стоящей возле парты девочки:
– Ева, а ты дома с мамой разговариваешь по-немецки? Я слышала о том, что твоя мама немка. Правильно я говорю, Ева? Или нет?
Пятиклассница ничего на вопрос учительницы не ответила. Она, сильно покраснев от неожиданного вопроса, медленно опустилась за парту. Ева, сама даже не зная почему, прийдя домой, так и не спросила свою мать о своей национальности. Наверное, детский ум не придавал еще большого внимания этому вопросу. В пятом классе, да и во всей школе мало кто из учеников интересовался тем, кто к какой национальности относился.
В том, что ее мать немка и неплохо владеет немецким языком, девочка узнала тогда, когда в их избе появился отчим. Звали его Генрих Иванович. Приехал он весной, когда девочка заканчивала пятый класс. Ничего сверхестественного этот мужчина собой не представлял. Ростом он был даже чуть ниже матери. Все его лицо было в веснушках. Особенно лицо отчима «расцветало» весной и летом, когда нещадно палило сибирское солнце. Рыжими были и его волосы, которые он почему-то рассчесывал на две стороны. Такая необычная прическа мужчины маленькой Еве напоминала в нем не то какого-то дьячка, не то какого-то другого священника. К тому же зубы мужчины были кривыми и прокуренными. Мать привезла Генриха Ивановича из областного центра, когда ездила за покупками для Евы в «Детский мир».
На первых порах отчим для Евы показался неплохим человеком. А может, это только девочке казалось. За столом Ева с матерью и отчимом редко встречалась. Она после того, как в доме появился чужой мужчина, довольно часто стала пропадать у подруг. Как правило, там и делала уроки. Иногда и оставалсь у них ночевать. Больше всех она пропадала у Нины Кулешовой, у подруги по парте. Дружба, наверное, дополнялась еще и тем, что у родителей Нины Кулешовой был телевизор, который в те времена был еще большой диковинкой, да еще и в такой глухой деревне.
Отчим с Евой много не разговаривал, часто сторонился. Возможно, для этого у мужчины были определенные причины. Однако девочка глубоко не вникала в эти отношения. Мать с отчимом в доме почему-то разговаривали только по-немецки. Сначала содержание разговоров Ева вообще не понимала. Чувствуя равнодушное, холодное отношение отчима к себе, Ева стала избегать мужчину. Вечером старалась как можно скорее заснуть. Иногда она не могла долго этого сделать и все время ворочалась в своей постели. Причиной этому было довольно странное отношение отчима к матери Евы. Мужчина, даже после того, как с работы приходила Елизавета, мог громко с ней ругаться, иногда что-то тяжелое швырял в ее сторону . Да и маленькая по размерам избушка не способствовала крепкому сну девочки. Каких-либо перегородок в общей комнате не было. Кровать Евы стояла у стены напротив входа. Кухонный стол стоял возле большой русской печи и это все составляло, так называемую, кухню. Мать с отчимом спали на широкой деревянной кровати, стоящей возле печи. На небольшом круглом столе, который находился в центре комнаты, семья обедала. На этом же столе Ева делала свои уроки.
Генрих Иванович сразу же на третий день после своего появления в деревне устроился весовщиком. Работа была несложная и к тому же и непыльная. Летом же мужчина на работе пропадал целый день. Причиной этому была то посевная, то сенокос, то заготовка силоса. Ближе к осени у Евы даже появилось желание посмотреть как работает ее отчим. К весовой, где работал Генрих Кох, Ева пошла одна. Весовая находилась рядом возле зернотока и зернохранилища. Нет, не заметил Генрих Иванович стройной и красивой девочки с белыми волосами. Даже не посмотрел в ее сторону. Хотя Ева несколько раз прошла мимо больших весов, даже два раза на них «взвесилась».Со слезами на глазах бежала она домой. Горько и обидно было на душе у молодой Кротихи. В этот тяжелый для нее момент, по-особенному, по-детски болело сердце и душа маленькой девочки, которая никогда в жизни не видела своего отца. Не только родным, но и даже близким для нее не стал и этот рыжий мужчина… В этот день девочка для себя дала этому человеку кличку Рыжий…
Сама же Ева для своих одноклассников была ни чем иным, как Кротиха. Ее прозвали так мальчишки. Ева на эту кликуху не обижалась. Да и она кое-когда сама давала кое-кому эти «клички». Правда, все эти клички она, да и не только она, произносила только тогда, когда рядом с ней не было ни учителей, ни пионервожатой, ни взрослых. Для многообразия кличек среди школьников были кое-какие предпосылки. В русской деревне с прозаическим названием Водяное было довольно много фамилий для «творческого» произношения и фантазий: Трикоза, Селезнь, Дураков, Тугоумов, Зайцев…
По мере взросления Ева все больше и больше замечала натянутость в отношениях между ее матерью и отчимом. Девочка все чаще и чаще видела свою мать с заплаканными глазами или с лицом, укутанным в платок. Раньше мать этого не делала, особенно в жару. Определенную разгадку этому Ева нашла поздно вечером, когда проснувшись, захотела выйти во двор. Откинув одеяло, Ева некоторое время соображала о том, как лучше выйти из избы во время темноты и не разбудить мать с отчимом. Вдруг она неожиданно для себя услышала не то сопящий, не то храпящий голос отчима, который по всей вероятности лежал на матери. Странную возню «выдавала» панцирная сетка металлической кровати, которая скрипела как несмазанная телега. Мать в это время что-то со злостью наговаривала мужчине на немецком языке. Тот в свою очередь бранил женищну, и до тихо лежащей Еве четко донеслись бранные слова, сказанные отчимом на русском языке:
– Ты бы лучше, сука, рот заткнула, а то сейчас пойду по деревне и всем расскажу о тебе, шлюха, и о твоей сучке… Одним словом, молчи, пока я тебе не показал то, где раки зимуют…
В том, что эти слова адресовались матери и ей, Еве, девочка не сомневалась.
Наступили очередные и последние каникулы для тех, кто перешел в восьмой класс. Последними они были и для Евы Крот. По-разному проводили каникулы школьники деревни Водяное. Кто-то отрабатывал производственную практику на пришкольном участке, кое-кто уезжал в город к своим родственникам или к знакомым. У Евы Крот ни тех, ни других не было. Собственно говоря, она и на это не обижалась. Да и она ни одна оставалась в деревне. Кое-кто из мальчишек из ее класса в летнюю пору пас совхозную скотину или на пару работал с взрослыми мужиками, копня или метая сено в стога.
Нашла применение себе и Ева. Мать даже прослезилась, когда Ева сама устроилась помощницей поварихи тети Зины, которая готовила обеды для тех, кто работал в поле. Еве нравилось развозить пищу на лошаде, запряженной в телегу. Девушка аккуратно расставляла термоса с обедами, садилась на сидение, которое представляло собой широкую деревянную доску, и по-тихоньку хлестала постоянно спящую на ногах лошадь. Лошадь на ласковые «укусы» хворостины девушки реагировала довольно лениво, иногда для ее раскачки требовался хороший кнут, да и сильная мужская рука. Довольно часто в роли мужчины выступала тетя Зина, которая обладала не только большим весом, но и приличной физической силой. После сильного удара хворостиной лошадь молниеносно просыпалась, и словно ужаленная в одно место, срывалась и неслась не чуя своих ног. Сивуха, так звали старую кобылу, эту прыть «изображала» только несколько десятков метров. Потом она переходила на «прежний режим» работы. Бег трусцой устраивал и животное, и ту молодую девушку, которая гордо сидела на своем сидении и лениво посвистывала. Тем более, Ева ни разу ни в одную бригаду не опаздывала с обедом.






