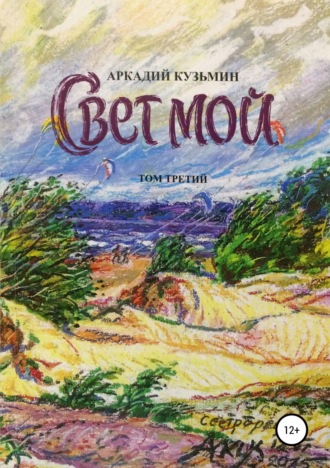
Аркадий Алексеевич Кузьмин
Свет мой. Том 3
– Интересно, да? – моментально вступила Люба в как бы предложенную ей словесную игру.
– Вполне серьезно говорю: ни за что! Не верите?
– Что ж, похвально… Ведь я тоже одну дружбу признаю, а не любовь, за которую впоследствии расплачиваются некоторые… И не время любить теперь…
Сильней послышалось какое-то недовольное и старческое покашливание. Манюшкин заспешил, говорил уже уклончиво:
– Что поделаешь… Бывает… Для меня поэзия – мой крест. – И опять проговорил зачем-то: – Ну, Антон, ты выручил меня – мой спаситель… – И вышел из помещения.
Майор звучно крякнул, стулом заскрипел, вставая. Взглянул на Антона все равно с заговорщически-подбадривающим видом, хотя взгляд его был по-прежнему откровенно грустен.
Этот человек по должности своей занимался обеспечением всех вверенных ему госпиталей необходимым имуществом. Он по складу своего характера беспокойно вникал во все, вечно торопился, много разъезжал, бывая везде на местах, чтобы самому получше выяснить нужду снабжаемых и своевременно получить все необходимое.
Едва все сослуживцы выехали из большого трехэтажного дома, застучали молотки: заколачивались опустевшие помещения – бывшие меблированные комнаты, сдаваемые до войны хозяйкой-полькой внаем. Степенная эта полька, как наседка, стерегла возле своего гнезда трех взрослых сыновей, удивительно несхожих характерами и явно безразличных друг к другу, – вчетвером они обитали наверху деревянного двухэтажного дома, ютившегося во дворе большого, в тени тучного каштана. Сюда, в уютный и деревянный, и перебирались на последний ночлег Люба, два сержанта – Коржев и Хоменко, которые тоже отбывали завтра – с повторным рейсом, и вместе с ними Антон, завтра же выезжающий ездовым на лошадях.
Оживленная Люба и ухоженный Коржев тотчас, заинтересованно уединившись у плиты за приготовлением из сухого пайка ужина, подзадоривающее зажурчали голосами. Опять с бесконечным шептанием, нервным смешком, разговором иногда и вслух, но с какими-то туманными, либо иносказательными недомолвками – чтоб замаскировать на людях полный смысл говоримого ими, трогающего их. Как свойственно, очевидно, молодым людям, между ними возникли чисто товарищеские отношения; у них установился близкий взгляд на многие вопросы, очень волновавшие их. И хотя их обоюдная откровенность в чем-то исключительном для них сама собой предполагала особую тайну от других, все сослуживцы относились с простительным для тех пониманием и сочувствием, ровно к легко больным той известной и понятной всем болезнью, что зовется молодостью, только и всего.
Взволнованная чем-то полька вздохнула и, плотно опустившись в удобное массивное кресло, стоявшее подле угловатого массивного стола, взялась за вязание; спицы, быстро мелькая, побежали в ее белых послушных натренированных пальцах. Однако она внезапно остановила руки и глуховато-строго, осекаясь голосом, спросила у гостей, скоро ли они, русские, освободят, наконец, Варшаву. Уже невмоготу. Сколько лет поляки под немцами.
Подобно большинству поляков-патриотов своей страдающей родины, она страстно ждала скорейшего освобождения столицы от немецких захватчиков, изождалась вся. Да всерьез и опасалась теперь за отдаление того момента, очень сомневалась в том, что русские сумеют уж освободить Варшаву, укрепленную, должно, вдвойне. Она говорила, что ошибку, верно, допустили: не вступили в нее зараз, во время летнего наступления. Немцы сильно укрепились. В Варшаве же в тридцать девятом году остались ее krewni – родственники, и она не знает ничего о них.
Глаза ее увлажнились. Она достала батистовый платочек.
Светловолосый Хоменко с рыжеватой (потому малозаметной) растительностью на щеках и подбородке, заторопился, краснея:
– Нет, неверно и не можно, пани. – И с убеждением и превосходством бывалого тридцатилетнего фронтовика попробовал все разъяснить неверующей хозяйке-польке, поудобнее вытянув со стула еще раненую ногу. – Для нового большого наступления, чтобы всю Польшу, а не только Варшаву, освободить, нам нужно вновь собраться со всеми силами, подтянуть поближе танки, самолеты, артиллерию, продовольствие подвезти, дороги наладить, мосты навести… Глупо без подготовки атаковать мощно вооруженных немцев. Ударить уж наверняка…
Полька уточнила для себя, готовится ли этим часом наступление.
– Наступать сейчас – все равно как пытаться выстрелить из незаряженной винтовки, – сказал сержант.
Хоменко обычно почтальонил, хотя нередко ему приходилось доставлять почту по ночам, под непрерывными неприятельскими бомбежками да обстрелами, – ползком по-пластунски, а где пробежками, совсем как не передовой, достаточно уже знакомой ему. Он вновь на фронте побывал в конце этой весны, после очередной перекомиссии, ходил там в разведку, а уж после третьего ранения и затем выздоровления опять вернулся в свою часть.
Прискорбно полька покачала простоволосой головой: сколько же всякого народа погубили немцы. И поляков также. Насунулся Хоменко:
– Известно. В подвале вашего дома – картотека, тысячи каких-то номерных удостоверений, карточки, пробитые нацистскими печатями и с отпечатками пальцев. Кто же эти люди?
Хозяйка сказала, что это для всех поляков, жителей Белостока, гестапо готовило – индивидуальные номера.
– Ясно. Гестаповцы хотели всех загнать в резервацию. Ну, до конца войны недолго ждать осталось все-таки; как только подготовятся бойцы к прорыву, там уже ничто-ничто не сдержит их. Никакие укрепления. Поверьте…
Однако с недоверчивостью та вздохнула, неразубежденная.
За ужином Хоменко еще больше посуровел. Но только Люба, ухватившая суть хозяйских расспросов, со своим всегдашним задорством заявила, что в таком неверии и щепетильности поляков есть что-то местническое, – он почти с горячностью заметил:
– Между прочим, поляки очень обязательны. Поверьте, в беде не бросят товарища. Я имею в виду единомышленников.
– Вон как обкорнали меня сегодня – похвалился Антон, покрутив головой.
– А что – годится, – сказал на это Коржев.
– Молодая паненка лишние волосы ловко сняла, височки подравняла бритвой. Подушила.
– Смотри, Андрюша, безответно влюбишься… – И в веселых Любиных глазах невозможно было прочесть истинную правду.
Одним вечером Антон одиноко забрел по белостокским улицам западней. И он поежился при виде столь знакомо мрачной картины разора, опустения после многолетней немецкой оккупации. Здесь его теснили в буквальном смысле ущелья – осыпи раскрошенных улиц с лохмотьями листвы деревцев и, словно в давно заброшенной всеми пустыне, вдали от цивилизации, удручала их окаменелая безмолвность, один сплошной их тупик; лишь залетный откуда-то ветерок, играясь, шуршал бумажным и всяким мусором, завивал и плескал в лицо кирпичную пыль; изломанные тени чернели, проваливались куда-то; и никто-никто не выползал наружу ниоткуда, не щурился по-привычке на ясный божий свет – тут уж было некому. Тогда как всего в нескольких кварталах отсюда, восточней, где уцелели дома, уже само собой утверждалась жизнь вызволенных из неволи польских семей – открывались мелкие лавочки, парикмахерские, кафе, аптека и становилось все оживленней. Так, например, молодые паненки даже наряжались ярко и модно, щеголяли в плиссированных юбках. Тем временем по сквозной автомагистрали почти беспрерывно двигались на запад колонны армейских грузовиков – подтягивались вперед советские фронтовые подкрепления и обеспечение…
Итак, вот зияла эта пустошь в центре города, ужасающий памятник насилию немецких нацистов – бывшее еврейское гетто. Именно сюда и забрел Антон. Этот городской квартал фашисты обнесли изгородью и, согнав сюда всех белостокских евреев, а потом угнав одних куда-то в лагерь, не церемонясь, просто-напросто сожгли с частью жертв. Кое-где еще торчал забор со спутанной колючей проволокой; виднелись какие-то разделенные переходы, загоны, точно для скота… Все у вермахта годилось для тотального уничтожения народностей и наций.
«Скрип-скрип-скрип» – мерно поскрипывал на гвозде висящий обломок доски, покачиваемый ветром.
Да, разве воскресишь теперь безвинно убитых, сожженных? Мальчишеский разум Антона отказывался понимать такое. И как нужно было бы сильнее воспрепятствовать тому, чтобы такое не случилось?
В оглядке Антон увидел лишь немощного старика в сером сморщенном зипуне и обвислой шляпе – тот ковылял за тихой рыжей дворняжкой (откуда-то та взялась), ковылял на непослушных, спотыкающихся ногах в истертой обувке. Антон, раскрыв было рот, хотел у него спросить о чем-то; но он подслеповато, хлопая красноватыми глазами, глядел непонимающе оцепенело, точно из под слоя кирпичной пыли. Бескровные губы его заведомо шептали что-то – может, он ласково разговаривал со своей понятливой животинкой (а больше никого у него не осталось) и уж не замечал ничего вокруг. И вскоре завернул куда-то и исчез на глазах, как некое вполне реальное привидение. Как будто уже так сторонился этого места что проказы.
«Скрип-скрип-скрип» – слышалось по-прежнему. Вокруг по-вечернему все уже схмуривалось. И было пора Антону вернуться в часть.
Ночевал же он обычно в одиночку фактически на голубятне – прилепной деревянной каморке к третьему этажу дома, державшейся на кронштейнах. Сюда он залезал по навесной лестнице из сарая наощупь в полной темноте, либо подсвечивал себе зажженной спичкой, так как не было у него никакого подручного фонарика. Но в эту ночь светила рано зависшая над крышами луна. Только казалась она ему какой-то ущербно-тревожной, временами черные тучки застилали ее; сердце его гулко колотилось в груди, когда он поднимался по шатким ступенькам, совершенно безоружный, малый… А ведь в городе еще совершали бессмысленно-дикие вылазки экстремисты-сторонники «польского лондонского правительства».
II
Наутро Антон присоединился к ездовым – несуетливому пожилому Максимову и резковатому носатому Кузину; вслед за ними влез на ящик, предназначенной для него повозки, с непривычностью (отвык) взял в руки вожжи, потянул чуть-чуть и коренная и пристяжная лошади, томимые, должно быть, ожиданием, легко пошли. Зацокали по каменной мостовой подковы; запрыгали три повозки, неистово тарахтя окованными колесами.
Очень скоро они заскользили в общем потоке передислоцирующихся войск. Развлекая Антона, открывалась совершенно малолюдная городская улица; показывались всевозможные дома, особняки, огрузневшие деревья, бездымные фабричные трубы, редкие зеваки.
И все-таки, сидя на передке и осваиваясь прилежно, он правил лошадьми невнимательно, из-за чего, к досаде своей, оплошал. Так, на повороте вместо левой части мостовой уступил встречной подводе правую; а сам, как ни в чем не бывало, объехал ее слева, причем еще понукал крайне удивленную возницу, старого солдата, чтобы тот проехал побыстрей. Да, Антону явно не хватало опыта вождения лошадей в городах. Однако назначенный у них старшим Максимов этого не разбирал – он незамедлил обойтись с ним сурово, без какого-либо снисхождения; обернувшись с брички и сдвигая кустистые брови, он нелюбезно, громко выговаривал ему:
– Что ж ты, парень, никогда не ездил на телегах? Аль заснул нечаянно? Держись справа! Да не отставай! И скотину тоже, чай, не гони напрасно…
Кузин при этом сочувственно хмыкнул, но держал пока нейтралитет. И Антона, нужно сказать, огорчила и расстроила непонятная неприветливость ездовых – с самого начала. Ведь он ничего плохого им не сделал, хлеб у них не отбирал. Отчего же они так неприветливы?
«А Манюшкин ведь говорил, что я ничуть не пожалею… – подумал он – Пусть считает он, Максимов, что я никогда не ездил на телегах…. Но что было, то прошло…»
Впрочем, по булыжнику трясло неимоверно, даже щелкали от непривычки челюсти.
Выбрались за Белосток, и дорога пошла мягче – не булыжная, земляная. Из-за белесых расплывчатых облаков начинала припекать все выше поднимавшееся солнце. Пыль клубилась из-под копыт мерно идущих лошадей, из-под колес и неподвижно – не было ни единого дуновения спасительного ветерка – висела в воздухе, и все покрывала серым слоем. Придорожные насаждения никли листвой.
Ездовые беспрестанно въезжали в общий поток войск, разъезжались с ним (для гужевого транспорта стрелками была указана параллельная основной, но с мягким покровом, дорога), снова съезжались с какой-нибудь насыпи в сторону – и двигались дальше.
Попив водички и напоив лошадей возле желтого тесового домика с колодцем и созревшими на кустах черно-синими сливами, поехали веселее понизу, в тени, вдоль насыпного прямого шоссе, густо обсаженного деревьями.
Вскоре Кузин развесело запел. Он очень верно схватывал какой-нибудь мотив и повторял его с большим удовольствием, не обращая внимания ни на что. Гимнастерка темнела пятнами на его спине – от выступившего пота, а он заливался так, будто был один-одинешенек:
Где ж вы очи голубые,
Где ж ты, прежняя любовь?
Всю-то я вселенную проехал –
Нигде милой не нашел…
В этот момент Антон заслышал чьи-то зовущие его крики. Повернувшись влево, взглянул наверх, на шоссе. По нему неслась полуторка, а в кузове ее, на горке нагруженных штабных вещей, сидели Люба и Коржев и приветливо махали и кричали что-то им, ездовым. Хоменко, возможно, ехал в кабине; во всяком случае, в ней находился кто-то еще, кроме шофера. Эта мимолетная встреча с товарищами по службе (их, видно, отличное самочувствие) почти вернула Антону душевный покой.
Кузин пел себе с наслаждением. А Антон, трясясь на повозке, посматривал в широкую костлявую спину поющего и неотвязно представлял себе простую недавнюю смерть на передовой перекомиссованного ездового солдата Блинова (тоже молодого), того Кузин заменил еще раньше. Вчерашним вечером, когда он попросил рассказать Хоменко о гибели Блинова (все случилось на его глазах), сержант был немногословен, хмур:
– Как там на фронте, погибают? Ночью мы втроем ползли в разведку. И нас нащупали немцы. Накрыли огнем. На ничейной полосе. Двоих убило, меня ранило, да контузило. Потом меня свои вытащили. Вот и все.
– Их похоронили? – спросил Антон осторожно.
– Тоже вытащили, сказывали. У тебя носового платка, что ли нет, Антон? Носом серпаешь ты…
– Серпаешь… Я не слыхал этого еще.
– Народное выражение… Надо бы знать тебе. – И на том кончился разговор.
Непредвиденно передняя повозка стала. Бледный, страдающий Максимов слез с козел и, стоя подле нее и держась за сердце, жаловался напарникам, подоспевшим к нему, на жару; ему было душно – он задыхался.
– Потерпи, отец: дождь, наверное, будет. – Кузин не замедлил поддержать его, поглядел придирчиво на небосклон: – А! Я точно говорю? Спадет духота…
Взглянув тоже не небо, Антон обнаружил, что там, будто что-то в облике его изменилось, перестроилось и даже потемнело слегка. Или так потемнело у него в глазах от ослепительно белых шапок облаков, и закружилась отчего-то голова?
– Первое, это надо б снять напряжение – искупаться, – нереально загадывал Кузин – А потом уж дальше плестись… Я чую, что близко река, да и лошади также поторапливаются сами – верный знак.
Действительно, вот впереди блеснула разлившаяся водная поверхность, окаймленная камышами и кустарником. Повеяло некоторой прохладой. И видно, что последний километр, а то и меньшее расстояние, отделяло их от Немана: шоссейная дорога, с которой они свернули на боковую, насыпью, обсаженной деревьями, становилась все круче и круче, так что почти не видно им снизу проносящихся по ней автомашин. Наконец они снова въехали на шоссе и уперлись в хвост колонны, дожидавшейся очереди съезда вправо – на понтонный мост, наведенный через Неман сбоку взорванного. Здесь колонна уже продвигалась очень медленно, так как пропускались партии автомашин и повозок попеременно – то отсюда, то оттуда (встречный поток – правда, меньший). И пока они дождались своей очереди переезда по этому временному мосту, Антон разглядывал широководную реку и свежие копны сена, темневшие кое-где не ее островках и торчащие перед нею колышки с натянутой колючей проволокой, старался прикинуть для себя, где же и как сумели наши солдаты форсировать ее – с такими-то болотистыми берегами…
К понтонной переправе вел крутой спуск от шоссе, и только пришла их очередь для проезда, регулировщик резко-повелительно взмахнул им флажком; они друг за другом подогнали лошадей своих и галопом, так что звенели колеса, преодолели спуск и за ним мост, чтобы не задерживать здесь никого.
А сразу за Неманом, выбрав подходящую зеленую поляну, распрягли и пустили лошадей: нужно было напоить и накормить их, а также дать им необходимый отдых.
Когда они присели на траву, чтобы перекусить, шумно покряхтывающий Максимов, вроде бы добрея к Антону и точно принимая его в какое-то особое братство ездовых, к которому он сейчас принадлежал, спросил у него:
– Ну, что Антон, тебе знать, непривычно с нами париться? Впервой, знать?
– Как же – не впервые вовсе, – к удивлению своему спокойно сказал Антон. – Ведь я деревенский все же.
– Что, и приходилось иметь, значит, дело с лошадьми? – с некоторым недоверием Максимов смерил его взглядом и притронулся к еде – хлебу с консервами.
– Чего ж, пришлось. В смысле ездить, а не ходить за ними постоянно. Но и то последний раз в сорок первом, осенью, тогда немцы ломили на Москву. Целыми лавинами. Во всеоружии. Я близко видел это. Рядом.
– Что, шел через вашу местность фронт?
– Дважды он перекатился. Но обратно – со значительной задержкой.
– О! Отдать всегда проще, парень, чем вернуть, понятно. Еще в такой адской щеподралке. Все перемололи, пощипали.
Кузин, жуя, проговорил:
– Да, фашисты много всего позволяли себе; вот как они – теперь будут прыгать у себя, в Германии. Допрыгались…
– Их, немцев, при Гитлере как капусту заквасили в кадушке, – сказал Максимов. Он, закусив и потом раскурив самокрутку, залез под повозку в тень, прокряхтел:
– Ох, так и тянет на боковую. – И лег спать.
– Что ж, раз тебе, бедному, не дадут дыхнуть… – Кузин тут подмигнул.
– Да, на меня все можно наложить.
– А чего ж ты лежишь – дурака валяешь? Чего ж не спишь еще?
– Вот оса! – вскипел неожиданно Максимов. – Не мешай! Я ведь о ней вспоминаю: как она там одна?
– Да о ком?
– О своей старухе – о ней. Ох, как скоро время скачет. Не разглядишь. Никак не угонишься за ним. Поспеем ли мы, мужики, домой и новому посеву? – Он вздохнул. – Навряд ли.
Следом за ним Кузин тоже устроился, покряхтывая:
– Ну, как, помогать тебе охать или нет?
– Я не охаю. Не подкушивай.
– Да ведь нарочно дразню… Шуток ты не понимаешь.
Максимов не отвечал напарнику, вскоре захрапевшему.
Солнце еще пекло, распряженные лошади спокойно паслись на виду, и Антон, подойдя по лугу к самому Неману, разлившемуся широко, сел на низкий травянистый берег и засмотрелся на водную гладь, на солнечные блики, игравшие не ней. Шелестела, качаясь, осока зеленая; оранжевые отражения стволов камыша, горя, словно огненные, плясали на голубой воде, и белели повернутые к солнцу его острые листья.
III
– Ну-с, командир, по козьей ножке скрутим, выкурим – и айда дальше, – вслух говорил себе или Антону проснувшийся первым Максимов, обходя бричку и проверяя ее, колеса, хорошо ли лежит – не разболталась ли в пути всякая кладь.
И вот снова на задке брички моталось, бренчало пустое ведро, стлалась пыль.
На рыжем пригорке употелый польский пахарь вспахивал на коняге клин. Максимов, завидев того, остановил лошадей: он хотел не то покурить, не то потолковать о чем-то с ним, и пошагал к нему размашисто по сухой тонкой траве нескошенной. В облысевших казенных ботинках.
Подойдя к распрямившемуся над плугом крестьянину, он любезно попросил для начала дать провести борозду – попробовать, чтобы снова почувствовать в руках плуг. Заметно волнуясь, как на экзамене, повел он легкую, рассыпчатую борозду – руки привычно держали плучьи рукоятки, еще не отвыкли вроде бы. А затем он и Кузин, дымя цыгарками, толковали меж собой по душам.
Ввечеру они завидели справа от шоссе просторную зеленую долину, несколько домов и завернули сюда на ночлег под открытым небом. Остановились недалеко от крайнего сарая и распрягли, наконец, лошадей, желанно почувствовавших хороший корм и отдых. Дневная жара спала, потянуло приятной свежестью с лугов, но было тепло и, пожалуй, прелестно тихо. Лишь в стороне, на шоссе, не прекращалось движение автомашин, слышалось их шелестение и тарахтение моторов; да где-то отдаленно – не то погромыхивала фронтовая канонада, не то зарницы – урчало что-то. В разливах спелых трав клонили книзу свои чашки и шапки позднелетние цветы, надоедливо подзвинькивали над ухом редкие комары; отфыркивались лошади, пущенные пастись на приволье. За поляной тянулась делянка желтого уже, так и полыхавшего огнем, овса, а дальше просеребривалась речка, за которой декорацией смыкался лес. Синяя полоса тумана там тянулась – поднималась…
Антон дежурил и приглядывал за лошадьми в первую смену. Потом, передав дежурство Кузину, для чего растолкал его, он полез под свою повозку, под которой что-то постлал, укрылся фуфайкой – и вскоре с блаженством уснул, позабыв про все на свете.
В середине ночи Антон проснулся и сел в удивлении, вследствие чего – из-за своей поспешности – основательно ударился головой о дно повозки. И сразу пришел в чувство, вспомнив почему он здесь. Этот непредвиденный ушиб стоил ему, конечно же, досады, чертыхания. Ослепительно вокруг сверкали молнии и оглушительно раскатывался гром – все смешалось; но ужасней всего, разумеется, было то, что он уже весь до ниточки промок – вовсю усердствовавший ливень, припускавший все сильней и сильней, казалось, после каждого нового разряда молнии и грома, уже насквозь пробил повозку. И ему было боязно вылезти из-под нее и в тоже время жутко весело.
В свете сверкавших молний он увидел метавшихся ездовых, которые, видимо, пытались собрать разбежавшихся испуганных лошадей; мокрая одежда облепляла ездовых, мокрые волосы у них прилипли к темени; с них ручьями стекала вода и блестели их желтые лица и руки. Под косым ливнем дождя, заглушавших своим шумом, чудилось, все, они что-то прокричали Антону, показывая на темневший рядом сарай с соломенной крышей. Он вскочил и зачем-то понесся туда, повинуясь их приказу, и приник поначалу к бревенчатой стенке сарая – стал под спасительную застреху. Однако это его нисколько не спасло: ливень все косил и доставал его, и вдобавок лило с ветхой, продырявленной крыши. Тогда-то он обежал сарай и, с усилием растворив покосившиеся ворота, влетел в него, на прошлогоднюю соломенную подстилку. Да оказалось, что и внутри его невозможно спрятаться от потоков воды: крыша настолько обветшала и прохудилась, что светилась вся насквозь при вспышках молний; она протекала, точно решето. Оставалось только положиться на милость стихии – и уж как-нибудь переждать ее в открытую – было все равно где стоять под таким небесным душем.
Когда он снова вынырнул из сарая и обежал его в обратном направлении, перед ним возникли снова Кузин и Максимов, тяжело дышавшие.
Они возбужденно говорили:
– Ну, братики-солдатики, такой буланки непослушной, проказницы, я еще не видывал.
– Лошадь – на редкость сообразительная, такая умная. А мы за нее боялись больше всего. Вообще, быстро лошадок собрали.
– Ох, так это чисто у нее получается. Бряк – и уже готово, лежит смирно. Головой к земле. Думает: бомбежка. Кто-то приучил ее. Ох!
Откуда-то сверху на землю упал воробей. Сбитый дождевым потоком. Он отчаянно запрыгал у стенки сарая, пытаясь укрыться от дождя, – и никак не мог ни спрятаться и ни взлететь. Антон стал ловить его. И он словно сам искал в нем спасение – дал поймать себя, прямо-таки прыгнув в его руки.
Дождливая туча прошла, растворилась; восточный край неба засветлел все значительней и значительней, и сон уже не приходил. А потом– с притоком утреннего света – кругом засвистали птицы. Антон дремал, поеживаясь от утренней свежести, и перед его глазами зримо плыл над долиной туманец, и все в нем будто двигалось само по себе. Наконец показалось солнце.
Запрягая снова лошадей, Антон с неудовольствием ощупывал обнаруженную шишку, вскочившую у него на голове после удара о дно повозки, и оба ездовых теперь подсмеивались над ним:
– Ничего, до свадьбы заживет.
И посмеивались над ним местные веселые девушки, которые засыпали воронки и выбоины на обсаженном фруктовыми деревьями шоссе, где они проезжали. Они, видя его, мальчишку в военной форме, на повозке, весело подмигивали и покрикивали, чтобы он объехал их, не мешал им работать, делом заниматься.
– Ишь как молодежь взгалделась! Больно, знать, ты, ездок, им понравился… Девчатам… – прокричал ему, обернувшись, Максимов.
Скрежет окованных колес по гравию да цокот копыт заглушали его слова.
Духота еще не спала, как брички, густо пыля, въехали в польское село Ковалевщизну.
В яблоневых садах, тронутых желтизной, утопали белые мазанки, и в воздухе уже витала грусть тихая, предосенняя.
Лощину, выбранную ездовыми под стоянку с лошадьми, окаймляли сады, огороды, ивы, изгороди и небольшая речка. За нею распласталось голое выпуклое поле, оно светилось под горячечным солнцем, а в ночные часы – под холодной пронзительной луной, заглядывавшей к ним в палатку, в которой они ночевали.
По приезде сюда Антон заикнулся о своем желании вернуться снова в отдел, так как считал свою задачу выполненной до конца. Но старший лейтенант Манюшкин был донельзя увертлив: нет, вдвоем Максимову и Кузину накладно осуществлять разъезды, поить, кормить и караулить лошадей, и вдобавок ремонтировать повозки, сбрую; ты уж помоги Антон, еще немного им, просил он его умоляюще. И, главное, в такой необходимости он сумел полностью убедить и майора Рисса.
Оттого Антон досадовал на себя и различные обстоятельства, мешавшие ему распорядиться собою иначе.
Так, на третий день по приезде в Ковалевщизну, когда он, подменившись у лошадей, пришел пообедать на кухню, размещавшуюся в мазанке, коренастый шеф-повар Петров оговорил его презрительно-грубовато, как ему послышалось в интонации его басистого голоса:
– Ну, уж ты, Антон, мог бы взять еду самостоятельно, а не ждать, когда ее на подносе поднесут тебе; сам отлично знаешь где она. Подходи – бери! – и глядел на него со строгостью, молодой, крепко сбитый. Будто он еще сердился на него из-за того, что он помешал рассказать за обедом что-то интересное друзьям?
На выручку Антону поспела погрустневшая и поскучневшая Настя, повар: она молча подала ему миску с борщом. Этим самым она словно смягчила обстановку – настолько, что сержант возобновил свой прерванный рассказ:
– Однажды тот дежурный офицер, любитель проверок, захотел поймать меня на какой-нибудь оплошности. А был он дока по этой части, всем, кто на посту стоял, насолил. Ну, я и подготовился толком к его провокации, так что думаю, навсегда отбил у него охоту провоцировать… Загнал патроны в ствол и положил его до рассвета…
Затем, подобрев, подошел к Антону:
– Ты извини… Управляешься теперь с конягами?
– Да пока не совсем, – сказал Антон. – Вы же видели, как Манюшкин вильнул от меня прочь.
– Ой, разговорчики, брат… Негоже… – Неодобрительно шеф-повар головою покачал.
– Но поймите: он же точно обещал освободить меня от этого кучерства, как только прибудем на место. Да и там, в отделе майора, – тоже дожидаются меня. А мне приходится слоняться возле лошадей. Ничего не ясно.
– Так ты требуй, коли он, Манюшкин, обещал тебе. Настаивай перед ним решительней. Кто смел, тот и съел.
– Если б не безделье какое-то…
– А ты побольше читай покамест.
Антон не сказал ему всего. Главное, он все-таки неуютно, отчужденно чувствовал себя среди ездовых: не мог никак сблизиться, сдружиться с ними. Это еще его мучило, томило.
Да, и тем более, что согласия, не то, что союза душ, не было меж Максимовым и Кузиным; они чаще спорили, хоть и беззлобно, ненастырно – слишком отличались жизненный уклон и закваска каждого, а также их лета. Пожилой Максимов как бы весь был на виду – совестливо-честен, прям, ершист и непокорен; молодой же Кузин славился своей некоторой пройдошливостью, удачливостью, ловкостью. И поэтому-то незаметный примитивный спор по пустякам (точно бесконечное брюзжание двоих) у них иногда переходил в весьма существенный – о том, как надо жить. Каждый понимал это по-своему.
Еще падал ленивый утренний дождь, когда Антон после сна вылез из палатки. Капли дождя, срываясь, с шумом скатывались по листьям яблонь; висели на стебельках травы, на бельевой веревке, натянутой между деревьев.
Сочно жикала коса Максимова по мокрой напруженной траве. Антон поспешил к нему, в вдвоем они долго работали молча, заготавливая корм для лошадей.
Зато ватага местных польских ребятишек сама нахлынула к нему в лощину. Они отлично понимали друг друга, и польские мальчишки даже помогли Антону накормить и напоить лошадей. А затем по их настойчивой просьбе он показал им, как нужно стрелять из винтовки, – к их общему удовольствию всадил две пули в расщепленную грозой вершину толстой ивы, стреляя прочь от деревни, в сторону пустынного поля.
Потом он, как бы выказывая им и другие свои способности, нарисовал на четвертушке бумаги какую-то девичью головку с локонами. И один из ребятишек, как и подобает в его возрасте, в присутствии своих однолеток, с презрением скомкал рисунок, лишь сказав: «Фи!» И бросил его.
Новые знакомые Антона, в особенности нравившийся ему чистоглазый Пташек, как нельзя лучше разнообразили дни своим постоянным присутствием рядом с ним, дружбой, участливостью и просто ребячьей болтовней. Они угощали его яблоками, сбивая с яблонь оставшиеся после сбора урожая, и еще чем-нибудь; водили к себе домой и по-детски непосредственно хвастались все, что у них было (велосипед или детская комната или книжки).
А он пригласил их всех посмотреть кинофильм «Два бойца», который привезли для кинопередвижки. Собралось полдеревни народу загодя.
Когда достаточно стемнело, фильм проецировался прямо на побеленную стену мазанки, в которой помещалась армейская кухня. И этот фильм, очень человечный и поэтично трогательный – о войне, о любви двоих друзей, и блокадном Ленинграде, сразу взволновал всех собравшихся зрителей высотою чувств, близких и понятных каждому, пусть и выраженных на чужом языке. Антон видел: польские крестьяне и крестьянки ясно улыбались тому, как мило оба бойца ухаживали за девушкой, и печалились тогда, когда с редкой душевностью и грустью один из них пел о темной ночи, и тепло смеялись, если те попадали в смешное положение, и снова напряженно затихали, следя за событиями на экране. Его польские соседи даже прицокнули языком от удивления, что фронт вплотную приблизился к городу (бойцы ехали на фронт трамваем). Все было поразительно. Фильм словно открывал душу всем.





