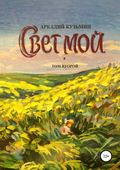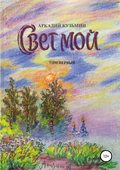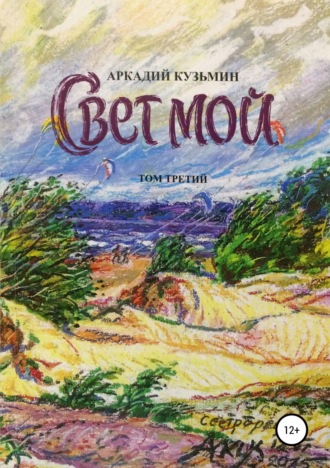
Аркадий Алексеевич Кузьмин
Свет мой. Том 3
Женя пожал плечами и больше покраснел:
– Нет, не знаю. Слышал…
– А знаете, что в ту годину ели дети и на какие лишения и муки люди шли, чтобы все выдержать и спасти их и Родину?
– Право, не помню. Я в таком возрасте был, что от времени блокады (в сорок третьем нас эвакуировали на Урал) только запомнил гулкие шаги по холодной лестнице: «Тук! Тук! Тук!» И запомнил почти такой же «Тук-тук-тук» в дверь квартиры и один неизменный вопрос, раздававшийся из-за нее: «Трупы есть у вас?» Я еще не знал, что такое трупы, – думал, что это как в затейливой сказке какой… еще непонятной для меня… извините…
– Да. Но существует, оказывается, еще страшная драма. Всеобщая у людей. Она стоила только Ленинграду в целый миллион жизней. Унесла их. Ох-хо-хо! А сказка настоящая – это жизнь и даруемый нам мир.
– Ах, мужичишки мои, мужичишки, – проговорил как-то суетно, засопев носом, собираясь добавить что-то и борясь с собой, Илья Федотыч.
VI
В блокноте Антон Кашин записал:
9 мая. 10 час. 50 мин.
Поехали в поселок Мартышкино.
Автобус, грузовая автомашина и старенький москвич, в котором я, Леша Телепов, Нина Павловна и Семен Верный.
Леша расширел. Он, наверное, без очков, но видит, несмотря на возраст. И память у него великолепная: помнит многие фамилии однополчан.
Нежная зелень травы, бегущие ручьи с пеной, моросит, мга, туманно, вуаль деревьев светло-желтая.
Ехали вдоль залива – лодочки и валуны в воде; прохладно, хотя обещали синоптики 12-140 тепла.
Около 11 часов поехали в Таменконг (бывший КП) перед тем как доехать до Мартышкино, перед Срельней, стартовали бегуны из какого-то училища. Так что ехали замедленно, почти шагом. За ними. Потом обогнали, включили скорость.
Лица у бегунов были раскраснелые, потные. Они тяжело дышали.
– Я как привык за возом бежать, так и бежал бездумно всю жизнь, а потом подумал: – зачем мне путаться под ногами молодежи – они уже космосом занимаются – и подался в отставку, – признался Семен.
Улицу уже перекрыли – началось возложение венков. Свернули вправо в гору. Здесь остановились: надо было прихватить еще кого-то. У темных от дождей сараев с дровами почему-то вывешено – полощется белое белье. Мария Михайловна напевает текст песни, которую будут петь у обелиска и запись которой на листке бумаги она держит перед собой.
– Мария Михайловна! Что же делать-то? Эй, Мария Михайловна, кого ждем-то?
Побежали к Польским.
– А ты знаешь, кто пришел! Одного нашего погибшего однополчанина – сын и дочь.
– Он впереди тебя шел в бою? Он проскочил?
– Нет, он там остался. Не догадался солдатик развернуться… Но, сейчас, наверное, уже пройдем…
Действительно: наконец посланная девочка вернулась. Все тронулись, поехали быстрей. Быстрей!
– Давайте! Приглядывайте за нами.
– Что можно сказать. Зря – не зря поддал уже.
Может неприятность сделать.
Немного погода подкузьмила. А может, еще развеется она. Обогнали школьников – те несли венки. Выехали на центр магистрали – была помеха слева – это называется…
– Да, запоздалая нынче весна. Помню, цветы рвали большие. Листья уже были.
Дети по радио услышали объявление о встрече однополчан.
Малую Ижору проехали. На склонах еще лежал снег. В заливе вода серая. Потом пошли сосны с песком. Вода то показывалась, то исчезала, то вновь показывалась сквозь деревья.
– А места здесь хорошие. Этот молодняк – сосенки. Прежде такого выроста не было.
Въехали в Большую Ижору. Бетонка пошла вверх, холмы усыпаны домами.
– Дом проехали. Василевской. Хотя нет. Налево сейчас. Налево.
Подошли к обелиску на братской могиле. На нем значится, что здесь захоронены матросы и солдаты, старшины, сержанты и офицеры 2-ой отдельной бригады морской пехоты, 48-ой отдельной морской стрелковой бригады и других частей приморской оперативной группы 2-ой морской армии Ленинградского фронта и Краснознаменного Балтийского флота.
Красные болота, обомшелые серо-зеленые стволы сосен.
Выступал седовласый (из-под Полтавы), говорил, что здесь лежат такие же юные, как солдаты. Это их преимущество перед нами – однополчанами.
Выступил бывший подполковник из солнечной Армении, весь в орденах. Связист. Говорил о том, что связисты, если становилось нужно, переквалифицировались в разведчиков. Приводили «языков». Один раз пошли двое разведчиков таких – и оба не вернулись – погибли.
Потом выступал украинец:
– Мы прикрыли с юга Кронштадт, мы прикрыли Ленинград. Все выдержали и выстояли. Здесь установлены были сотни мин. Подорвались сотни вражеских танков на них. Очень тяжело все высказать. Надо унаследовать традиции.
Поэтесса прочла собственное стихотворение:
– Кровь в нас, русских, красная течет, чтобы миру мир сберечь…
Что-то в этом роде. Извинилась за то, что, может быть, не очень оно литературное.
Председатель совета ветеранов пожелал всем всего доброго.
Затем была минута молчания. И воинская часть, которая ухаживала за могилами, награждала почетными грамотами ветеранов войны.
Катя досказала, что у них в прежней коммуналке начались с того, что вот Славиной девочке соседской повезло; для нее все ничто: платье – не платье и брюки – не брюки, и туфли – не туфли, совсем же ничто. Она с мужем, должностным лицом, пять лет или больше, прожила в Берлине. А родители ее – из тех обеспеченных, состоятельных, что для любимой доченьки подарок, скажем, меньше, чем импортные лаковые сапоги с чулками за сто или больше рублей из-под полы, у них не существует даже. Всегда она в чем-то новом, без устали шибает всех нарядами своими. Но хотя бы рубль попроси у ней взаймы – ни за что не даст, шалишь: за душою нет. Не сразу и поймешь, что это за человек такой.
– А поймешь – толку что? – сказала Нина Павловна. – Одни огорчения. Вы послушайте – я расскажу, отчего болела моя мать только что, на той неделе. У нас, в ленинградской квартире коммунальной, где она живет уже с тридцать первого года, умерла давняя соседка, Любовь Егоровна, пенсионерка, которая пережила здесь вместе с ней и еще одной соседкой, Марией Яковлевной, сухонькой, подвижной и сейчас, как сверчок, всю блокаду. Дело в том, что последние годы Любовь Егоровна, эта очень несчастная с виду женщина, вела замкнутый, одинокий образ жизни: рослый русый сын ее, удивительно положительный и практичный смолоду Володя, как только отслужился в армии, так женился на своей чернявой Кате, с которой переписывался, и вскоре укатил с молодой женой в Сибирь на новостройку. Он матери оттуда помогал – регулярно деньги присылал, чем она и хвастала нам изредка – никаких же цельных разговоров у нас с ней о чем-нибудь другом не получалось отчего-то. После него близких у нее никого больше не было. Смерть пришла к ней неожиданно. Так что она умирала на руках моей матери и Марии Яковлевны, – они, трое, уже держались вместе с самой блокады – блокада их породнила. Сын поспел лишь на похороны. Прилетел с женой.
VII
– Знаете, ребята, я вам лучше расскажу одну тогдашнюю предновогоднюю историю, – оживился Костя Махалов. – Про абордаж на Черном море. В сорок третьем. В последнюю холодную ночь. Мы, морские пехотинцы, укрылись на берегу в большой землянке, перегороженной нарами; все толпились, согреваясь, вокруг топившейся печки-времянки, сделанной, как обычно, из железной немецкой бочки. Жорка только что притащил откуда-то какие-то грязные мазутные доски, чтобы ими истопить пожарче печку (дров в прибрежье не было). Кто-то поставил на нее в плоских трофейных котелках водицу, чтобы хоть сухарики размочить. И кто-то было вслух размечтался о каких-нибудь подарочках в эту ночь.
Но подарочки-то немцы, не унимаясь, с неба постоянно сыпали – налетали бомбардировщики да хищные истребители – «Мессершмитты» рыскали. А по морю носились, летали немецкие катера и баржи самоходные.
И вдруг объявили тревогу. Прибежал старшина Скочкин и велел живо построиться. Все ребята, строясь, подумали: «Ну, в очередной десант! Хотя вроде бы не готовились к нему – никаких предварительных учений на этот счет не было. Однако, на войне все неожиданно бывает. Главное, не дрейфь!».
А вошедший командир – капитан что-то медлил с приказом. Видно, с духом собирался. Потом сказал:
– Дело, сынки мои, такое. Не могу вам приказывать сейчас. Предстоит необычная операция по ликвидации вражеской баржи.
Все зашумели. Кто-то обронил:
– Ну, вот же говорил: я слышал мотор!
– Кто хочет добровольно пойти на эту опасную операцию, – предложил капитан, – два шага вперед. Задачу вам сейчас объясню.
Ребята все шагнули из строя вперед.
Капитан и говорит:
– Наши посты СНИС донесли, что задрейфовало немецкое судно БДБ – быстроходная десантная баржа: видать, отказали ее сильные моторы в борьбе с волнами. Ее отнесло к самому берегу, на мель, на ничейную, так сказать, полосу, но близко к нам, к Тамани. Однако здесь, на мелководье, наши береговые батареи достать ее не могут. И немцы помощь вызвали по радио. А к барже подойти просто так нельзя. Ее техническое оснащение таково: четыре пушки семидесятипятимиллиметровых, два счетверенных «Эрликона», т. е. двадцатипятимиллиметровые пушки. Это – настоящий морской хищник. Скорость судно развивает до семнадцати узлов; осадку имеет малую – всего каких-нибудь метр двадцать пять сантиметров. Хорошо маневрирует. При такой малой осадке подходит по мелководью к самому берегу и почти в упор расстреливает все, что находится на нем, – селения, сооружения, госпитали. Так что учтите, сынки, эти обстоятельства; подумайте, как будете брать эту акулу на абордаж.
Десантники кучно стояли, на ус наматывали то, что им говорил командир. Они уже высаживались в десант, в боях участвовали, но пока не абордажничали еще. Не шутка ли.
Практически эта посудина немецкая была дешевая. Наши торпедные катера не вступали с ней бой – не торпедировали: торпеда была дороже, да и она могла попросту мимо пролететь при ее-то, баржи, большой скорости. К тому же она еще могла расстрелять запросто катер. Вот какая это была штучка.
Мне исполнился двадцать один год, и я как раз получил от матери из Казахстана, куда ее эвакуировали, письмо; она прислала мне вместе со словами любви материнской и два табачных листика, вложенных в треугольничек, проверенной цензурой. Это был подарок для меня, и мои сослуживцы, товарищи, улыбались этому.
И вот решили этой темной штормящей ночью, как сообщил наш капитан, пустить, чтобы приблизиться к барже вплотную наши мотоботы: захотели взять ее по-средневековьи – на абордаж. Небывалый случай на море в практике отечественной войны!
Мотобот – это все равно что корыто: мотор от автомашины «Зис», и больше ничего. Потому так и назывался: мото-бот – мотор и борт. На каком боте установлен пулемет, а на каком и такового нет.
Добровольцы – мы – отправились в поход на нескольких мотоботах.
Морские пехотинцы по традиции ходили в атаки на немецкие позиции в маскбрюках, сапогах и тельняшках – немцы боялись матросов. Но тут было холодно – мы надели на себя бушлаты. Были в бескозырках.
Штормило сильно. Холодные брызги слепили, жгли наши лица. Ничего не было слышно из-за гула моторов. Волны мощно били в борта мотоботов – так, что они трещали от напора волн – вот-вот могли лопнуть. Как спичечный коробок. Да еще поднялся разом огненный ад вокруг: немецкое судно, команда которого, несомненно, обнаружила все-таки звук работающих моторов, открыла плотный огонь из всех своих орудий. Команда баржи состояла что-то из восемнадцати человек. И когда волна бьет в борт, как в стенку, сильнее и болтанка. Трудно удержаться на ногах, на мокрых скользких досках. Пулеметные трассы обжигали мотоботы. Охнули раненые. Зачерпнули водицы. Тем более что ближе к берегу волны били сильнее, опрокидывали.
Немцам уже несподручно было стрелять из пушек при сближении мотоботов: борта у баржи – высокие – что-то около трех метров, даже нос ее откидывается (при высадке десанта). В общем немецкие солдаты, или матросы, схватили пулеметы, поставили стволами на борта и давай шпарить во все стороны трассирующими пулями – жуть какая!
Пули роем летели, шипели, щелкали прямо рядом с нами, между сидящими, обжигали. Но до баржи огненной было уже недалеко. Расстояние сокращалось быстро. Она темнела, вырастала перед нами на глазах. И то пропадала, то опять появлялась из темной морской бездны; чем ближе к мелководью, тем волны накатывались круче, напористей – черные с беловатой кипящей пеной, как было видно при вспышках трассирующих пуль. И, хотя два мотобота наших немцы подбили, остальные три или четыре, умело маневрируя в этих сложных условиях непогоды и ответного обстрела, с каждой минутой приближались к барже.
При высадке десанта, когда до берега остается совсем немного, прыгаешь на ходу шлюпки прямо в воду и уже, ведя огонь из автомата по берегу – по засевшему противнику. А тут нужно было вспрыгнуть именно на баржу, да так, чтобы тебя не скинули в воду невредимого или раненого; нужно прыгать в один момент – расчетливо. Да, борта у баржи этой высокие, и она сама по себе тяжелее наших суденышек, так что ее мотало слабее, чем наши мотоботы: они взлетали на волнах вдвое выше, чем она. И вот именно в этот момент при самом сближении с баржей, Сашка прокричал так, что все его услышали: «Полундра!» – И по-кошачьи первым взлетел на вражеский борт, орудуя прикладом. И все матросы попрыгали вслед за ним, скользя по мокрым бортам и палубе.
Это абордажем только называлось – не было при этом применено никаких крючков или кошек, чтобы закинуть за борт и зацепиться. На барже завязалась отчаянная рукопашная схватка. Гитлеровцы бешено сопротивлялись. И когда все было покончено и мы проникли в трюм, то что оказалось: баржа целиком была набита рождественскими подарками. Немцы везли их для своих солдат. Yluckliches Neijdhr! – стояло на посылках. Матросы отгрузили их на мотоботы, так как отбуксировать баржу уже было невозможно – до того ее разбило всю о камни. Помощь к немцам не успела.
Мы, десантники, тоже потеряли несколько человек убитыми. Жалко: такие славные и молодые были ребята. Совсем еще юноши. Сомов, мой друг, ранен был: немец поцарапал его кинжальным штыком, когда они сошлись врукопашную и катались по палубе.
С подтопленных мотоботов другие мотоботы ребят подобрали.
И ребята постарались: принесли в госпиталь Сомову пакетик с конфетами и галетами. На аккуратно напечатанной открытке с двумя рыжими оленятами было написано по-немецки: «Будь счастлив!».
VIII
Столь же приятно было пройти тут, по Менделеевской линии, под сенью сочно зеленых лип, вдоль знаменитого красно-белого университетского здания, и вдруг почувствовать себя властителем своих возвышенных дум, не задавленных городскими коробками. И не потому ли Лущин, мужчина-крепыш, многоопытный редактор научного университетского журнала, столь воодушевился (видно из-за особой, витавшей здесь ауры) в разговоре с шедшими с ним рядом друзьями – Махаловым и Кашиным, что аж заглядывался на прохожих студенток, как бы подыгрывая любвеобильности, донжуанству. С кем из просвещенных ученых мужей не бывало чего-то подобного!
– Ну, кошмарики! Кошмарики! – пролепетал некий встречный тип в чепче. К удивлению то услышавших. И вмиг забывших. Потому как пролепетавший тип моментально исчез за углом.
– Вот двенадцатый сонет Шекспира, – игранул глазами Лущин, затянувшись сигаретой, причем у него специфически подергивались желтопрокуренные пальцы. И, как частенько с ним бывало, очень кстати продекламировав застрявший в голове отрывок из перевода английского классика, заговорил о том, как несправедлива эта ноша все-таки – одну или одного век любить. Ведь каждая новая любовь нас молодит, она вносит обновление в наш организм; но мы зачастую не можем, не смеем – в угрозу общественной морали – пойти на разрыв прежней. Часто это – трагедия для нас… Разорвать сложившиеся семейные отношения друг с другом… Что же делать?
Лущин бы весьма верный и положительный муж и отец взрослеющих сына и дочери. Отчего же он заговорил таким крамольным образом? Взыграл артистизм?
– Брось, Николай, – возразил вольнолюбец Махалов, явный монархист во всем. – Никакой трагедии в этом нет, а если есть, то лишь потому, что люди сами для себя выдумали и законы, и мораль, и права. Согласитесь…
– Ты – чудак, Константин! Человек и отличается, скажем, от обезьяны тем, что размышляет иногда. Пусть и примитивным образом. Как получается у него.
– Вот именно думает: ту или иную ему любить, если он нормальный мужик, не гей; а обезьяна – она-то теорию Дарвина не изучала – очевидно, не способна мыслить похоже избирательно. – Махалов имел любовные грешки перед Ингой, своей женой, и теперь будто отстаивал какое-то такое право на свое поведение.
– Позволь… Ты как юрист, подходишь ко всему, находишь тому оправдание. С вами, законниками, не поспоришь всяко.
– Стараюсь дорогуша, Коля, оправдать свою учебу пятилетнюю. – И Махалов похлопал друга по плечу. – Не взыщи…
Да уж и замедлил тут свой шаг. Он тоже увидел, что впереди, на истертом асфальте, перед каменными колонками, подпиравшими своды четырехугольного двухэтажного исторического здания песочного цвета, где располагались аудитории университета и издательство, стояла в напряжении, держа в руках перевязанную стопку книг, Оля в пастельном светлом платье, – стояла, прижмуриваясь от встречных солнечных лучей и всматриваясь в походивших сюда людей, стараясь не пропустить Антона. Антон схмурился, гадая: «И что за блажь принесла ее сюда ко мне, коли все кончено между нами? Что – затмение на нее нашло?» Костя уже видел ее раза два и знал от друга об ее неожиданном демарше перед ним, и поэтому, узнав ее, нахмурился и смотрел на нее в упор не мигающими испепеляющими (из-за ее измены другу) зелеными глазами, о чем никто его не просил. Но ему настолько досадно было почему-то.
– Вот я привезла тебе, возьми, – залепетала она по-быстрому, смущенная вниманием Антоновых друзей. Глаза прятала.
Антон инстинктивно двинулся к Оле, подхватил довольно тяжелые книги.
– Пошли, пошли! – сказал он холодно-хмуро. – Провожу тебя.
Да и в сей же момент с друзьями буквально столкнулся нос к носу вышагнувший на свет из прохода здания именитый импозантный профессор-биолог Титов (ставший уже белокудрым), тот государственный человек, которого Ленин, с кем он некогда дважды встречался, самолично назначил во главе комиссии, организованной для борьбы с голодом крестьян в России. И такой-то факт был в биографии тогда молодого ученого. Было ведь всякое. И тут профессор в серо-синем костюме, при галстуке, в серой шляпе, столкнувшись с друзьями, с которыми уже был знаком по работе, тотчас же радостно поприветствовал их всех и, проникновенно говоря каждому какие-то любезно-приятные слова (в том числе и смущенной Оле), поздоровался с каждым за руку и даже касался ласково руками плеч друзей.
– Игорь Артемьевич, горлиту что-то не ясно в Вашей монографии, – сказал ему Махалов, будучи уже тертым калачом – издательским художником его книги. – Там есть какие-то вопросы к Вам. Может быть, зайдем туда сейчас? Здесь недалеко. На набережной…
– А что такое горлит, любезный? – задал вопрос Игорь Артемьевич.
– Попросту: цензура. Разрешительное учреждение.
– И что: она разве есть в нашей стране?! – искренно удивился профессор. – В моей работе секрета никакого нет! Она сугубо о растениях.
Все заулыбались.
– Вы там так и объясните, Игорь Артемьевич.
– Я исследую полезные свойства ядов и фитонцидов растений – наука очень молодая: что можно использовать, скажем, в медицине врачам, в биологии биологам, в питании кондитерам, какие есть замечательные биологические факты, закономерности и открытия в растительном мире, достойные внимания людей. – Как процитировал это Игорь Артемьевич.
–Обязательно идемте, Игорь Артемьевич, спасать Ваши растения…
– Чудно! А я-то считал, что есть что-то сонное в нашем царстве. Хоть ори накрик – мало что сдвинется с места. Не так?
– Нет, профессор. В нашем издательстве, например, уже выработался хватательный инстинкт. Рукописей мало.
– Бросьте клич! Позовите авторов!
– А платить кто будет? У нас не пошикуешь…
– Ну, тогда идемте, разрешим товарищам все сомнения насчет растений.
– Да, конечно же тем самым ускорим выпуск Вашей книжки, думаю.
И Махалов вместе с Игорем Артемьевичем направились обратно вдоль Менделеевской линии – к Неве, в синеве которой – ее ленточке – плясали солнечные звездочки, капельки отражения светила.
И все разошлись по своим делам.
Антон Олю проводил до площади тутошной. Попрощался с ней без поцелуев, как с ничейной барышней. Не растрогался ничуть. Море чувств у него уже улеглось. Нева синела и плескалась и плескалась без устали в солнечных прыгающих звездочках.
IX
Вот такой, увы удел справедливости для него, Антона, честно служившего ей и после лета 1953-го года – после четырехлетней флотской службы в Ленинграде, где он и остался уже жить, чтобы учиться дальше.
Не для успешности своей, отнюдь. В нее-то он совсем не верил.
Как поверить? Когда ему приходилось год за годом играть в вечные догонялки со временем – при рабочей шестидневке, вечерних занятиях и питании на бегу; когда он скитался по углам в съемных квартирках, спешил в людные бани и старался подработать какую-то мелочь на прожитье, а подпорок-друзей у него еще не было никаких; когда он непременно хаживал в музеи, галереи, бывал в театрах да выезжал на этюды за городскую окраину, а еще и немало дежурил где-нибудь как просто работник или как комсомолец. Но так крутилось большинство послевоенной работающей молодежи. Что ж: последствие войны. Не на кого было свалить причину этого. И никто не плакался из-за такой доли.
Уравновешенный (правда, не всегда) Антон был к себе более чем придирчив, суров, беспощаден даже; другое дело – что что-то у него не получалось ладно или что-то ускользало от его внимания. Но ведь не переделаешь судьбу под себя – для лучшего удобства.
Они с Оленькой с любовью дружили все это время, пока учились, пока не женились. Поскольку не имели собственного жилья и снять подходящее что-нибудь не могли по финансовым соображениям. А Олины родители – Захар Семенович, бывший фронтовик, шорник завода медицинских инструментов, и Зинаида Никитична, фрезеровщица, занимали лишь небольшую комнатку в коммуналке в доме, стоявшем на улице Льва Толстого: здесь часто курсировали трамваи и делали поворот, и за окном второго этажа слышно тренькал трамвайный перезвон.
Антон все ссорился со своей любовью и находил ее и снова терял, а ее родители желали всем силами одного: старались подкупить ее любовь лестью и обещанными покупками. Ведь это один ребенок был у них. Так казалось Антону.
Мало-помалу случилось так, что заводчане, выпускавшие мединструменты, самолично с благословения и помощи начальников выстроили по проекту в Лахте двухэтажный коттедж, куда и переселились Олины родители, разрешив таким образом проблему жилья для молодоженов.
Х
А перед этим Антон еще записал в дневнике:
4 июня 1957 года. В Эрмитаже вместе с Фимой Иливицким на выставке графики хороших китайских рисовальщиков. Все у них исполнено в завидной мере и на нужном месте.
Поздравил Фиму: взяли его рисунки в печать. И на любовном фронте у него спокойствие: есть какая-то ненадоедливая зазноба…
11 июня 1957 года. Оля и я – в Москве. Мы приехали по железной дороге на неделю, «выкроенную» мной из отпускных дней, предоставленных мне, как работающему студенту, для сдачи весенних экзаменов. Мы прикатили в Подмосковье, к моей старшей сестре Наталье. Для нее сбылось то давнее предсказание сербиянки: она жила в столице с мужем – ласковым черноволосым Славой, заводским токарем и двумя малышами – мальчиком и девочкой. Они снимали покамест подчердачную – на втором этаже – комнату (вроде мансарды) у хорошей знакомой, с которой ладили. Она и нас приветила.
12 июня 1957 года. Утром лежал здесь на матрасе, кинутом на полу, и думал о таком понятии, как счастье. Отчего оно есть? Оттого, что я сейчас не один – рядом со мной Оля? Отчего это так: не в отдельности что-то малозначащее или особенное приятно-близко тебе, а все вместе: буйно распускавшаяся зелень, крик грачей, шум дождя, пьянящий негородской воздух, звук пролетающего самолета высоко-высоко, – создает на мгновение вдруг необъятный объем ощутимого счастья?
Не оттого ли и вечером столько проникновенно прекрасной показалась мне услышанная мной (впервые!) музыка Эльгара, английского композитора? Она сродни Бетховенской…
13 июня 1957года. Мы прошлись по залам Третьяковской галереи, так знакомой мне. И я вновь увидел светлую икону «Троица» Рублева и – предельно ясно – полотна Сурикова, Врубеля, Нестерова, Серова и других живописцев, засеявших несравненным живописанием своим большое поле Руси. Невозможно это взглядом охватить. Велик народ – великие творения.
Кстати: чем удивлен… Странный феномен был недавно со мной. В каком-то полусонном состоянии бродил по холодным залам Русского музея. И на меня давила казавшаяся мне сухость – недостаточная красочность – в живописи на многих холстах. Зато как-то обостренней в этот раз воспринимались мной образцы скульптуры. Вещественней, что ли.
Сегодня сразу же, подкрепившись едой в столовой и проехав в метро к центру города, еще осмотрели экспонаты и в Музее Изящных искусств. Уже давно известные мне и любимые мной из-за моих частых прежних посещений и этого дворца. Да те находились даже на старых местах в залах! Вот те же полотна Рембрандта, барбизонцев-пейзажистов, мастерством которых было восхищался – их колоритной живописностью; вот и холсты импрессионистов разных и также их эпатажные выкрасы, похожие на пробные. Так ли, нет ли, но вследствие подобных проб, по-моему, и вовсе снизошла вся европейская живопись; попросту заигрались живописцы в новые поделки, и не стало никакой преемственности в ней.
14 июня 1957 года. Сегодня прошлись по павильонам Всесоюзной сельскохозяйственной выставки. В тридцатые годы здесь оформлял узбекский павильон Павел Васильевич Пчелкин. Устали от хождения. А вечером были на спектакле "Король Лир" в МХАТе. Очень схематично-посредственное, на мой взгляд, шекспировское произведение, в котором герои своими характерами мало отличаются друг от друга. По-моему, не прав Пушкин, писавший обратное. Артисты-то одинаково кричат со сцены.
Мы недовольные ушли с середины спектакля.
15 июня 1957года. Наконец-то съездили в Кусково – к двум моим младшим сестренкам – Вере и Тане, которые также уже переехали сюда из Ромашино, здесь жили и работали на ткацкой фабрике и учились дальше в вечерних институтах. Они тоже снимали за плату жилье, и не все у них гладко было в жизни. И радость встречи с ними, родными, перемешивалась в сердце с грустью от ясного осознания своей беспомощности в помощи им чем-то существенным, нужным, кроме каких-то слов. Было этого жаль.
Вместе покружили по окрестности. И сразу заметна была какая-то остановка и неустроенность в жизни состарившихся усадебных построек около большого и малого прудов, среди старых и молоденьких выскочивших лип и кленов. Все нуждалось в большой реставрации, ремонте и постоянном уходе служителей.
Что ж…
18 июня 1957 года. Перед отъездом в Ленинград мы вновь поэкскурсировали по Третьяковке. И вновь у меня возникло то же чувство восторга перед красотой живописной, правдивой, выраженной на холстах.
В Большой театр пришли на балет «Фадетта». Но не прониклись его содержанием.
Вследствие этого тоже, наверное, у нас с Олей вышла очередная-таки размолвка. И ее не могло не быть. У нас нет единения ни в чем. Мои художественные работы ей неинтересны, творческие планы безразличны.
– Да ты как художник уже пропал, – сказала она необдуманно и мстительно за что-то, что меня обескуражило: сказать такое своему любимому человеку…
Нет, не уравновешиваются наши любовные (и не очень) отношения. Напротив. А как яснее увидал, протерев глаза, кем Оля становится по характеру, – постепенно потерял самоуверенность свою шаткую восторженность незнайки перед ней, рассудительной. Право, право. Ведь известно: девушка умна сердечностью, а никак не из-за грамотности женской. И зачем плодить ложь?
Да, мы с Олей не ладили и, видно, никак не сладим; она-то кривляется порой, как капризное малое дите. Так что остаюсь один – на один по интересам душевным. Мне и празднично и скверно в душе оттого, только фанатизм держит меня на плаву. Какая-то душевная борьба идет во мне за сокровенный смысл жизни. Есть огромное желание, несмотря ни на что, не на какие препятствия двигаться к цели, к тому, что очень важно, важнее всего.
Иначе зачем я здесь? Зачем на Земле?
А кто кого бескорыстно любил? И почему? И не от этого ли происходят в абсолютном большинстве случаев человеческие катаклизмы?
У Антона давно-давным возникал само собой каверзный вопрос: а для чего? Для чего, допустим, уметь так здорово танцевать или то же самое – уметь, допустим, классно рисовать? Из сил выбиться, но суметь сделать то и то? Но ведь во вред обществу будет то, если будешь делать какие-то каракули и выдавать их за какое-то новаторское достижение, если это так преподносить публично и уверять, что иного пути развития нет. Наверное, нечто схожее происходит и с движением по кругу человеческого общества, и потому происходят революции – в связи с неудовлетворенностью населения в жизни, не то, что ему требуется лишь хлеба и зрелищ. Цивилизации живут не по спирали возвышения. Потребление – его движитель, и это его могила; несчастье – в его бесконтрольности своего поведения. Сдержки нет. Ее еще трудно придумать, кроме застенков.
Человечеству нравится кувыркаться в красивых соблазнах и многажды заблуждаться.
В общем, перспектива задуманного Антону виделась в разводьях – в расплывчатых изгибах. Нерешаемо.
Это он четко уяснил для себя после этой московской поездки.
Свод небесный разорвался.
Потом и два летних месяца – июль и август 1957года – выпали из его творческих планов: сотню их военнобязанных призвали по мобпредписанию на переподготовку, привезли в Кронштадт. В городе-крепости из них готовили химиков флота на бронетранспортерах – спецов по защите населения от радиационного заражения. Но скудной была информация о такой радиации, и поэтому был примитивен сам проводимый инструктаж старослужащих, дающий лишь какие-то зачатки знаний безопасности.
Антон был из-за этих сборов выбит, что говорится, из привычной колеи: лишился летнего отпуска, а значит, возможности регулярного писания этюдов маслом на природе – верной школы самоусовершенствования в живописи, что он завсегда практиковал для себя. С осени уже началась у него всеобычная круговерть. Только успевай поворачиваться туда-сюда. Непрофильная работа да вечерние четырехдневные (в неделю), институтские занятия, идущие вдалеке – в другом районе, да еще ведение изокружка для ремесленников – ребят, встречи и с Оленькой, рисование и писание писем и вечно мучительной прозы, так не дающей ему покоя и духа остановиться.